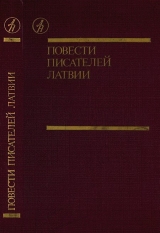
Текст книги "Повести писателей Латвии"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
Соавторы: Андрис Якубан,Мара Свире,Айвар Калве,Харий Галинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
– Что толку, думай я, не думай, ну, скажи, что толку?
– А я вот иногда думаю… Когда мне удается что-то на сцене, я себя чувствую ужасно счастливой, хотя в общем-то ничего особенного… Меня уверяют, все еще впереди, через год-другой мне станут давать роли задрипанных старух, говорят, у меня получается, и зад мой для этого…
– Перестань, Лиесма! – оборвала сестра.
– Ты все еще сердишься?
– Сама не знаю, – прошептала Арика.
– Видишь ли, я любой ценой хочу быть счастливой, несчастливых людей и без того хватает, я хочу, чтобы у Харро жизнь удалась, чтобы наш братец, которого мы даже не знаем…
– И знать не желаем!
– Не перебивай меня!
– Лиесмук, поражаюсь твоей наивности!
– Мы давно с тобой не говорили по душам, ты только примчишься, отругаешь меня, но ведь сама ты как бесилась когда-то в Меллужах, из шкафов все вышвыривала, из буфета, о пол грохала… Мои сумасбродства так похожи на твои.
– Тогда у нас была причина, как ты не поймешь! Мы рвали и метали, когда к матери зачастили эти, эти…
– А будь мы другими, может, матери сейчас было бы лучше, была бы она другим человеком…
– Не верю.
– Спать, спать, утро вечера мудренее, Арика, завтра так или иначе нам к ней ехать, лучше, если вместе съездим.
– Попробую уснуть, Лиесмук, как думаешь, Харро не замерзнет в машине, что-то прохладно?
– У него в машине одеял предостаточно.
– Ну, спим…
IX
Старая Раубиниене сидела за стойкой, склонившись над вязаньем. На том самом месте сидела она десять, двадцать лет назад, а может, и больше, просто моя память не способна была дальше заглянуть. Можно подумать, Раубиниене была повенчана с этим сумрачным, прокуренным, к тому ж еще от пивных бочек и сырым помещением. Просто удивительно, как Раубиниене за долгие годы не нажила себе ломоты в костях или чего похуже. Там и теперь она сидела – располневшая, улыбчивая, слегка кося на левый глаз, отчего никогда нельзя было с уверенностью сказать, смотрит ли она на тебя или нет.
Поздоровался.
– Каким это ветром Лусенова Нольдиса в Нориеши занесло? – подивилась Раубиниене.
– Отца привез, тетушка Раубинь.
– Какая я тебе тетушка! – громогласно выразила она свое неудовольствие, привлекая таким образом внимание немногих посетителей. Все же ей понравилось, что я заговорил с ней. Нехорошо было бы с моей стороны, поступи я иначе: она бы тотчас растрезвонила в Нориешах, какой я пыжливый, да, да, именно пыжливый, надутый, как пузырь, и поди догадайся, еще какой. Я должен был заговорить.
Мы приглядывались друг к другу, Раубиниене своим косящим взглядом ощупывала меня без всякого стеснения.
– Ах, значит, старика привез? – переспросила в упор.
– Да, тетушка Раубинь, ему вроде бы лучше…
– Все так говорят: лучше да лучше, а что ни воскресенье – на погосте в колокол звонят! Я, Арнольд, не глухая, отсюда хорошо слышно.
– Уж так ваш «Рим» устроен, все в нем слышно, не только колокол! – не остался и я в долгу.
– Лусен, что ты хочешь этим сказать? – настороженно спросила Раубиниене, опять уходя в вязанье.
– Да так, тетушка Раубинь, мне-то что… Отцу и в самом деле лучше.
– И что же, резали его? – спрашивает Раубиниене.
Вижу, у буфетчицы проснулось любопытство, надо дать ей возможность выспросить меня, иначе не смогу обратиться со своей просьбой.
– Резали, не без этого, да всего пустяк какой-то обнаружили… – рассказываю, как будто именно здесь, в «Риме», я должен выклянчить отцу еще несколько месяцев, а то и целый год жизни.
– Пустяк, конечно, что они еще могут сказать!.. – никак не успокоится Раубиниене. – Я по глазам точнее скажу, чем иной городской доктор, вспоров живот!
– И что же вы такое можете сказать? – спрашиваю мрачно.
– Хочешь знать? – повысив голос и с ухмылкой отвечает Раубиниене. – Я твоему отцу давно сказала, спета его песенка, только ведь не послушался, что ты с Лусеном поделаешь… У Лусена всегда был несносный характер, точно тебе говорю, он у меня здесь до гробовой доски просидит! У меня, и нигде больше!
– Потому-то я и завернул к вам.
– Плеснуть тебе чего, что ли? – Раубиниене прикинулась, будто не слышит моих слов. – Зашел посидеть, так раскошеливайся!
– Да нет, спасибо, я на машине.
– Ух ты, машиной обзавелся? – старая буфетчица с любопытством прищурилась. – Что ж не подкатил, хоть глаза бы потешить!
– Да как-то не пришло в голову, тетушка Раубинь. Особенно гордиться нечем, куплена взаймы, долгов по горло, тетушка Раубинь.
– Только и слышу, Лусен, все кругом в долгах… Все только и знают, что плакаться, а покататься каждый любит. Да я б могла купить пару таких «Жигулей», причем на собственные денежки! – орет во все горло старуха, трое парней за столиком навострили уши.
– Не каждому такое по плечу, – пытаюсь оправдаться.
– Деньжищ вокруг навалом, только надо уметь их взять! – смеется Раубиниене.
– Должно быть, не везет мне…
– Вон тем пьянчужкам тоже не везет! – Раубиниене кивает в сторону парней. – С самого утра закладывают, ладно уж старики, тем простительно…
– Потому-то я и заехал, тетушка Раубинь, когда мой старик…
– Ну, так что твой старик?
– Нельзя ли сделать так, чтобы ему больше не отпускались напитки?
– Фу-ты, это почему же? – в недоумении переспрашивает тетушка Раубинь.
– Так будет лучше, мать просила…
– Она всю жизнь просит, Арнольд.
На мгновение умолкаю. Раубиниене о моем отце и матери известно куда больше, чем мне, родному сыну. Эта расплывшаяся старуха сидит за стойкой как сама судьба. Сколько жен из поселка Нориеши и ближайшей округи лили слезы у ее стойки! Сколько грозились закрыть буфет, который выпивохи со всего района прозвали «Римом». Как же Нориеши могут без «Рима»?
Ну что, пропустим по маленькой в «Риме»?
Можно торчать в «Риме», из окна любуясь вешними водами Сельупе, можно толковать со стариками о том, как когда-то плоты гоняли, и можно сидеть в «Риме» просто так, до самой смерти, когда придет костлявая, возьмет за плечо и уведет от стола, уставленного кружками пива.
Вековечный прокуренный «Рим»!
– Однако и косят же нынче эти болезни что человека, что скотину, – возобновляет разговор Раубиниене. – На прошлой неделе Олинь прирезал корову, всю зиму чахла, вскрыли… Что бы ты думал – сердце огромное, прямо с ведро, и все как есть белое! Вот ты, Арнольд, ученый человек…
– Стресс, тетушка Раубинь, стресс.
– Это что еще за зверь такой? – искренне дивится буфетчица.
– Перенапряжение, тетушка Раубинь…
– Олинь свою корову в плуг не запрягал, какое там перенапряжение.
– Может, он пас ее по обочинам шоссе, корова жила в сплошных волнениях и шуме.
– Нет, я серьезно, а вы шутки шутите!
Раубиниене осерчала. Я делаю озабоченное лицо – как бы мне получше выразить соболезнование бедной скотинке с белым сердцем?
– Тетушка Раубинь, мне рюмашку вот того, с высокой полки.
– Чего именно, Арнольд?
– Не могли бы плеснуть мне наперсточек «зеленого змия»? – А почему бы нет, Лусен, ведь это ваш фамильный напиток!
– И пусть он будет последним, который «наша фамилия» заказывает в «Риме»…
– Больно много ты хочешь, Арнольд!
– Когда речь идет об отце…
– Ах, теперь об отце вспомнил! – смешивая напитки, роняет Раубиниене.
– Вы не смеете так говорить!
– Фи, это почему же? В «Риме» все смеют говорить. Почему же я не смею? А то, ишь ты, он к отцу любовью воспылал, после того как старик отвалил деньжат на машину.
– Откуда вы знаете?
– Чтобы старая Раубиниене да не знала! – в ответ рассмеялась буфетчица.
– Он дал мне в долг, как и все прочие, и вас это совершенно не касается! – сердито прикрикнул я на Раубиниене.
Старуха вся залилась краской до бородавки на кончике носа. На губах заиграла улыбка, которую портили черные усики. Раубиниене вообще была неказиста, а тут злость изменила ее лицо до неузнаваемости. В незлобивую эту бабу сам дьявол вселился, и быть теперь грому и молнии! Господи, пронеси! Вот такая подойдет к тебе после твоего последнего стаканчика, возьмет за плечо, приподнимет и скажет: «Пошли, голубок, покуковал, и будет, пошли, еще нужно обмыть тебя, еще нужно побрить, обрядить в черный костюм, соседям тоже нужно подготовиться к твоим проводам, пошли, голубок, пошли, довольно тебе веселиться, твоя чарка пуста!»
– Ты чего глазищи вытаращил! – будто топором обрубила Раубиниене. – Кричать на меня вздумал! Горло драть!
– Я не хотел, тетушка Раубинь… – пытался я ублажить ее.
– Ребята, этого рижского баламута требуется выставить за дверь! – Старуха обратилась к трем парням, которые краем уха прислушивались к нашей перепалке, а потому тотчас и не совсем учтиво повернулись ко мне.
– За что? Разве я не имею права попросить, чтобы вы по-человечески отнеслись к моему отцу? Чтобы ему не давали, не давали… – начинаю я мямлить.
– Заплати деньги, выпей свое и ступай, Арнольд! Я сама знаю, что твоему папеньке давать, чего не давать, будто у меня своей головы нет! Я только тем и занимаюсь, сживаю со свету нориешских стариков, ты это хотел сказать?
– Этого я не сказал!
Разопревшими от влаги пальцами она взяла стакан с коктейлем и протянула мне. Я отдернул руку будто ужаленный. Раубиниене смерила меня презрительным взглядом.
– Видишь ли, Арнольд, твой отец был человек приветливый, веселый, любил песни петь, а в молодости даже на скрипке играл… И вот смотрю я на тебя и думаю: отчего ж в тебе нет ничего похожего? Да будет тебе известно, старый Лусен мне многое порассказал…
– Неудивительно, он днями тут просиживал. Мы теперь почти что родственники.
– Все люди между собой родственники… – рассудительно замечает Раубиниене.
– Ну и что же он?
– Долго на тебя злился, когда ты из дома ушел, он ничего не мог понять. Ты хотя бы объяснил ему почему!..
– Вот именно «почему»! Почему я должен это делать! Ни перед кем я не должен отчитываться, и меньше всего – перед вами!
– Долго я буду держать твой стакан?
– Вот деньги, я уезжаю, свое я сказал.
– Ты сказал… – Раубиниене поставила стакан на стойку, села на свое место и занялась вязаньем. Теперь я мог хоть на голове ходить, она б и глазом не повела.
В «Риме» суд скорый.
Едва я закрыл за собой дверь, как сразу же вышли те трое парней. Засунув руки в карманы, поглядывали на меня.
– Ну что, устроим перед пивной потасовку? – спросил я их. – У меня охоты нет, как и у вас, надеюсь. За углом стоит моя машина, если кому-то надо в сторону Риги, могу подбросить.
Парни по-прежнему молчали. Повернулся к ним спиной и пошел, чувствуя на своем затылке их горячее дыхание. Не нападут же они на меня сзади и не сбросят в Сельупе! Столько-то ума у них достанет, но если Раубиниене натравила… Старухе стоит кивнуть, все алкаши запляшут под ее дудку. Опять же отец придет к ней клянчить выпивку… А в «Рим» он обязательно придет, на это сил у него хватит.
Раскрыл дверцу машины. Парни сопят мне в спину и ждут невесть чего. Может, когда я повернусь? Хотят потолковать лицом к лицу? В Нориешах не принято нападать сзади?
Доставить им удовольствие, повернуться?
Арика смеялась бы до упаду, возвратись я с фингалом под глазом. А Увис бы просто сказал: «Ну так что, папа?» До Риги успею придумать песенку о счастье, все же, надеюсь, мне не придется потирать и подбитый глаз и покусанный пчелами подбородок. Для одного раза вроде бы многовато.
Распахнул дверцу, и через миг я в машине. Теперь можно поговорить. Парни глядят на меня исподлобья. Космы у них длиннее, чем в Риге, штанины чуть ли не вдвое шире и значки на лацканах с волком и зайчиком тоже вполовину больше. Мода в Нориешах по сравнению с Ригой ровно вполовину шире, помноженная еще на сотню километров. На расстоянии двухсот километров штанины и значки пришлось бы помножить на двести. Да что это я зубоскалю: сам когда-то не «помножал ли на сто»?
– Болваны стоеросовые! – крикнул я в окно.
– Что ты сказал, дяденька?
– Прочисть уши!
– Чего он там разорался?
Включаю мотор. Еще мгновенье задержаться на берегах Сельупе.
Щелк, щелк: помутневшие после дождя воды, нежная зелень травы, побеленные стволы яблонь в нориешских садах, трое набычившихся парней с кулаками в карманах и красных от злости.
Как бы не схватились за камни, не повыбили стекла в машине.
В отцовском доме, пока возился с сотами, я был другим, и в коровнике, когда разглядывал поросят, и во дворе, прогревая мотор. В дверях коровника стоял отец, высохший, длинный как жердь, на плечи наброшен латаный пиджак. Мать тут же – невысокая, рядом с отцом кажется полной, круглой, как шар, на ногах перепачканные навозом галоши, руки обветренные, в трещинках. Ее серые глаза улыбались, я издали видел, я знал, что глаза ее улыбаются, на какой-то миг в ее глазах затеплилась улыбка.
Было, осталось во мне что-то от того мальчугана, у которого в пастушьи летние месяцы босые ноги покрывались цыпками, и мать по вечерам, уже затемно, смазывала их свежей сметаной, приговаривая всякие ласковые слова. А у меня никогда недоставало сил дослушать: засыпал от усталости.
По дороге в Нориеши я переменился до неузнаваемости. Кем я, собственно, был в Нориешах? Прикатившим из Риги пижоном? О чем я мог и о чем не мог просить Раубиниене? Я повторил лишь то, что наказала мать. Надеюсь, отец не примчится завтра же в «Рим», настолько-то ума у него хватит. Но имею ли я право лишить его такого удовольствия?
Мне ли судить старого Лусена?
Я рано отвернулся от него.
В Риге я стану другим Арнольдом Лусеном. Поставлю «Жигули» во дворе, захлопну дверцу, закрою машину брезентом и поднимусь по лестнице уже совсем другим.
Как опишу Увису сумасшедшую езду Нортопо по песчаным пустырям?
Хочу, чтобы Увис был мне другом. Отчасти мы уже друзья. Дружба наша началась с разборки старых часов. У всех знакомых и соседей я выпрашивал старые будильники. Приносил их Увису, чтобы парень чинил и разбирал их. Вскоре его комната наполнилась шестеренками, пружинами, осями, кривыми стрелками. Да, мы сумели предоставить сыну целиком одну комнату. Наконец-то у нас своя квартира!
Теперь она наша.
Увис родился в жутких условиях. Мы ютились в коровьем закуте, за нашим окном простиралось капустное поле…
— Арнольд Лусен, ты ведешь машину, словно пьяный, нехорошо, когда на шоссе голова ерундой забита…
– Я даже не притронулся к этой зеленой отраве! В этой слабости, Нортопо, меня никак не обвинишь.
– Тем еще больше уязвил Раубиниене… «Зеленого змия» да «Смерть печника» – эти коктейли она смешивает лишь редким знакомым, о друзьях не говорю!..
– Друзей у этой ведьмы нет.
– Давно уже нет, Арнольд.
– Их у нее и не было!
– А у тебя, Арнольд?
– Постой, так нечестно!
– Речь не о Раубиниене, она единственная дочь нориешского лавочника, а посему, что ж ей еще было делать, как не пойти по стопам своего папеньки, у нее это в крови, ее, быть может, и зачали-то у стойки, потому как Раубинь день и ночь делал деньги.
– Прекрати этот треп. Тогда были иные времена, Нортопо, какого черта мы в них смыслим.
– Твоего отца старый мельник собирался обженить на единственной дочке Раубиня!
– Вот была бы хохма, Нортопо!
– Не смейся, Арнольд, быть может, теперь это звучит странно, но Раубинь был чертовски богат, и никаким другим путем до его денег нельзя было добраться, только женившись на дочке, единственной наследнице.
– Поглядел бы Раубинь сейчас на свою дочку…
– Чем же она не хороша, живет не тужит! Заботливая мать всех нориешских забулдыг… Сопьются старики, на их место заступают новые пьянчужки, поспевай только разливать! Латыш в таком поселке выпивает жутко много!.. У Раубиниене работы хватает.
– Перестань, Нортопо! Тут конца не будет!
– Да, твоя Арика большая мастерица по части длинных разговоров, но так удобнее, Арнольд, – выстроить рассуждения в диалог, удобнее для нас обоих… А к нотациям Арики ты привык. Она – учительница…
– Сам просил меня вести машину осторожней!
– Надеюсь, Арнольд, ты не станешь считать ворон.
– Боюсь, ты знаешь меня лучше… Но с чего ты взял, что Раубиниене…
– Да не Раубиниене, Арнольд, а старый мельник, который умер, объевшись горячих лепешек со сметаной, и которого ты даже не помнишь, однако, не помри он в одночасье, как знать, как знать… твой папенька…
– Что ты хочешь сказать?
– Уверен, он бы, как дважды два, заставил твоего папеньку пощупать толстую мошну Раубиня.
– Ох, Нортопо, нагородил же ты чепуховины!
– Совсем не я, а время и здравый рассудок твоего деда.
– Катись к черту, у меня ноги вспотели!
– Это оттого, Арнольд, что в детстве ты много бегал босиком. Сейчас твои ноги всегда обуты, оттого потеют, все бывшие босяки в Риге ужасно потеют.
– Уж ты скажешь…
– Ну сколько раз в году ты снимаешь башмаки? Раз-другой в Меллужах на травке во дворе у тещи да в отцовском доме босиком пробежишь искупаться в Тальките.
– Ладно, Нортопо, сейчас у той вон опушки остановлю машину и разуюсь.
– Не поможет, Арнольд, твои ноги обречены потеть в башмаках, разувайся не разувайся, это делу не поможет.
– Сейчас у нас машина, пятьдесят километров туда и обратно для нас не проблема!
– Ты шутишь. Скажи, много ли до сих пор ездил?
– Давай друг другу не колоть глаза, так разговор у нас не наладится, Нортопо, я не потерплю, чтобы…
– Можешь терпеть, а можешь не терпеть, только поглядывай на дорогу, хорошего будет мало, если ты налетишь на придорожную березку, посмотри, как выросли! Когда ты здесь гонял на велосипеде, они были совсем маленькие…
– Из тех мальчишек, что сажали здесь когда-то деревья, немногие остались в живых. Должен напомнить тебе, Нортопо, что их сажали мальчишки двадцать седьмого года рождения.
– Монвид Димант тебе рассказал об этом?
– А я, по-твоему, совершенный невежда?
– Этого я не сказал.
– Монвид – мой ближайший друг, я не способен на него сердиться, он феноменален, достаточно ему кинуть взгляд на березки, чтобы сразу сказать: эти сажали ребята двадцать седьмого года рождения, а между ребятами двадцать седьмого и двадцать восьмого года рождения непроходимая пропасть…
– Кое-где призывали и родившихся в двадцать восьмом году. Но сегодня это не проблема, Арнольд, тем людям скоро будет пятьдесят, а березкам их немного меньше… Не советую тебе своими «Жигулями» приклеиться к березке с клейкими листочками… Твоего Монвида взяли в зенитчики, оттого он из этих березок делает проблему, только что он может тебе рассказать? Вспомни шутку, о которой даже Монвид Димант неохотно вспоминает…
– Ты про тот случай, который с ним произошел где-то под Гамбургом…
– Да, Арнольд, ты слышал об этом? Он же сам тебе рассказывал… Как-то ночью парни привязали Монвида к койке, очки ему заклеили бумагой и принялись изо всех сил громыхать табуретками, размахивать перед носом зажженной газетой, чтобы разыграть…
– Самое ужасное, что в тот момент действительно начался налет, и Монвид так и остался привязанным к койке в горящей казарме. Скажу тебе, это уже не шутка!
– Вот так шутили рожденные в двадцать седьмом году. Ты-то казарменной жизни не нюхал и не вытаскивал из горящих вагонов людей, замурованных в гипс, у такой гипсовой колоды было два отверстия – одно, чтобы помочиться, другое для глаз…
– Не желаю слышать, Нортопо!
– Молчу. Обращаю внимание… придорожные эти березки весьма коварны, их следует остерегаться… Да и вы не очень складно пошутили, метнув зажженную ракету на крышу дровяного сарая Олиня! Или, может, я это сделал, Арнольд?
– Виновных так и не нашли…
– Теперь-то ты можешь признаться.
– И не подумаю, сарай давно сгорел, какой смысл признаваться теперь?
– А когда вышвырнул шкаф из окна общежития… Ты тоже долго не признавался, покуда тебя не вынудили…
– За это я дорого заплатил…
– Арнольд Лусен, веди осторожней машину! Дорога – неподходящее место для шуток!
– За шкаф я выплатил все до последней копейки.
– Ты так думаешь?
– Да, до последней копейки я выплатил за шкаф… А что касается дровяного сарая Олиня – и не подумаю, вот еще! Так никаких денег не хватит!
– Арнольд, ведь так оно и есть – не хватит! Ты еще не рассчитался за квартиру, теперь «Жигули»… Да и помощь Монвида Диманта…
– Это он по дружбе!
– Не прикидывайся: не друг тебе Монвид, он просто «удобный человек», с помощью которого ты получил квартиру, как и сестра Арики, а теперь благодаря ему ты заимел машину – попробуй сказать, что он не полезный человек! Он живет для того, чтобы разыгрывать всесильного благодетеля. Есть такая разновидность самоутверждения.
– Нортопо, я тебе не советую!.. Монвид с самого детства мне друг, право же, не советую!
– У Монвида вообще не может быть друзей после того случая, когда его бросили одного в горящей казарме привязанным к койке, с заклеенными стеклами очков, больше над ним уж никто не подшучивал, и у него нет друзей. Ты для него был собачонкой, которую можно науськивать. Ты прыгнул за ним в Сельупе и напоролся на сваю, он научил тебя проделывать всякие фокусы с ракетными патронами… И что из этого вышло… Он постоянно вынужден был бравировать лишь для того, чтобы отделаться от страхов.
– Я запрещаю, Нортопо! Не верю, что тридцать лет спустя еще можно бояться!
– Молчу, однако сдается мне, ты сам затеял этот разговор о друзьях? Хочу тебе доказать…
– Дружбу Монвида Диманта я не покупал за деньги. У меня за плечами тридцать восемь лет, и в таком возрасте совсем остаться без друзей… Быть может, с Монвидом и в самом деле что-то неладно… До сих пор в нем нуждался я, но может статься, и я когда-нибудь ему…
– Устраиваешь фейерверки, приглашаешь Монвида в рестораны, можешь выбросить кучу денег! В течение трех-четырех часов распускаешь перья и пыжишься, точно павлин. Как и перед бывшими сокурсниками, стоит лишь кого-нибудь изловить на улице. Арнольд, признайся, ведь ты буквально охотишься за ними, чтобы час-другой поблистать, покрасоваться. Ракеты, Арнольд, сыплются на твою собственную крышу, как ты не понимаешь?
– А тебе хотелось бы видеть меня одного на шоссе, совсем одного в этом железном ящике? Не выйдет, Нортопо, у меня есть Увис. Он мой единственный друг, ему принадлежит все, когда-нибудь все перейдет к нему…
– Вспомни, как однажды ночью он плакал и просил простокваши… Ты всю кровать его обложил часами, а он просил простокваши, и как назло простокваши в тот момент не оказалось дома, ты таскал ему склянки, флажки, будильники, пластмассовые автомобили, плюшевого мишку с оторванным ухом, ему же в тот момент хотелось простокваши… А ты тут разглагольствуешь – «все перейдет к нему»… Возможно, перейдет, но вспомни просто квашу!
– Знаешь, довольно!
– Да, Арнольд, может, так будет лучше. Скоро уже Рига, а что скажут твои заимодавцы, если ты разобьешь «Жигули»? Ведь ты всего два месяца как за рулем, помни об этом…
– Больше ни о чем не желаю помнить!
– Ответь мне только: кем ты будешь в Риге?
– Посмотрим, когда поднимусь в квартиру, переступлю порог, тогда и решим. Смотря по тому, кто окажется дома. Арика или Увис, все зависит от этого…
– А сейчас обгони-ка этот вонючий драндулет, гляди, все стекла тебе задымил!
– Нортопо, я не намерен с тобой состязаться в бешеной гонке, этим занимайся в своем черепахоподобном экипаже на полигоне, где за тобой следят сотни глаз телекамер и тысячи присосок-щупалец на выбритом затылке… А сейчас катись из моих «Жигулей»!
– Хочешь обучить Увиса самоконтролю и самоанализу? Зачем?
– Приближаемся к Риге, время расставаться. Ты был не слишком любезен со мной, Нортопо. Я не могу сосредоточиться, прости меня, не могу… Отец… Сам понимаешь, мой бедный отец…
– А как же песенка о счастье, Арнольд?.. Помнишь, какую шутку выкинул Увис с керосином?.. Набрал полный рот и как дунет на зажженную спичку, чуть не остался без глаз. Где он всего этого набрался? Это ты, Арнольд, задурил ему голову всякими фокусниками, канатоходцами. Канат он, слава богу, пока еще с балкона на балкон не перебрасывал, а вот ресницы и брови опалил основательно, и откуда у него такая страсть к огню?..
Включил приемник. Бодрые ритмы оркестра прогнали «мучителя Нортопо». Повсюду на полях работают тракторы. Сажают картошку. Любо посмотреть на обработанные поля. Но ведь день-то праздничный!
Старик, должно быть, порадовался полям, оттого и был вчера такой неразговорчивый. Впрочем, кто его знает, может, не поэтому…
Как рассказать Увису о том коротком мгновении, когда ко мне пришло ощущение жизни: я сам живой и все вокруг меня живое… Теленок прикоснулся губами к моей руке и стал ее посасывать… Тугими губами теленок тискал мою руку, всеми четырьмя копытцами упершись в траву, в ту пору мне навряд ли исполнилось шесть лет, нам с теленком было одинаково хорошо в золотисто-зеленом мире, и я осознал… как-то внезапно осознал, как и тогда, когда в речке Тальките обнаружил утопленных котят… Кто-то привез их на мельницу и бросил у плотины… Отец такого никогда бы не сделал, никогда, никогда – по сей день и мысли не допускаю. Вначале был теленок и лишь потом котята в мельничном пруду, хорошо хоть, в такой последовательности, а не наоборот.
Сыновняя любовь к отцу, отцовская нежность к сыну!
Не рано ли еще включать рембрандтовское освещение? Оно было всегда, оно, пожалуй, вечно. Пожалуй, я должен серьезно поговорить с Увисом. А почему «пожалуй»?
Сомнения и страхи по той простой причине – все движется, все меняется… Даже картины Рембрандта. От босых ног сына до седой стариковской бороды. Толстокожие и грязные сыновние пятки на переднем плане и отцовские, дедовские пожелтевшие руки с потрескавшейся кожей на плечах сына… Я был так поражен, увидев, как Увис пошевеливает пальчиками ног и пальчиками рук! Пальчиками своих ног он сыграл на мне целую гамму… Сложнейшая гамма – от пальчиков его ног до моего щетинистого подбородка! На полотне Рембрандта много затемненных мест, даже Арика не может объяснить их. Едва расписавшись, мы ночным поездом отправились в Ленинград и весь следующий день провели среди картин. Арика так хотела. Я изрядно потратился, но Арика так хотела. Тогда я подрабатывал, уже тогда у меня водились деньги.
Рембрандт и деньги как-то не сопрягаются… То были самые счастливые наши дни. В Арику влюблялись многие. Ей нравилось разыгрывать спектакли. Как позже и сестре ее Лиесме… Арика была даже красивее…
Почему «была»?
Мы с ней ровесники. Я сейчас в самом зените, дальше – путь к старости. Дверь открыта – можешь войти!
Сколько лет было Рембрандту, когда он написал ту женщину, ту женщину… наготу которой окропил золотой дождь?
Щелк, щелк: та женщина осталась на пленке, и только, даже имени ее не запомнил… В тот день я был сам не свой, да и Арика тоже, больше ни о чем не могла говорить, лишь о рембрандтовском освещении.
А может, в тех картинах нет ничего такого, по чему Арика сходила с ума? Вот подъезжаем к Риге, и здесь придется все выбросить из головы – и Нортопо, и картины, и Раубиниене, и Монвида, и то, каким ты будешь, когда поднимешься вверх по лестнице и отопрешь дверь квартиры, ты должен успокоиться, успокоиться, совсем успокоиться, чтобы никаких метаний!
X
– Никогда тебе не прощу! Как ты могла позволить мне проспать! – закричала Арика, открыв глаза и обнаружив, что часы показывают полдень. В одной рубашке, босиком она соскочила с постели и стояла посреди комнаты.
– Ты так крепко спала, что я не решилась… Мы с тобой до четырех утра проболтали, встали бы раньше, головная боль замучила, – оправдывалась Лиесма.
– Я давно должна быть дома.
– Арика, ты забыла, мы ведь собирались в Меллужи.
– А если он уже дома?
– Золотце, мы живем в цивилизованном мире, выйди в коридор и позвони. Не понимаю, отчего ты вечно дрожишь как осиновый лист. Куда может пропасть тринадцатилетний сорванец!
– Чует мое сердце недоброе, со мной такое бывает, почти на ощупь чувствую, тут что-то не так.
– Вместо того чтобы рассуждать, пошла бы и позвонила, только что-нибудь на плечи набрось, у нас в квартире один старикан большой любитель подглядывать, только и ждет, чтобы какая-нибудь женщина выскочила в коридор неодетая…
Квартира Лусенов не отвечала, длинные гудки, и больше ничего.
Лиесма колдовала у венгерской кофеварки. Комната наполнилась ароматом кофе. Арика почувствовала, как закружилась голова, и поспешила присесть.
– Нет его дома, Лиесмук… – прошептала с тихим отчаянием.
– Увис в Меллужах, успокойся!
– Он что, сказал тебе, откуда ты знаешь?
– А куда еще мог убежать твой олененок?
– Я с ума сойду!
– Арика, не узнаю тебя! Ты всегда отличалась хладнокровием, всегда сохраняла трезвую голову… А теперь тебя как будто подменили! Поищу сигареты, ладно?
– Где Харро?
– Он внизу в машине кофе пьет, я его звать не стала, ты так крепко спала, сестричка…
– Я одеваюсь, одевайся и ты, сейчас же выезжаем, медлить нельзя!
– Не горит, сестрица, сначала напьемся кофе.
– Будешь копаться, возненавижу тебя!
– На веки вечные? – усмехнулась Лиесма.
– Ну как ты можешь?!
– Просто я вспомнила: ведь это из нашего детства – «возненавижу тебя на веки вечные»… За день успевали по крайней мере трижды «возненавидеть» и снова «полюбить», теперь эта игра не клеится, каждое слово принимаешь всерьез, прямо мороз по коже…
– Перестань, нам надо спешить, как ты не поймешь?
– Крикну Харро, пусть мотор прогреет. Ночью были заморозки. Я спустилась вниз, гляжу, вишневая машина Харро белым-бела от инея, а сам он, бедненький, свернулся калачиком…
– Ты была у Харро?!
Это удивило и задело Арику.
– Да, сестричка, а что тут такого, выглянула в окно, машина совсем побелела, что было делать, наспех сварила кофе, взяла с собой одеяло из верблюжьей шерсти!
– Ты осталась с Харро?
– Какое это имеет значение, сестричка?..
– Я спрашиваю: ты осталась с Харро?
– Ну, если ты настаиваешь и непременно хочешь знать. Только не понимаю, почему ты меня осуждаешь, сестричка…
– Ты была в машине у Харро, миловалась с ним, в то время как мой Увис неведомо где, – с досадой заключила Арика.
Лиесма смутилась, щеки у нее зарделись. Она стала поспешно одеваться.
– Похоже, мы поругались… – Словно прося прощения, Лиесма обняла сестру за плечи, Арика досадливо сбросила ее руку. Лиесма обиженно отвернулась.
На пустынных улицах Харро гнал вовсю. Переехав мост через Даугаву, он принялся насвистывать и просвистел до самого моста через Лиелупе.
Арика едва себя сдерживала; так ей хотелось одернуть его, чтобы прекратил этот дурацкий свист, ну сколько можно – усы как у кота топорщатся, сам весь помятый, однако довольный. Еще бы: Лиесма спозаранок примчалась к нему с кофе и одеялом из верблюжьей шерсти… Быть может, это и есть желанный образ жизни молодого мужчины – обитать в автомобиле, по ночам объезжая своих подружек, осчастливливая таких, как Лиесма. Совсем неплохой вариант! Может, и Арнольда переселить в машину – будет ли он посвистывать? Нет, тут требуется крепкое нутро, такое, как у Харро. Сначала она разыщет Увиса, а уж потом предложит Арнольду «вариант Харро». Сейчас Арнольд греется в лучах родительской любви.








