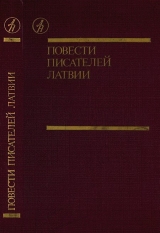
Текст книги "Повести писателей Латвии"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
Соавторы: Андрис Якубан,Мара Свире,Айвар Калве,Харий Галинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
– Вот здесь небольшой комплект душещипательных запахов: молодой травки, гвоздики, нарциссов, жасмина, прелых листьев, морских водорослей… Я мог бы продолжить список, но, думаю, нет смысла, сейчас мы прекращаем сеанс.
– Увис, прошу тебя, береги себя!
– Нортопо объясняет: полет совершенно безопасен! – заносчиво ответила золотистая тень.
– Как ты разговариваешь, сын!
– Нортопо просит прощения, – отозвалась тень.
– Один момент, Нортопо! – поспешно заметил Арнольд. – Сеансы вы передаете при помощи лазерного устройства?
– Нортопо подтверждает: на «Золотом облаке» действует усовершенствованная установка для усиления света с помощью стимулирующего излучения.
– Ваша установка чрезвычайно эффективна!
– Нортопо приятно слышать, что Земля подтверждает это.
– Арнольд, опять ты мелешь вздор!
– Дорогая, – прошептал Арнольд, – мне все равно, о чем говорить, лишь бы с ним говорить… Хочется хоть немного задержать Увиса.
– Тебе не удастся, видишь, свет меркнет, он растворяется в темноте… Увис, когда следующий сеанс?
– Он делает какие-то непонятные знаки! Звук совершенно пропал. Ты не дала мне вовремя спросить, когда следующий сеанс! Опять нам сидеть как на иголках!
– Ты уверен, что это был наш сын Увис?
– Арика, ты еще спрашиваешь!
– То, что мы видели… что видели, Арнольд… Я больше ни в чем не уверена!
– Да, мы разговаривали с Увисом, и мы видели нашего сына. Его можно было узнать хотя бы по очкам! Видимость была более чем хорошая.
– Арнольд, не верю я глазам своим, я больше ничему не верю! Не понимаю, как ты совершаешь эту мистификацию? Это ужасно!
– Отпусти мою руку, видишь, кровь…
– Прости, Арнольд, я не хотела сделать тебе больно. Пойди на кухню, там на полке зеленка…
– Перевяжу платком, Арика, так не хочется вставать, идти на кухню.
– Я помогу тебе, Арнольд…
– Как мы трогательно-предупредительны! После сеанса становится немного легче!
– Опять ты смеешься!
– Жаль, что Увис сейчас не видит нас.
– Арнольд, а ты уверен? У меня такое чувство, будто вся Рига заглядывает в наши окна, мы сидим тут как подопытные кролики, а они наблюдают за нами… Они-то знают, где находится Увис, но хотят услышать, что скажем мы.
– Не беспокойся, мы совершенно изолированы, к нам никто не может заглянуть, у нас даже электричество отключили! Я вижу лишь твой силуэт, все остальное во тьме, а ты, что видишь ты?
– Темнота меня успокаивает.
– А ты не боишься заснуть?
– Арнольд, ты говори, если мы все время будем разговаривать, мы как-нибудь продержимся, не уснем.
– Ты могла бы завести один из своих любимых реквиемов.
– Разве проигрыватель работает?
– Магнитофоны и проигрыватели работают и на батареях, они как будто не разрядились, я недавно проверял.
– Арнольд, найди пластинку Моцарта, а заодно и сигареты!
– Курить больше нечего.
– Умоляю тебя: хоть из помойного ведра выуди, разыщи какой-нибудь чинарик!
– Арика, возьми себя в руки, мы переворошили все пепельницы, по-моему, еще два дня назад, ты же держалась все время.
– Думаешь, уже прошло два дня? – тихо спросила Арика, склонив голову на спинку кресла.
– Может, и больше…
– Я даже в школу не звонила… удивляюсь, как это они не примчались.
– Кто «они»?
– Мой класс…
– Ты забываешь, Арика, на улице май, дети счастливы, что нет уроков, а ты ждешь, чтобы они тебя разыскивали.
– Сама не знаю… Раз столько времени прошло, они должны были прийти. Значит, не любят меня.
– У тебя начинаются заскоки престарелых учительниц – они, видите ли, должны были прийти… Да они и видеть тебя не желают, куда там еще приходить!
– Это ты напрасно, Арнольд! Когда-нибудь они поймут, вот увидишь… Они еще могут прийти…
– Да уж когда-нибудь поймут, сколько сил ты отдавала экскурсиям, сколько раз наведывалась к их родителям, сколько времени проводила в спортивных лагерях! Летом мы тебя почти и не видим.
– Не сердись, Арнольд, этим летом мы непременно куда-нибудь съездим, самой хочется, я уже предупредила мать и Лиесму…
– Когда начнется мой отпуск, тебе нужно будет в школе красить полы.
– Не придирайся, свой отпуск можешь передвинуть пораньше.
– Ты хотела послушать Моцарта.
– Да, Арнольд, сделай одолжение, но все же посмотри, может, найдется что закурить.
– После всего, что произошло, захочешь ли ты меня видеть? Мы рассуждаем так, будто Увис уже вернулся. Ни в какой отпуск я не поеду, буду сидеть и ждать следующего сеанса.
– Не можем же мы вечно сидеть, будь мужчиной, сделай что-нибудь! Спаси нашего сына!
– Судя по тому, что видели во время сеанса, ему ничто не угрожает.
– У тебя ледышка вместо сердца, Арнольд, вслушайся в эту музыку, может, она сумеет тебя отогреть!
Совершенно разбитые, усталые, сидели они в креслах с зеленой обивкой и слушали Моцарта. Теплая, трепетная музыка обнимала Арику, отгоняя усталость. Музыка убаюкивала ее, точно маленькую девочку. Веселые лужайки перемежались кромешной тьмой пещер, залитые солнцем луга в сверкании росных трав и глухие еловые боры, болотные топи, где увязают ноги и томится душа, – все это было в музыке.
– Несчастье двух людей всегда останется несчастьем только двух людей, мы должны думать об Увисе, – первым нарушил молчание Арнольд.
– Не увиливай, Арнольд! Что стало с твоими великими планами? Удивляюсь. Не могу понять, что с ними стало. Твоя бесцельная суета и меня делает соучастницей, жалкой соучастницей. Возможно, и Увис начал сознавать!
– В чем ты хочешь меня упрекнуть? В разговорах о мещанстве я не намерен участвовать, с этим обращайся к Лиесме, она может часами разглагольствовать о мещанах и геранях на подоконниках. Арика, я не боюсь быть мещанином, тебя, может, это пугает, а меня ничуть.
– Ты даже не понял, что я сказала…
– Как же не понял: тебе плохо со мной.
– Не всегда. Только я не могу забыть, каким ты был на улице Сеяс, когда Увис был маленьким.
– Арика, ну что мы могли сделать! Мы должны были выстоять. Быть может, я был несносен, но что я мог сделать?
– Как ты там сказал… «Несчастье двух людей всегда останется несчастьем только двух людей…» Хочешь, я прочитаю тебе одно неотправленное письмо военных лет? Я его знаю наизусть… Вся громада войны воплотилась в «несчастье двух людей», как и наша жизнь – в «счастье двух людей»… Хочешь, почитаю?
– Не надо, Арика, мы должны беречь силы. Вечно ты преувеличиваешь, Арика, несчастье двух людей есть несчастье только двух…
– Замолчи, Арнольд, хочу слушать музыку!
– Как угодно, дорогая. Сейчас переверну пластинку.
– Вслушайся и попробуй запомнить время. Как долго играет одна пластинка?
Арнольд несколько раз менял долгоиграющие пластинки. Арика слушала, прикрыв глаза, легонько покачиваясь в такт музыке. В тусклом луче света, проникавшем с улицы, она была так красива, Арнольд в душе всегда радовался красоте жены, в первые годы он нередко ловил себя на том, что умиляется: эта женщина его Арика? Она с ним делит постель?.. Попроси его кто-нибудь описать красоту Арики, он бы не сумел, Арика – это Арика, белокурые, волной спадающие волосы, плотно сжатые губы; но он-то знал, какими бывают эти губы – податливые, влажные, горьковатые…
Точно так же ничего особенного не смог бы он рассказать и про Увиса: долговязый, худой, скоро будет метр восемьдесят… светлые, неопределенного цвета волосы, в очках… Одет был в обычную школьную форму; Арика следила за тем, чтобы Увис носил форму. В школьную форму и плащ… Возможно, придется подробно описать наружность Увиса. При этой мысли Арнольд вздрогнул, горячий ток прошел по телу. Арика открыла глаза и некоторое время молча за ним наблюдала.
– Поражаюсь твоему спокойствию, Арнольд, – сказала она, еще вся во власти музыки.
– Я пытаюсь сохранить ясную голову.
– Ты лучше постарайся позвонить, может, ответят…
– С таким же успехом можешь попытаться и ты! Аппарат между нами на табурете, достаточно протянуть руку… Или подать тебе на колени?
– Куда звонить, Арнольд, в больницу… в милицию? – устало спросила Арика.
– Не имеет значения! Перед тобой длинный список телефонов, куда следует звонить!
– Не понимаю, почему ты все перекладываешь на меня!
– Потому что я против всяких звонков. С тех пор как я увидел его во время сеанса, я – против. Наши звонки могут рассердить Увиса, я этого не хочу, мы должны вести с ним честную игру. На сей раз пусть он сам решит, когда ему вернуться и возвращаться ли вообще.
– Но ведь это несерьезно! Пошел ты знаешь куда со своим воспитательным принципом «не повышая голоса»!
– Поступай как считаешь нужным, я тебе звонить не запрещаю! И впредь прошу – будь по возможности спокойней… Скажи то же самое, только спокойно, ровно. А то вся издергаешься… Я-то могу тебя понять, но Увис…
– Спасибо за наставление! Увис больше не твой. Можешь самому себе куковать о прелестях двухтысячного года, нортопируй на здоровье, а нам с Увисом довольно!
– Поздно спохватилась… Сомневаюсь, чтобы Увису пришлись по душе твои окрики, парень он колючий. Не подпускает к себе, Арика.
– Поздравляю, Арнольд, и тебя не подпускает!
– Я частенько задумываюсь, отчего он такой. Отец мог из меня веревки вить. Будил меня с первыми лучами солнца – и выгоняй коров на пастбище. Иной раз мать пожалеет… позволит лишний часок поспать, только не дай бог отец увидит!
– Без этого ты не можешь, ко всему приплетешь свое пастушество!
– Извини, я не собираюсь скрывать того, что было! – обиделся Арнольд. – Просто я пытаюсь уяснить, отчего порвалась связь с домом.
– Арнольд, ты их не любишь.
– Неправда!
– Разве что в последнее время, после того как отец дал деньги…
– И как у тебя язык поворачивается! В конце концов, отец дал только в долг!
– Знаю я тебя, – рассмеялась Арика.
– Неужели я не доказал, что могу сам заработать, своими руками! Всегда расплачивался с долгами до последней копейки и впредь намерен поступать точно так же! Чтобы ты потом не могла мне колоть глаза!
– Ты как одержимый, я только и слышу: долги да долги!
Арнольд подскочил со своего кресла и заметался по комнате, рассуждая на ходу:
– К двухтысячному году вся эта рухлядь не будет представлять никакой ценности! Наши пожитки свезут в огромные кучи хлама, присыплют сверху землей и засеют травой! Все, ради чего мы сегодня из кожи вон лезем, превратится в зеленые холмы! Хочешь, я все повыбрасываю из комнат, чтоб остались лишь голые стены да матрацы!
– Не кричи, Арнольд! Кто тут призывал говорить спокойным, ровным голосом?
– Скажи мне, Арика, как ты себе представляешь настоящую жизнь? – тихо спросил Арнольд, остановившись за креслом жены. Ее волосы щекотали пальцы. Арнольд взял их в ладонь и принялся поглаживать.
– Отыщется Увис, тогда посмотрим. Сейчас одно скажу: не знаю, будем ли мы вместе, возможно ли это!
– Арика!
– Об этом потом поговорим, ты сам сказал – мы должны вести себя так, как будто ничего не произошло…
– Я часто думаю о нашем поколении, Арика. Сейчас мы на высшей точке взлета, или, как сказал бы мой отец, в самом соку. Только ненадолго это. Очень даже скоро мы будем ковылять, опираясь на трости, водить внуков на прогулку. Нас сменит следующее поколение, и это будут наши дети. Хочу, чтобы Увис не повторял моих ошибок… Хочу, чтобы он ушел далеко вперед! Мне ничего не жаль. Одного не хочу, чтобы кто-то повторял мои ошибки!
Помолчав, Арнольд заговорил опять:
– Не могу повторять ошибок моего отца. Когда я больше всего в нем нуждался, он уже был опустошенным человеком. Да и сами мы… окружили себя барьером, я боюсь всякого незнакомца, у меня нет новых друзей, старые растерялись, стали чужими. Раз в год случится с ними выпить, и это все. Помнишь, Арика, как мы собирались в веселые компании, как спорили… – Арнольд говорил увлеченно, громко, при этом сам же на себя сердился: ишь проповеди читать вздумал, по душам поговорить захотелось… при иных обстоятельствах ни за что бы на такое не решился.
– Я слушаю, Арнольд, продолжай…
– Сознаюсь, я многим пожертвовал, но не могли же мы жить, как пташки, прыгая с ветки на ветку. Ты сама видела, с каким трудом мне все давалось. Ты говорила о моих великих планах! Имеешь в виду науку?
– Ты ждал, что все к тебе само придет.
– Нет, Арика, на это я не рассчитывал и сейчас не жду, что кто-то мне преподнесет все на блюдечке. Скорее всего такого добряка я за руку укушу. Беда вот в чем: я потерял себя.
– И Увиса.
– Увис к нам вернется, никуда он не денется.
– Ты надеешься, что все пойдет по-старому? А не боишься, что мы можем остаться вдвоем – сидя в этих зеленых креслах, в беспросветных ожиданиях?
– Может, мы что-то можем исправить? Давай этим летом куда-нибудь съездим втроем, ты откажись от своих пионерских лагерей, Увис не поедет в Меллужи, вместо этого отправимся в путешествие к Эльбрусу!
– Я уже начинаю дожидаться старости, когда ты грозился отвезти меня в Вененцию…
– Спасибо, Арика, принимаю это как обещание идти со мной навстречу старости.
– Я же говорю тебе, Арнольд, мы состаримся, сидя в этих зеленых креслах в ожидании очередного сеанса. Оставь в покое мои волосы, сколь бы глупо это ни звучало, но твои ласки волнуют меня!
– Прости!
– Присядь, они могут начать в любую минуту.
– Если бы работал телефон, я позвонил бы в институт доктору Айзстрауту, может, он сумел бы объяснить, что с нами происходит.
– Тому мальцу с твоего курса, которого в сорок четвертом году «барышня Фания случайно потеряла при бомбежке Елгавы»?
– Так ты помнишь Айзстраута!
– Еще бы, он увивался вокруг меня почти в то же время, что и ты… Тогда единственным его достоинством было то, что его потеряла при бомбежке барышня Фания, не то бы он разгуливал по улицам какого-нибудь канадского города. Вот уж не думала, что из этого гадкого утенка вылупится доктор наук!
– Арика, ты сожалеешь?
– Нет, ты был неотразим в ту пору и так обходителен!.. Айзстрауту до тебя было далеко, ты попросту затмил его. У тебя даже деньги водились!
– Помнишь, как мы однажды лежали на песке почти у самой воды… вдали попыхивал пароходик, с моря тянуло холодком, ты курила, а я любовался, как ветер раздувает огонек сигареты…
– Арнольд, сейчас же замолчи, как ты смеешь вспоминать о сигаретах! Или это месть за доктора Айзстраута? Нехорошо с твоей стороны! Не понимаю, почему они не начинают сеанса. У меня такое ощущение, что мы просидим здесь до второго пришествия. Почему к нам никто не приходит? Мы обо всем переговорили, и все равно никто не идет!
– Что нам еще остается! Хоть случай представился поговорить!
– Не узнаю тебя. Всегда ты был человеком действия, всегда находил хоть какую-то лазейку.
– Отлично сказано: «лазейку»! Мы вспомнили про Айзстраута… А ведь я мог быть на его месте!
– Кого ты собираешься винить? Уж не барышню ли Фанию? Айзстраут все валил на нее… Кстати, ты первым вызвался ему позвонить! Ну что ж, возьми и позвони! Позвони премудрому доктору! Говорят, он до сих пор живет холостяком, учти это…
– Не смешно, Арика.
– Выключи музыку, с минуты на минуту начнется сеанс. Я чувствую, момент уже близок! Я вся горю: Арнольд, дай руку, вот так, теперь мне лучше, подвинь кресло ближе!
– Мужайся!
– Не слышишь стук?
– Нет, Арика, ничего не слышу.
– Только не начинай с «Нортопо», ужасно режет слух.
– Успокойся, не заводись!
– Посмотри, какие рембрандтовские тона!.. Черный, потом золотистый… Откуда-то красный взялся! Сейчас покажется! Прежде всего замечаю его очки, ты что-нибудь видишь?
– Рембрандтом тут и не пахнет!
– Сколько его полотен ты видел в своей жизни, – обиделась Арика.
– По-твоему, Рембрандту полагалось бы ехать членом нашей распадающейся семьи?
– Прошу тебя, помолчи, сейчас покажется Увис! Он ушел, но я чувствую… Он здесь. Это бесспорно рембрандтовская гамма! Тут не может быть двух мнений! Как думаешь, что бы это могло означать? И как я сразу не сообразила… Вот что значит волнение… но я должна была заметить… видишь, теперь как будто начинает моросить золотистый дождик… Вот он, мой сын… Заткну уши, чтобы не слышать это ужасное «говорит Нортопо»! Ты кивни, когда он закончит. Он вернется, хотя и ушел… – бессвязно бормотала Арика. С мольбой во взоре она смотрела на золотистые силуэты.
Арнольд крепко, до хруста стиснул кулаки, он старался не потерять самообладания. Вместо громкого «говорит Нортопо» у себя за спиной услышал:
– Добрый вечер!
Промокший до нитки, но веселый, на пороге стоял их сын Увис Лусен.
– Я до костей продрог, мне срочно нужно переодеться, – объявил он, ожидая, когда родители встанут и оставят его в комнате одного. Раздеваться в их присутствии ему было вроде неловко. Он ждал, недоумевая, отчего отец с матерью застыли словно каменные. По правде сказать, не так уж долго он отсутствовал, стоит ли волноваться. Вот чудеса, предки дома, сидят рядышком, с места не сдвинешь. Сидят, будто воды в рот набрали, а еще замечания делают: забыл проститься, не поздоровался, не сказал спасибо!
И чего уставились, точно он с луны свалился. О чем-то говорили перед его приходом. Но это не важно. Маменька об ужине не позаботилась, сейчас начнет оправдываться.
– Чего вы расселись в потемках, на улице отличное праздничное настроение! – радостно выпалил Увис.
– Как ты с нами разговариваешь! – слабым голосом обронила Арика.
– Да, в самом деле, как ты разговариваешь… – несмело вставил отец.
– Что-нибудь случилось?
– Ты еще спрашиваешь?!
– Подумать только! – неестественно громко рассмеялась Арика. – У него праздничное настроение, ему праздник! У нас тут целая вечность прошла! По крайней мере ты, Арнольд, сделал все, что было в твоих силах, чтобы у меня исчезло всякое представление о времени. Совершенно не понимаю, в каком из твоих измерений мы живем!
– Тсс! – смутившись, прошептал Арнольд.
И Увис улыбнулся так кротко, что Арика осеклась на полуслове, это опять был ее Увис, ее чудаковатый, слегка близорукий, худущий и конфузливый Увис.
Если бы она смогла предугадать, увидеть мысленным взором: какой образ примет этот Нортопо в ближайшее время, скажем, ровно два года спустя, в пока еще несусветно далеком тысяча девятьсот семьдесят седьмом!
Перевод С. Цебаковского
Мара Свире

Мара Свире родилась в 1936 году. По образованию юрист. Работала по специальности, затем редактором Комитета по радиовещанию и телевидению Совета Министров Латвийской ССР, заведовала отделом в журнале «Падомью Латвияс Сиевиете». Прозаик и публицист. В 1979 году выпустила первый сборник рассказов – «Визит в чужом доме», в 1977 году – книгу «Лимузин цвета белой ночи». Всесоюзному читателю известна по публикуемой повести и рассказам, вошедшим в книгу «Лимузин цвета белой ночи», выпущенную издательством «Советский писатель» в 1983 году. М. Свире пишет о людях современной деревни.
Лимузин цвета белой ночи
НЕ СОВСЕМ СЕРЬЕЗНАЯ ПОВЕСТЬ О СЕРЬЕЗНЫХ СОБЫТИЯХ В ЖИЗНИ
МИРТЫ С ХУТОРА ЛЕЯСБЛУСАС И КОЕ-КОГО ЕЩЕ

I
Сон как рукой сняло, она лежала и ждала: запоют или нет? Вроде бы пора, на востоке уже светлеет.
Мирта знала это, хотя постель была далеко от окна, ведь она прожила в этом доме, в этой комнате много лет. Порой целыми ночами ворочаясь с боку на бок в бессоннице, старая женщина ждала, когда отблески на верхнем резном краю шкафа или в зеркале комода возвестят ей о наступлении утреннего часа. Возвестят вернее, чем часы на противоположной стене: цифры да стрелки в полутьме не разглядеть; когда пробьют, бог их знает.
Пожалуй, около пяти? Что же это не слыхать-то?.. Прошлое утро вперед часов загомонили. Разве что одумались там, на своем насесте? Мол, подурачились, да и будет?
Старые часы заскрипели, потом бойко отстукали пять раз. И сразу же, будто едва дождался своей очереди, в хлеву запел петух: «Ку-ка-ре-ку-у!» Мирта приподнялась, вслушалась. Ну как же! «Ки-ке-ку-у!» – будто передразнила петуха шальная курица. Третье утро кряду! Большая такая, красивая, пестрая, что цветок боба, все коричневые яйца несла, да с последним яйцом, видно, ум потеряла. Еще накличет беду! Надо бы сходить в хлев, пощупать, какие у нее лапы. Если холодные – быть в доме покойнику, если теплые – значит, к пожару. Только попробуй пощупай в потемках, петух сердитый такой, того гляди глаза выцарапает. Ну, коли к покойнику, значит, пришел ее черед, больше в этом доме ни жить, ни помирать некому. Да и пора уж, пора, все равно убиваться по ней никто не будет, совсем одна осталась, словно сосна в поле. А может, забить горластую, тогда, сказывают, можно уйти от беды. Но тут же Мирта со вздохом опустилась на подушки: куда же девать столько мяса? Курица, проказница, от безделья раздобрела. За один день ее не съешь и в чулане не убережешь. Да и мухи налетят. Не обвались позапрошлым годом погреб… Ох, все не слава богу, что тут поделаешь, да ей, старому человеку, и не надо ничего, скорей помереть – скорей покой будет. Только ее никто не спросит, коль эта хрипуша пожар вызывает, значит, пожару и быть.
Хозяйка хутора Леясблусас[2]2
Леясблусас – Нижние блохи (лат.).
[Закрыть] нашарила у ножки кровати кружку с водой, попила и принялась прикидывать, где, не дай бог, может заняться пожар. Печь летом не топится, там вряд ли, перед плитой пол кирпичом выложен, если и выскочит какой уголек, тут же загаснет. Дымоход сосед Даумант зеленой елочкой прочистил. В хлев с «летучей мышью» она с весны не заходила. В каретном сарае… Стой, а лимузин! В нем, будто свечи какие-то, искра возникает, Даумант так и говорил.
Мирта охнула, повернулась на правый бок, потом опять на левый, наконец встала, надела юбку, поверх рубашки накинула большой платок, взяла ключ и засеменила через двор к каретному сараю.
Подул утренний ветерок, коснулся ветвей белого налива, несколько яблок упало.
Замок не поддавался – Мирта пыталась повернуть ключ то в одну, то в другую сторону, но он застрял. По голым ногам тянуло сквозняком. Дверь каретного сарая была посажена довольно высоко: собака или кошка легко могли подныривать туда-обратно, да и человек поменьше ростом, коли поднатужится, пожалуй, пролезет. Может, кто и стоит с той стороны, сейчас как навалится плечом, дверь так и выломится с треском прямо на нее. «Хе-хе-е», – засмеется злодей, сядет в лимузин и покатит прямо по ней, как по мосту, а она, законная владелица, останется тут лежать. Даумант, правда, говорил, что завести машину можно только теми маленькими ключиками, один из которых она держала в своем ридикюле из настоящей свиной кожи (подарок покойного Яна), а другой – в ящике комода, в самом дальнем углу. Да нешто мало одинаковых ключиков, особенного-то в них ничего нет! Наберет какой-нибудь вурдалак целую связку, глядишь, один аккурат и подойдет.
Наконец в замке что-то щелкнуло, и ключ повернулся. Дверь со скрипом отворилась. Вот она белеет в полутьме, ее автомашина. Красавица, цветом прямо как полученная в приданое кобыла Серка, когда к староста седая стала. А в бумагах так чудно написано: цвета белой ночи. Всем хорош лимузин, кабы не название это заковыристое. Чего только люди сейчас не напридумывают! Как бы хорошо Серкой-то назвать.
Оно, конечно, сани с проржавелыми полозьями да бывшая выездная телега без колеса – плохие соседи, про бревенчатые стены, все в паутине, и говорить нечего. Разве чета они этой красоте, этому блеску… Такую-то вещь в большую бы комнату поставить, все равно пустует, только вот двери узковаты – не пройдет. Когда дом строили, разве мог кто подумать, что она, Мирта, когда-нибудь станет владелицей лимузина. Ан, видать, счастье-то неслышно подбирается, как и горе. Жаль только, что поздно пришло – сил нет принять его, и близких никого нет, кто бы вместе порадовался; хорошо хоть завистники есть. Прямо перст судьбы повелел в тот день кассирше универмага чуть не силком настоять: возьмите да возьмите лотерейный билетик! А Мирте он ни к чему, калоши два шестьдесят стоят, а тут плати еще тридцать копеек! Хорошо, что та не отступилась: купите, мамаша, купите, может, пылесос выиграете. Только зачем Мирте пылесос, весь век без него прожила, проживет и еще сколько там осталось. А кассирша – ну будто кто ее поджигает: за тридцать копеек достанется, а ведь стоит больше тридцати рублей. Ну, коль стократная прибыль, тут уж не взять – только бога гневить, решила Мирта, достала тридцать копеек и… прикупила к калошам автомашину. Прямо вспомнить приятно. Не каждому такое везенье. Кассирша теперь, наверное, локти кусает, что себе не взяла тот билетик. Надо бы ей в утешение пару десятков яичек отнести, в магазине-то не всегда достанешь, а когда и есть, так бледные что снаружи, что внутри, разве сравнишь, как на хуторе куры несут: коричневые да с большими желтками. Только ведь не помнит Мирта, какая из себя эта кассирша, она там небось не одна, одна-то разве выдержит – день за днем с утра до вечера? В нынешних людях нет уж той хватки. А может, кассирша и не знает вовсе, какое счастье в руках держала, подумалось Мирте, тогда уж лучше пусть так и не узнает, к чему человека понапрасну огорчать.
Хозяйка хутора тронула рукой бок Серки – холодный. Где-то там, внутри, помещалось сердце машины, сейчас застывшее. Как у покойницы. Это ведь надо чего удумала, тут же осудила себя Мирта, было бы умение, так хоть сейчас оживить можно. Да, мало толку от счастья, коли оно в каретном сарае хранится. Было бы кому за рулем сидеть, можно бы на кладбище съездить, когда пожелается. Или в магазин, чтобы буханки на себе не тащить. А то в дом, где родилась. Он уж опустел давно, может, и развалился, да хоть на розовый куст поглядеть, он-то небось на своем месте… К реке бы сходила, где девчонкой с детворой играла.
Даумант тоже! Ездить может, а не упросишь. Бумаг, мол, нет. Чудно, ей-богу, что главное-то: умение или бумага? Раньше, бывало, едет всякий, кто вожжи в руках держать может, и чтоб у него кто права спрашивал? Не было такого, а падали да разбивались меньше.
Словом, Даумант не повезет. У рижского Мартыня моциклет… Чего бы ему и за лимузин не сесть? А там, кто знает, может, уж свой давно купил, ведь, как Ян помер, сколько уж лет о племяннике ни слуху ни духу. Коли свой лимузин завел, какая ему радость сюда тащиться. Только вряд ли, вряд ли сумели они столько накопить, учителя-то, говорят, не больно много получают. Да и мальчишку одевать-кормить надо, он, кажись, аккурат в тех годах, когда много едят. Да чего тут, в сарае, накумекаешь! Пойти в комнату, глядишь, пока солнце-то взойдет, уж и письмо написано будет.
II
Взяв подойник, Мирта вышла во двор. Утро пасмурное, легкий туман. К полудню разойдется, еще и солнце выглянет. Такая погода стояла уже пару недель, сырость не подпускала морозы. Вовсю цвели осенние цветы, не тревожась о том, что следующее утро может оказаться для них последним.
Мирта вспомнила: в детстве однажды тоже была такая вот осень, и 13 октября, в свой день рождения, она проснулась оттого, что к щеке прислонилось что-то прохладное: это мать нарвала букет росистого золотого шарика и положила на подушку.
А сегодня в комнате на столе стоят розы, привезенные рижскими гостями. Мирта таких и не видала раньше: в середке цветок ярко-фиолетовый, бархатный, а снаружи бледноватый, будто налицо изнанкой смотрит. Дагния говорила, как называются-то, да из головы выскочило, на манер Гауи[3]3
Гауя – река в Латвии.
[Закрыть] вроде, а сорт будто французский. У нее вон округ дома тоже розы – красные, и розовые, и белые. А в начале лета распускается куст белого шиповника – не наглядеться! И ведь невелики цветки, а уж как пахнут! По цветкам пчелки бегают. Еще липа не зацветет, а соты в ульях уж полны, надо новые рамки класть…

– Здесь так романтично, – сказала Дагния, вставая с кровати и потягиваясь. – За окном туман, мычит корова.
– И петух соловьем заливается.
– Не иронизируй, Мартынь! Мне действительно здесь нравится. Эти бревенчатые стены…
– Зимой щели ветер насквозь продувает.
– Ну и что! Зимой нам здесь не жить. А летом давай приедем? Босиком по росе походим… К тому времени, может, и я получу права. Объездим окрестности.
– Ладно, ладно.
– Ты соглашаешься, просто чтоб не спорить. Ну скажи, чем тебе не нравится этот хутор и тетя? Почему годами жили, как чужие? Старушка сердечная такая.
– Отец не очень-то роднился с нею.
– Почему? Сестра ведь…
– За богатого вышла, жадная стала. В последнее военное лето мы тут скрывались. Отец по хозяйству все делал, помогал добро сберечь. А она осенью, когда провожала в Ригу, дала пару килограммов старого сала, и все.
– Ну и что ж из этого?
– «Что, что»! Я скотину пас. И мать сложа руки не сидела. У тети одного полотна сколько было, все перекладывала, проветривала. Могла бы и нам за труды выделить кое-что. Помнишь, как тогда с тканями туго было! А эта знай приговаривает: «Вот сыночек возвернется…» А от Гедерта ни слуху ни духу.
– Так и не нашелся?
– Нет. Наверное, погиб в самом начале войны.
– Это он? – Дагния показала на свадебную фотографию на стене.
– Да. С Олитой. Перед самой войной поженились.
– А она где?
– Вернулась к своим родителям.
– Детей не было?
– Я же сказал, перед самой войной…
– Это всегда можно успеть.
– Ну вот, не успели! Тогда так не спешили.
– Сейчас медлить невыгодно. Налог за бездетность начинают высчитывать со дня регистрации.
– Я тебе напомню об этом, когда Угис приведет невестку с «приданым».
– Не пророчь! А это кто, на другой фотографии?
– Младший сын тети, Майгонис. Во время оккупации был схвачен и убит. Говорят, прятался, чтобы не взяли в «добровольцы».
– Когда вы здесь жили, он уже…
– Да, он тогда уже был на кладбище. Наверное, поэтому тетя буквально бредила возвращением Гедерта.
– Трагично.
– Что?
– Интересно. Мне как историку… Почему ты раньше ничего не рассказывал?
– Ты же не спрашивала. Даже на похороны дяди со мной не поехала.
– Ну, знаешь! Лицезреть чей-то труп…
– Свой-то вряд ли придется. Да и мало радости, по-моему.
– Ты посмотри, какие розы свежие, – Дагния сменила тему разговора. – Без центрального отопления – совсем другой процент влажности!
Мартынь не ответил. Цветы казались ему чем-то слишком незначительным, чтобы мужчине рассуждать о них, а про центральное отопление вообще не было смысла говорить: здесь его никогда не будет, так же как в городе никогда не вернутся к печам. Пусть женщина поахает в свое удовольствие. Он вышел на кухню умыться.
Хозяйка хутора открыла дверь коленом, потому что руки были заняты: в одной ведро с молоком, в другой – какой-то белый узелок.
Мартынь перекинул полотенце через плечо, подхватил узелок и положил на стол.
– В такую рань уже на ногах! – тетя вроде бы удивилась, но видно было, что она довольна родственником, который не валяется в постели до полудня, как это принято в городе.
– Кто рано встает, тому бог подает.
– Ну-ка, ну-ка… – бормотала Мирта. – Надо вымыть руки да посмотреть, что в этом узелке-то. Иду, гляжу, что-то белое лежит. Пощупала, вроде пирог, настоящий пирог… Давай-ка развяжем. Вишь и открытка приложена, цветы на ней какие красивые. На-ка, милый, прочти, что там, на другой-то стороне, написано. Я без очков уж не разберу.








