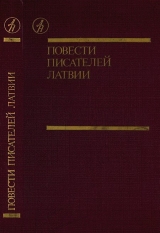
Текст книги "Повести писателей Латвии"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
Соавторы: Андрис Якубан,Мара Свире,Айвар Калве,Харий Галинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)
Я по-военному щелкнул каблуками.
– Глубочайшее и искреннейшее убеждение в том, что уборка картофеля – самая дрянная работа на свете и что назавтра я буду от нее избавлен.
Она усмехнулась:
– Что ж, и такое убеждение годится. Завтра сможете спать у меня дома хоть до вечера.
В дверях она снова обернулась:
– Уважаю убежденных людей.
Вскоре кривошеий задал нам работу – на сортировке высушенного зерна. Там было штук восемь воронок, и из каждой сыпалось другое зерно: из первой – самое тяжелое, из последней – легкое, одна полова, только скот кормить. Моя обязанность была – заменять полные мешки пустыми так, чтобы ни зернышка не просыпалось на пол, а потом, когда Дзидра завяжет мешок, уложить его – каждый сорт в отдельный штабель. В действительности, пока я оттаскивал полный мешок, Дзидра натягивала на башмак триера пустой и только после этого завязывала полный; бечевку ока держала в зубах. Разогнуть спину было некогда. Мешки из-под двух последних воронок – или башмаков, или сапог, кто как их называет, – были легкие, словно набитые пухом, зато из-под двух первых – будто налиты свинцом. Руки сразу чувствовали, когда нужно было подкинуть такой пятерик, чтобы уложить в штабель. Хорошо, что я, выпив чефиря, мог справиться сам; пускай уж Дзидра завязывает, достаточно она сегодня пособирала за меня картофель. Когда я устроил перекур, мускулы заныли, напомнила о себе и одеревеневшая спина. Но тут дядя Янис не знаю, какая у него была фамилия, – вытащил из укромного уголка початую бутылку самогона. Дзидра только пригубила:
– Невкусно. Зачем люди только пьют всякую дрянь: водку, крепкий чай, черный кофе?
Мы не ответили. Да Дзидра, кажется, и не ждала ответа. Похоже, она спрашивала самое себя.
Я, в свою очередь, поинтересовался у кривошеего:
– А что, у вас тут еще гонят это добро?
– Еще как! Если ты исправно выходишь на работу, не воруешь в колхозе свеклу или картошку и дома не устраиваешь больших скандалов, то никто не станет к тебе придираться. Мы тут приспособились по-другому.
– И хорошо течет? – полюбопытствовал я.
– Лучше некуда.
– А зимой?
– Тогда идет картошка со своего полгектара. Я держу одного поросенка, так что у меня остается. Кто кормит одного для себя да еще парочку на рынок – тем, конечно, не хватает. Ну, у таких находится денежка и на казенную.
Наш разговор, видно, показался Дзидре скучным, – она зевнула и поинтересовалась:
– Скоро закончим?
– Еще с полчаса, и бункеру конец. Тогда засыплем зерно заново, и набок.
– Тогда за дело, – поднялся я и направился к башмакам триера – они же сапоги.
– Давай, кузнечики! – крикнул кривошеий нам вдогонку. То ли он выпил еще до нас, то ли плохо держал, но чувствовалось, что он уже в градусе.
Вообще-то не бог весть как разумно – на крепкий чай добавлять сивуху. Тяжелый самогонный хмель схватился с легким чефирьным кейфом, словно циклон с антициклоном, и грозил его осилить. Хорошо, что работать и в самом деле пришлось не более часа, а еще лучше – что хмельной фронт достиг мозговых клеток в тот самый миг, когда сортировка остановилась. Я успел еще забросить на штабель последний пятерик, потом в глазах запрыгали красные огоньки, и я свалился.
Очнулся я оттого, что Дзидра закричала. Но кривошеий еще не успел приковылять к нам, как я уже поднялся, смущенно улыбаясь.
– Поскользнулся, когда последний мешок клал.
– Отчего же ты побледнел и весь в поту? – не поверила Дзидра.
Я и не почувствовал, что лоб мой покрылся потом, холодным и липким. Я смахнул его рукавом.
– Устал, – виновато улыбнулся я. Говорить, что в голове у меня что-то словно перевернулось, я не стал.
– И какого черта ты укладывал мешки в штабеля? – накинулся на меня истопник. – Оттаскивал бы в сторону, и баста. Пускай бы утром господа сами попыхтели.
– Такие же господа, как и мы с тобой, – взял я под защиту незадачливых колхозных руководителей. – Всякое бывает. А работать «абы как» я не умею. Или делать на совесть, или уж совсем не браться. Ordnung muss sein.
– Э, парень, выходит, тебя тоже фрицы дрессировали, хотя лет тебе вроде немного. Был в зенитчиках?
– Нет, окопы рыл – тут, в Курляндском котле.
– Это дело, значит, сделано, – заговорил кривошеий совсем о другом, – теперь надо засыпать бункер заново. Доверху не хватит, хорошо, если половина наберется, а то и того меньше. Больше не привезли. Не по мне это. Вкалывать так вкалывать, гулять так гулять, а у нас тут люди разучились и поработать по-настоящему, и выпить как полагается. Ну, надрываться не станем, перекидаем понемножку. Лопатой помахивать – это не мешки таскать. Справишься? – как бы сочувствуя, повернулся он ко мне.
– О чем разговор! – откликнулся я, и старик оживился.
– Сейчас малость отдохнем, перекурим и опять поднажмем. Чего душа желает: чайку покрепче или самогоночки? – гостеприимно предложил он. – Силы потратил, надо же их восстановить.
Я покосился на Дзидру и вдруг решил:
– Воды. Воды похолоднее. Больше ничего не надо. Иди, кочегарь.
Во рту и правда пересохло и от чефиря, и от сивухи, да и от тяжелой работы тоже, но главное – с лица Дзидры, едва лишь она услышала мои слова, исчезло выражение скучливой неприязни, и она заметно оживилась. Только с чего бы это меня вдруг стали интересовать гримасы незнакомой, чужой девчонки?
В другом конце сушилки возвышалась немалая куча зерна, которое надо было перекидать лопатой на ленту транспортера, уносившего зерно в бункер.
Это детское занятие: нагнись, зачерпни, швырни, зачерпни, швырни – совсем как на уроке физкультуры; руки совсем не ощущают тяжести ни лопаты, ни зерна, только почему-то предательски дрожат, словно я бедняка обобрал. Дзидра, заметив, видно, что зерно с лопаты нет-нет да и сыплется мимо транспортера, стала уговаривать меня посачковать: я, мол, и так с мешками намахался.
– Ничего не выйдет, голубонька, – почему-то я употребил вдруг это архаическое ласкательное слово, которое раньше всегда казалось мне смешным. – Махать лопатой – мужское дело. А ты сходи лучше к старику в кочегарку и спроси, нет ли лопаты для снега, чтобы потом подогнать зерно сюда поближе.
– Тебе же плохо!
Ни черта! – лихо отрезал я и – снова сыпанул почти половину лопаты мимо.
– Дай сюда лопату! – чуть ли не приказала Дзидра.
– Ни черта, девушка! Я всякое дело довожу до конца. Ясно?
– Да ты лопату еле поднимаешь! А что не поднимешь – не унесешь.
– Не унесу, так уволоку. Кто же станет меня кормить, если я не смогу даже лопатой взмахнуть? Думаешь, на стипендию можно прожить?
– Разве тебе никто не помогает? – и в ее голосе послышалось не сожаление, а радость; или это мне почудилось?
– Откуда же помощникам взяться? Я и забыл, когда мне хоть кто-нибудь помогал. С давних времен сам зарабатываю себе на пайку, на тряпки, табак и водку. С тринадцати лет.
– Оттого-то ты такой хороший.
У меня от удивления широко распахнулись глаза и лопата чуть не выпала из рук.
– Впервые слышу, что меня кто-то назвал хорошим.
– А я всем буду повторять, что ты хороший. – И она слегка прикоснулась губами к моей щеке и так же легко (потому что я стоял в полном одурении) выдернула лопату из моих рук. – А еще лучше ты станешь, если сейчас пойдешь, покуришь и сам разыщешь лопаты.
– Как госпожа прикажет. – И я направился к истопнику.
Там я свернул основательную цигарку, хватил хороший глоток того самого самогона, который охаивал еще несколько минут назад, неизвестно почему застеснявшись Дзидры. Потом вместо снежной лопаты взял широкую совковую и вернулся к Дзидре, чтобы перебросить зерно из кучи поближе к транспортеру. Во ржи было многовато кострики, семян и коробочек других сорняков. Вскоре подошел и вооружившийся метлой старик, и лента транспортера унесла в бункер последнее зерно.
– Теперь пусть сохнет на медленном огне, может, еще что-нибудь и получится. Дорого нам эта рожь обходится, слишком дорого. Весной тракторами зарыли канавы, чтобы можно было размахнуться, – как будто раньше рвы копали от нечего делать, для своего удовольствия. Пока лето сухое, все идет – лучше не надо. А вот как только у ангелов на небе пузырь от холода перестает держать, пиши пропало: комбайну на поле не заехать. Хорошо хоть, у нас хозяева толковые и конные жатки стоят отремонтированные и под крышей. А другие сдуру посдавали их в металлолом, и у них теперь ад да пекло. Жаль только, нет у нас больше ни локомобиля, ни путной молотилки – скошенное зерно молотим комбайнами, – только ковыряемся да время теряем. На такой работе много не заработаешь, вот и приходится сушить семена, когда им давно пора лежать в борозде. Людей тоже маловато, да и те в бутылку заглядывают. Мне, старому калеке, это вроде и простительно, только я ведь ни одного дежурства еще не пропустил. Вот и вам пришлось поработать за двух выпивох, которых милиция в городе упрятала в кутузку, кто его знает на какой срок. И начальству неприятности: за них уже два раза поручались: хорошие, мол, работники. Алкаши они хорошие, а не работники. Уж если не знаешь меры – не пей на людях. Тут тебя, если понадобится, сосед вожжами свяжет и крапивой отстегает, и ты назавтра станешь его благодарить и руку целовать за то, что помог. А в городе, где на каждом углу по фараону, надраться и выкобениваться – к добру не приводит. Я вообще не люблю тех, кто пить не умеет, мне с ними и под одним столом лежать стыдно, – и старик дробно засмеялся. – А вы, ненаглядные, куда же теперь денетесь? Еще заплутаете в темноте. Знаете что, ложитесь прямо здесь, на мешках. Я шинельку дам, накрыться по солдатской моде.
– Да я не против, – наконец смог и я вставить словечко. И, словно не заметив, как Дзидра сжала мою руку, продолжил: – Только я с дамой. Так что…
Дзидра сердито оттолкнула мою руку.
– Дама, – она особенно выделила это слово, – тоже не привыкла к пуховикам. Может спать и по-солдатски.
Старик опять засмеялся и погрозил мне пальцем:
– Гляди только, как бы она тебя не заездила. В наше время дамы – ого!
Но это был необидный, добродушный смех все понимающего и все прощающего, захмелевшего старика: делайте, мол, что хотите, я нем, как могила.
Мы взяли шинель, скинули ватники, поверх полных мешков разостлали пустые и устроили уютное гнездышко. Я основательно устал, но когда Дзидра прижалась ко мне и первая поцеловала, сделал все, чтобы не посрамить мужской чести. И озадаченно сообразил, что влип в историю, так как Дзидра оказалась девушкой. Конечно, вроде бы и не из-за чего было беспокоиться; беда в том, что однажды, приехав из деревни навестить, мать впервые застала меня в постели не одного и сделала строгое внушение:
– Со вдовушками, разведенными и прочими дамочками можешь крутить и вертеть, как тебе заблагорассудится. Но если случится быть у девушки первым, то никогда, ни за что не бросай ее сам. Пусть лучше она тебя бросит.
– Да ладно, мать, чего там, – мне было неудобно перед ней, и я просто старался побыстрее от нее избавиться.
– Нет, не «ладно», а поклянись моей могилой.
Пришлось дать клятву, чтобы побыстрее выйти из щекотливого положения. Уже потом я как сквозь туман припомнил кое-какие ссоры и разговоры матери с отцом, в которых раньше ничего толком не понимал, но из которых можно было заключить, что моя мать, как видно, оступилась в молодости; поэтому она так настойчиво и требовала от меня клятвы. И, поклявшись, я до сих пор своего слова не нарушал, потому что мои любовные отношения пока что ограничивались постелью и мне ни разу не довелось оказаться у кого-то первым. Нарушать клятву нехорошо, и я этого делать не стану. Придется, значит, бросить университет и идти работать. Своими халтурками нас двоих мне не прокормить.
Э, все будет хорошо. Должно быть хорошо…
И я медленно провел ладонью по волосам Дзидры, поцеловал ее и прошептал на ухо лишь одно слово:
– Спасибо…
Она обняла меня, поцеловала куда крепче, чем я ее, и проговорила в ответ:
– Спасибо и тебе.
– За что? – удивился я.
– За все. За то, что ты – хороший человек.
– Я-то, может, только рядом с хорошими стоял, а вот ты действительно хорошая девушка.
– Нет, ты лучше.
– Нет, ты…
Так мы могли бы препираться до бесконечности, и я решил переменить пластинку.
– Наверное, мы оба хорошие, если спорим о том, кто лучше. Ты что, правда не умеешь любить, не ссорясь?
– А я вообще умею любить?
Таких вопросов мне до сих пор никто не задавал, и я опешил, как если бы поблизости рванула фугаска или дальнобойный снаряд. Что тут можно ответить, я не знал и только протянул:
– Да так…
– Я так и знала, что не умею, поэтому боялась заводить отношения с чужими мужчинами. А ты научишь меня любить? Ты же добрый…
Я растерялся еще больше – до того, что стал даже заикаться.
– А разве я… для тебя… не чужой мужчина?
Дзидра изумилась:
– Да ты что, не помнишь меня?
Но, как я ни напрягал свой котелок, в конце концов пришлось признаться:
– Нет. Прости, но не помню.
Дзидра двинула меня кулачком под вздох так, что перехватило дыхание.
– Ну и память у тебя! А кто принес мне туфли, первые в моей жизни, да еще поверил в долг? Самые первые туфли, понимаешь? Я ведь за них еще должна тебе. До того у меня были только постолы, да еще мужские танки, которые приходилось надевать на четыре пары шерстяных носков. Ты был единственным, кто пришел в наш домишко и ничего не потребовал, а, наоборот, дал. Мать мне и перед смертью напоминала, чтобы я не забыла рассчитаться с тобой, потому что ты – единственный, кому она осталась должна. За те туфельки требуй от меня чего захочешь, вот за шелк я расплачиваться не стану: его, когда мать умерла, прибрала тетка. С нее и требуй.
– И потребовал бы, только я ее не знаю.
– Ничего не потерял. Сущая ведьма.
– Постой-ка, а как это она вдруг забрала шелк? За красивые глаза, что ли?
– Нет. Она его получила вместе со мной и прочей рухлядью.
– Ну, ты-то далеко не рухлядь. Значит, она не только брата, но и давала. Миску супа, ломоть хлеба…
– Не задаром. Я нянчила ее детей, полола огород, доила корову. Она меня драла и как только не обзывала, но я не плакала, ни слезинки моей она так и не увидела, пока однажды дядя не вырвал вожжи у нее из рук и чуть было не отхлестал ее саму. С тех пор она меня больше не била. Дядю я слушалась с полуслова, а ее – как когда.
– Глупышка. Я незнаком с твоей теткой, но ее в свое время наверняка так лупцевали, что она водички просила. Вот она и воспитывала тебя так, как ее воспитывали.
– Нет. Ей хотелось моих слез. Я однажды подслушала, как она жаловалась дяде: «Все дети как дети, закатишь оплеуху – и глаза на мокром месте, а Дзидру хоть колом бей – даже не пикнет и глядит бесстыже и упрямо. За что мне такой крест?» Не расслышала только, что дядя ей ответил.
– Натерла бы глаза луком и плакала без передышки. Никто бы тебя больше не драл.
– Этой ведьме на радость? Никогда! Я даже на похоронах матери не плакала. Уже до того успела наплакаться.
– Так рано?
– Да. Хочешь, расскажу тебе, когда я плакала в последний раз. – И Дзидра, подперев подбородок ладонями, поудобнее устроилась на мешках.
– Валяй, если будет не слишком скучно. Иначе я усну, и ты больше не захочешь со мной разговаривать. Только я сперва покурю. На мешках боюсь, дырку еще прожгу.
Я слез, закурил вонючую «Ракету» и стал обдумывать положение, в котором оказался. Пока было ясно лишь одно: клятву, данную матери, я не нарушу, какие бы громы и молнии ни бушевали над моей головой.
– Ну, ты примерно знаешь, как нам жилось. Мать обо мне заботилась, как кошка о своем котенке, днем ходила к хозяевам на поденку, вечерами пряла, шила, латала-перелатывала. И все, наверное, ради меня, без меня ей было бы легче устроиться где-нибудь на постоянную работу. А потом на нас словно напасть какая-то навалилась: стоило матери принести чего-нибудь побольше или получше, как те, из леса, были уже тут как тут и подчищали все до последнего, словно заранее знали.
– Наверняка знали. Разным кулачкам так было выгоднее поддерживать бандитов: сама она ничего не давала, ей ничего не докажешь, она чиста. Дешевый и простой трюк, – счел я нужным вмешаться в рассказ Дзидры.
– Ты думаешь? – наивно спросила она. – Может быть, конечно, хотя и не верится. Хозяйки эти выступали такими защитницами вдов и сирот, такими… такими истыми латышками, которые…
– Слушай, детка, или рассказывай о матери и своих слезах, или замолчи. Стоит мне услышать слова «истые латыши», как в ушах возникает лай пулеметов в Шкедских дюнах и так и хочется пошарить вокруг – нет ли под рукой шмайсера или ППШ, потому что сейчас будут расстреливать кого-то, может, меня самого, и надо защищаться. Не произноси этих слов, пожалуйста. Будь добра, – и я погладил ее плечо.
Дзидра помолчала, размышляя, наверное, над сказанным мною, и продолжала куда тише и как бы сдавленным голосом:
– Только моя матушка тоже не дурой уродилась. Она перестала приносить продукты домой, а прятала в каких-то, ей одной известных тайниках. И вот однажды ночью… – Дзидра снова помолчала, словно стараясь привести мысли в порядок. – В общем, они опять явились и, не найдя ничего съестного, рассвирепели, как черти. Грозились пристрелить, но мать только мычала что-то про себя. Стали бить, тогда она и вовсе замолчала. Зато я заревела и стала просить, чтобы пожалели маму.
– Где пайка, которую она вчера принесла? – грозно спросил у меня один из них, постарше и с бородой.
– Вчера она ничего не приносила, – ответила я сквозь слезы. – Честное божье слово! Ели одну картошку.
– А, ты врать, гнида! – и меня больно ударили по затылку.
Я вскрикнула: «Мама!» – и тут же получила новый удар, еще сильнее.
Тут мать подняла голову:
– Звери, оставьте хоть ребенка в покое! Со мной делайте что хотите, хоть убейте, нечего мне дать вам, дармоеды, весь наш пот выпили!
– Слышь-ка, ей нечего нам дать, – ухмыльнулся один, мигнул второму – и началось. Их было четверо, один все время держал меня, как в тисках, и нашептывал на ухо:
– Смотри, учись, как аист деток приносит. Кого ты хочешь: сестричку или братика?
Я только тихо плакала, слезы у меня сыпались как горох.
– Эх, такие девичьи слезы слаще меда и крепче вина. Да жаль – маловата.
И как только он сказал это, я перестала плакать. И по сей день ни разу не плакала, даже когда мать хоронили.
– Значит, мать после этого и умерла? – спросил я.
– Нет. Через два месяца.
– Вот негодяи! Заставлять всего лишь смотреть!
– Скотина! – И кулак Дзидры снова угодил мне в поддыхало.
Я поймал ее руку, сжал, словно клещами, и поцеловал каждый палец в отдельности.
– Наконец-то ты сказала правду. А то – хороший, добрый, добренький, – а меня от этих слов с души воротит.
И я в темноте нашел ее губы.
Потом мы долго лежали, не двигаясь, словно боясь вспугнуть что-то, что-то упустить.
Она осторожно высвободилась из моих объятий.
– Почему ты всегда стараешься казаться хуже, чем на самом деле?
Я усмехнулся.
– Чтобы не нарушать мирового равновесия.
Я почувствовал, как рот Дзидры от удивления раскрылся до самых ушей.
– Очень просто. Часто ли тебе приходилось слышать, чтобы люди говорили о себе, что они плохи? Нет. Все изо всех сил стараются доказать, что они хорошие, нередко даже – самые лучшие. Но если им при этом не удается отыскать ни одного плохого человека, у них, во-первых, начинаются осложнения с пищеварительным трактом, а во-вторых, они не могут уснуть по ночам. Вот я и приношу себя в жертву ради общего блага и заявляю, что я – плохой человек. И сразу же великому множеству людей становится хорошо оттого, что больше не надо никого искать, потому что вот он где – плохой.
– Но ведь на самом деле ты ждешь, что с тобой будут спорить, убеждать, что ты вовсе не плохой.
– Я не верю словам. Хороший – плохой, плохой – хороший. Что сегодня хорошо – завтра плохо, и наоборот. Почти в каждом классе нас ведь учили по-разному. Не верю словам, и лучше быть плохим, чтобы можно было исправиться, чем хорошим – и тебя поставили бы к стенке. Жить надо с запасом. Как говорится – что с такого траченого взять, в собачьей конуре не найдешь костей.
– И все-таки ты хороший.
– Плохой. Ты просто еще не знаешь, каким я могу быть плохим. Только никак не понять, кто я: бе-фау или ге-фау.
– Я не знаю немецкого. В школе у нас был английский.
– Этим словам тебя не научат ни в одной школе, если только не называть школой жизнь. У фрицев бе-фау – это Berufsverbrecher, то есть преступник по велению сердца, а ге-фау – преступник от рождения, преступник уже в колыбели. Понимаешь, другие дети рождаются для счастья, радости, любви, работы, а ге-фау – для преступлений. И мне не однажды говорили, что, согласно Ломброзо…
Но Дзидра не позволила мне закончить. Она обняла меня, закрыла рот долгим поцелуем и зашептала:
– Милый, хороший… Не ври так умно, ври попроще, чтобы можно было хоть немножко понять… Милый, хороший! Для меня ты всегда будешь хорошим, потому что ты единственный, кто вошел к нам и что-то дал, ничего не потребовав взамен…
– В долг! – воскликнул я, едва не обидевшись.
– Разве мать всегда отдавала тебе долги? За туфли – нет… А конфеты, которые мать не позволила взять, ты украдкой сунул мне в карман передника, и я тогда убежала за угол, в дровяной сарайчик… Их ты тоже давал в долг?
Таких мелочей я не помнил. Может, и дал девчонке конфету-другую; поэтому я промолчал, а Дзидра, высвободившись из моих рук, хмуро сказала:
– А те, из-за кого она умерла, для нее даже лекарства пожалели.
– Погоди, не понимаю. Отчего же умерла твоя мать? Ты говорила, что не от той истории.
– Это случилось осенью. Да, осенью того же года… Она у одного хозяина вытаскивала лен из мочила. Вода была уже холодная. Пришла домой, сготовила мне поесть, сама ни кусочка не проглотила, легла в постель, а когда я собралась спать, она уже ни слова выговорить не могла. Жаром от нее несло, как от печки. Я в темноте побежала к тем самым хозяевам, для которых она лен… А они меня даже в дом не впустили, разговаривали через цепочку и еще издевались:
– Если у нее жар, дай напиться горячего молока со свежим коровьим навозом, у вас ведь есть корова! А от кашля – написай в кружку и дай, пусть выпьет…
И захлопнули дверь. Я давай стучать снова.
– Да уймешься ли ты? Не то собак спустим!
Я вернулась домой, матери чуть полегчало, я дала ей теплого чаю, она стала подсчитывать, кто сколько остался ей должен за работу, вспомнила тебя, что тебе одному она должна, а потом стала кричать, чтобы я прогнала жеребцов, чтобы потушила костер – в общем, бредила. Я сидела рядом с ней и не плакала, у меня не осталось больше слез. Собиралась просидеть так всю ночь, а проснулась на рассвете от стука в дверь. У хозяев все-таки заговорила совесть, и они пришли поглядеть на больную. А она уже закоченела. Обмыли ее, похоронили, а я все не плакала.
– Словно каменная, – слышала, как бормотали старухи.
– Сердца нет у девчонки, – слышала, как перешептывались люди.
Мне было все равно.
Не плакала я и у тетки, которая часто меня обижала, хоть я нянчила ее детей, варила обед, доила корову, полола огород, а потом работала и в колхозе, чтобы тетке начислили побольше трудодней. А она меня даже в школу не хотела пускать – в хлеву, мол, проживет и без книжек. А когда волость все-таки заставила ее посылать меня в школу, она еще больше разозлилась. Хорошо еще, что дядя ее немного сдерживал, хотя он и не приходился мне кровным родственником. Только с его помощью мне и удалось окончить среднюю школу. За это тетка заставила меня работать еще больше, а в награду показала комбинацию из трех пальцев. Представляешь, что моя милая тетушка придумала?
И Дзидра села, стиснув кулачки.
– Она надумала выдать меня замуж за какого-то вдовца с двумя маленькими детьми, как только я окончу школу. Потому что я, видите ли, уже научилась ухаживать за детьми. Я собрала узелок и сбежала в Ригу. Поступила в университет, получила место в общежитии. А моя милая, родная тетушка велела передать мне, чтобы я ей больше не попадалась на глаза – колом убьет. И это в благодарность за те восемь лет, когда я все ее хозяйство тянула. Мне не то что плакать, мне порой выть хочется, но не могу. Скажи, отчего я не могу плакать? Говорят, от слез на сердце легчает. Объясни, пожалуйста! – И Дзидра снова обняла меня и тесно прижалась.
Я поцеловал ее, осторожно высвободился и присел на мешках.
– Не знаю, – честно ответил я. – Правда, не знаю. Может быть, у тебя просто никогда не оставалось времени, чтобы лечь, скрестить руки и попробовать выжать хоть слезинку. Человек ложится в постель, когда хочет спать, ложится и засыпает. А сесть, сложить руки на груди и размышлять не хватает времени. Дело на деле сидит и делом погоняет – особенно если тебе приходилось работать так много.
Не знаю, были ли это именно те слова, которые надо было сказать Дзидре, но только я чувствовал, что утешать ее означало бы обидеть, и продолжал спокойным, тихим будничным голосом:
– Как-то я вычитал, что один дурак утверждал: море, дескать, солоно от слез вдов и сирот. Сперва мне эти слова понравились, но потом я решил, что придумать такое мог только бездельник и белоручка. Если бы вдовы и сироты плакали, у них не оставалось бы времени на работу, а если бы они не работали, то поумирали бы с голода, и в мире больше не было бы ни вдов, ни сирот. Случалось ли тебе видеть, чтобы камень плакал? Нет. И мне нет. Жизнь, жесткая, как камень, превратила в камень и наши сердца. Вот твоя мать, много ли она плакала?
– Нет. Только иногда мычала, как… как…
– Как животное, – закончил я за нее. – Я не хочу обидеть твою мать таким сравнением. Нет. И в мыслях не было. Она была – тягловый скот и тащила все, что погонщик-жизнь на нее наваливала. И ты тоже тащила, тащила без передышки, без отдыха…
– Вот только если кто-нибудь угощал ее самогонкой. Тогда слезы лились рекой.
– А ты хоть раз в жизни надиралась по-настоящему?
– Нет, – честно призналась Дзидра. – Мне уже от двух рюмок делается плохо.
– Самогона?
– А я больше ничего и не пробовала. Ну, еще магазинную водку.
– Эх, вот угощу тебя шампанским или другим вкусным вином – сама увидишь, оно потечет и из глаз…
Наступившая тишина затянулась, и наконец я, уже засыпая, пробормотал:
– И зачем ты хочешь научиться любить? Подумать только: учиться любви!
И тут Дзидра через мгновение сказала такое, что заставило меня встрепенуться и сразу же прогнало сон.
– А на что я стану жить в городе? На стипендию? Я прожила бы, вкус у меня не избалован, но ведь во что-то и одеваться надо. Из дому я ушла вот в этом самом ватнике, узелок спрятала в рукаве. Никто и не знает, куда я девалась.
Я только и смог, что негромко присвистнуть. Ну и девчонка! Такая ни в раю, ни в аду не пропадет!
А Дзидра продолжала, словно разговаривая сама с собой:
– Можно было бы пойти работать, но тогда надо сперва найти комнату, на улице жить не станешь.
– Высоко метишь, – не удержался я. – Комнату!
— Ну, пусть, угол, койку… – Оживившись, Дзидра снова повернулась ко мне. – Ты пойми: я перед тем, как подать документы в университет, обошла заводы, где есть общежития, но везде принимают только девушек со специальностью, для учениц в общежитии места нет. Посылают в ремесленное. Но туда надо было идти после семилетки… И потом, все-таки хочется изучать литературу, раз уж я прошла по конкурсу. Страшно люблю книги, но так мало времени оставалось для чтения… Ну, и… – Дзидра умолкла.
– Давай, продолжай, – подбодрил я. – Интересно послушать.
Дзидра упрямо, вызывающе молчала.
– А может, ты хочешь, чтобы я подыскал тебе клиентов? – неожиданно спросил я с усмешкой, потому что во всей этой истории неожиданно увидел вдруг и другую ее, комическую, сторону.
В конце концов, мне тоже никто не станет помогать окончить университет. Рассчитывать надо только на себя. Может быть, напечатают одно-другое стихотворение, может, удастся получить заказ на статейку для газеты или журнала. Мне уже приходилось работать и в уездной, и в эмтээсовской газете. А нет – можно разгружать вагоны, этим занимается немало ребят из общежития. Дотянуть бы только до весны, а там будет полегче. Весной можно ремонтировать квартиры, вскапывать огороды, вычерпывать дерьмо на компостные кучи или прямо на грядки. Человек не должен стыдиться никакой работы. Может ведь случиться и так, что, удобряя молодые яблоньки навозом из чужих сортиров, я напишу диалектическое стихотворение о сущности прекрасного. А вот почему мне не приходило в голову подыскать богатую любовницу? Один мой приятель каждое лето зарабатывает на новый костюм, обслуживая стареющих, но обеспеченных курортниц со взморья. Сыт по горло, пьян и нос в табаке. Можно еще и делать дела с литовской шерстью – возить ее из Шкоды в Ленинград. И литовский, и русский я знаю. Но вот неохота. Не лежит душа, да и только. Лучше уж повозиться с дерьмом. Работа как работа, а деньги, как сказано, не пахнут.
Да, нас с Дзидрой в одной бане одним веником парили, жизнь к нам относилась по меньшей мере как злая мачеха; почему же такие глупые мысли не приходят в голову мне? Ну-ну, не хвались, ты и сам не раз уже балансировал на острие ножа. И может быть, просто побоялся потерять равновесие, не то…
– Ну, что молчишь? – спросил я Дзидру. Она зарылась лицом в пустые мешки, хотя в темноте я все равно ничего не видел. – Ну-ка, взгляни мне в глаза!
Но она не послушалась, наоборот, натянула на голову еще один мешок.
– Я кому говорю? – сказал я так грозно, как только мог.
Дзидра по-прежнему не отвечала.
И тут меня охватил гнев. Красные круги поплыли перед глазами, а в такие моменты – это я хорошо знаю – я за себя не ответчик, могу наделать всякого.
Я сорвал мешок с ее головы, правой рукой схватил ее за волосы и приподнял голову.
– Гляди в глаза!
А когда она и на этот раз отвела глаза, я левой рукой дал ей затрещину и отпустил.
И Дзидра – вот уж чего я не ожидал! – тихо шепнула: «Спасибо», – и разревелась, как отшлепанный ребенок, – Дзидра, еще совсем недавно уверявшая, что много лет не могла выжать ни слезинки из своих фар. Я обнял ее, стиснул, целовал в мокрые щеки и бессвязно бормотал:
– Прости… Я зверь… Вот я пью твои слезы, теперь я твой на веки вечные. Я твой раб, счастливая… Как я завидую тебе… Ты все-таки можешь еще плакать. Счастливая… Знаешь, я даже на похороны боюсь ходить. Понимаешь, я ведь тоже не могу плакать. Надо плакать, а из меня вместо слез рвется смех. Слышал ведь, как всего какую-нибудь неделю назад невестка зудела на старуху: «Путается под ногами, бог ее не приберет, семь лет смерти задолжала, у детей хлеб отбирает!» И вот она же на кладбище вопит, словно ее режут: «Мамочка милая, да зачем же ты нас покинула! Ты ли не была сыта, у тебя ли своего угла не было, за тобой ли не ходили, тебя ли не любили!» Как могут люди притворяться перед лицом смерти? Сколько я ни навидался крови, но до сих пор гнетет меня бессмысленность смерти. Именно бессмысленность. Когда столько молодых погибло зазря, проливать слезы по старухе, умершей своей смертью!.. Я бегу с кладбищ, едва сдерживая смех, – боюсь, как бы не забросали камнями. Милая, хорошая, плачь! Я напьюсь твоих слез и, может быть, тоже смогу заплакать. Ты ведь знаешь, как ужасно, когда человек не может плакать!








