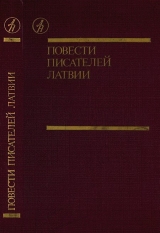
Текст книги "Повести писателей Латвии"
Автор книги: Зигмунд Скуинь
Соавторы: Андрис Якубан,Мара Свире,Айвар Калве,Харий Галинь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
Я поднялся, но от волнения не мог идти ровно. Видевшие меня наверняка решили, что я надрался вусмерть, хотя у меня давно уже ни капли во рту не было. Да пусть их думают, что хотят! Я пошел, даже не зная куда, а ноги сами несли меня в сторону учительского дома, как если бы я снова спешил увидеться с Норой. Но тут я завидел хибарку, в которой меня недавно так гостеприимно приютили на ночь, и свернул к ней.
В домишке была только та девочка. Увидев меня, она вскрикнула в испуге. То ли я и в самом деле выглядел пугающе, то ли слишком часто наведывались непрошеные гости.
Я приложил палец к губам:
– Тсс! Не трону! Ничего не возьму! Тебе на платье, матери на юбку. На! Спрячь! Как следует спрячь! Никому не показывай. Ни единой душе… Только матери. Скажи, я приду потом, потом!
И я выскочил в дверь, оставив на столе то, что хотел подарить Норе на этот раз: рулончик, то есть отрез, немецкого лилового эрзац-шелка. Ничего особенного, последнее дерьмо, растворялось и в ацетоне, и в бензине, зато выглядело – первый сорт. Мне особенно нравился цвет: не то фиолетовый, не то сиреневый, с блеском. Нора нет-нет, да и упрекала меня в том, что я слишком уж часто заглядываю в рюмку; хотел ведь пожелать ей: пусть теперь носит на здоровье да не забывает форштадтскую песенку:
Лиловые все мои платья,
Лиловая вся моя жизнь,
Я потому лиловое люблю,
Что мой миленок вечно во хмелю.
Только нет ведь Норы! Эх, сейчас бы стаканчик обжигающего первача – за то, чтобы земля была ей пухом! Теперь этот шелк сносит чужая женщина – мать этой девочки из развалюхи. И пускай! Будет чем – заплатит, нет – господь на том свете воздаст. Подумаешь, большое дело, обычное немецкое дрянцо. Солидному клиенту такое продать было бы просто стыдно, такое можно разве что подарить знакомой или загнать совершенно чужому человеку.
А основательно глотнуть было бы совсем не вредно, потому что во всем происшедшем без поллитра никак не разобраться. Выпить!
– Я бы тоже выпила воды, – прозвучал рядом голос Дзидры, и я вздрогнул.
Неужели я до того углубился в свои воспоминания, что даже стал разговаривать с умным человеком – в смысле с самим собой? Не к добру это.
Я положил руку Дзидре на плечо, попробовал улыбнуться и пробормотал:
– Извини!
– За что?
Она спросила очень спокойно, без малейшей нотки удивления в голосе.
– Да за все. Мы идем вместе, а я тебя не развлекаю, знай волоку свои мысли, как прохудившийся мешок, стал даже вслух разговаривать.
– А что тут извиняться? Твое молчание мне по душе, так что можешь и дальше не говорить. Помолчим! Молча мы так хорошо понимаем друг друга.
То ли Дзидра была хорошей актрисой, а может быть, и на самом деле говорила серьезно, но в ее голосе я не уловил ни малейшего признака насмешки. И привлек ее к себе.
– Как госпожа прикажет!
Отпустил, и мы неторопливо поплелись дальше. Дзидра по-прежнему держалась рядом.
В Дижкаулях нас встретили градом двусмысленных острот, но были они, в общем, на уровне начальной школы и мне даже кожу не оцарапали. Да и на лице Дзидры была написана такая скука, что острякам быстро надоело стараться, и они оставили нас в покое.
Я хлебал невкусный молочный суп с крупой, заедал его очень вкусным подовым хлебом и вспоминал любимое кушанье моего детства. Уже начавший плесневеть черный хлеб, нарезанный кусочками, заливают кипящим молоком. Если есть, добавляют ложку меда, сиропа или, на худой конец, патоки. Если нет, обходятся и так.
С детства у меня осталась привычка крошить черный хлеб в молочный суп. Но такое я позволял себе только у друзей и знакомых. А здесь слишком много чужих. Кто-нибудь еще станет кривить рожу: что это я, мол, в людской тарелке готовлю свиное крошево, не поставить ли мне в следующий раз на стол корыто? Со мной уже случалось такое.
Так что я ел безвкусную похлебку, сильно напоминавшую ту, что во времена фрицев называли «Голубым Дунаем»; варили ее только самые скупые хозяйки. В Дижкаулях раньше такою не угощали.
Я бы не сказал ни слова, но одна из наших поварих – я все еще никак не мог запомнить имена своих однокурсниц – не утерпела и спросила меня:
– Ну как, вкусно?
– Ты меня спрашиваешь? – ответил я словами Кенциса из «Времен землемеров»[1]1
Роман братьев Рейниса и Матиса Каудзит – основоположников латышской реалистической прозы.
[Закрыть].
– Кого же еще?
– Сойдет. Вот только…
– Ну, что «только»?
– В прежние времена хозяйки сдабривали такой суп растопленным салом.
Все недоуменно зашумели. На меня смотрели так, словно я неудачно сострил. Первой отозвалась групоргша – она, как я успел заметить, везде совала свой нос.
– Сало к молочному супу?! Впервые слышу. Ты бы лучше снял ватник. А то в чем на поле, в том же и за стол!
– Куда же мне его повесить, на твой язык, что ли? – ответил я, может быть, чуточку острее, чем следовало.
И правда, лежанка у плиты была сплошь завалена всякими одежками, и лежали они так, что к утру половина наверняка останется сырой, а вторая половина обуглится.
Групоргша умолкла, словно костью подавилась. Вмешался преподаватель:
– Нашли о чем спорить! Надо есть, что дают, с салом или без него. Может быть, конечно, где-нибудь и едят молочный суп с топленым салом. Так ли это важно, в особенности учитывая, что сала нам не выделили. А вот проблему сушки одежды действительно надо решить.
Сразу видно было истого университетского преподавателя, везде усматривающего проблемы.
– Так обидеть, так обидеть… – бормотала себе под нос групоргша, как святоша бормочет молитву.
– Странные вы какие-то, молодежь, – попытался примирить нас преподаватель. – Кто колюч, как еж, и бродит, словно пахта в горшке (он, наверное, имел в виду нас с Дзидрой, потому что выразительно покосился в нашу сторону), кто уязвим, как сырое яйцо. – Тут он взглянул на групоргшу. – Хочешь не хочешь, а жить предстоит вместе, так что иглы и колючки придется повтягивать, а язычки – попридержать.
После ужина стряпухи убрали посуду, девчонки пошли помогать мыть ее, а ребята вытащили карты.
Групоргша при виде карт разве что не затопала ногами и тут же принялась вещать:
– Азартные игры – пережиток прошлого! Играть в карты не к лицу советскому юноше!
Преподаватель уныло глянул на нее; видно, он и сам был бы не прочь перекинуться в картишки, но групоргша изрекала до того правильные истины, что спорить с нею он не решился.
Студенты заворчали:
– А что нам делать?
– Читайте, занимайтесь, учитесь!
– Темно.
– Ну, тогда делитесь планами на будущее.
Я бегом выскочил из дома, чтобы за углом нахохотаться всласть. И откуда только берутся такие? А ведь покажи ей шмайсер или обрез – чего доброго тут же грохнется на колени и запросит пощады. Видывали мы и таких в свое время. Но до чего же легко может испортить настроение один человек! А по какому праву? Легко сказать – сами выбирали. Да ведь мы друг друга совсем не знали, выбирали тех, в кого ткнули пальцем преподаватели. А те, вернее всего, судили по школьной характеристике и биографии. Ну, скорее черт сделается младенцем, чем она на следующих выборах получит мой голос.
Когда, отсмеявшись и накурившись, я вернулся в комнату, здесь уже натянули веревку, и Дзидра успела повесить на нее и свой ватник и мой джемпер. Но я раздеваться пока что не стал: иди знай, сколько раз еще придется сегодня бегать за угол, чтобы погоготать вволю. Если удерживаться, недолго и животик надорвать.
И я правильно сделал, потому что отворилась дверь и вошла плотная женщина. По ее лицу и фигуре чувствовалось, что в свое время она была красавицей. Наверное, кто-то из колхозного начальства.
– Добрый вечер, – неторопливо поздоровалась она.
Что за черт: то ли еще сказывалось вчерашнее похмелье, то ли я заболел манией преследования, но мне почудилось, что вошедшая чересчур внимательно посмотрела на меня, и еще – что было в ее облике что-то знакомое.
Когда наш неслаженный хор с грехом пополам ответил на приветствие, женщина деловито поинтересовалась:
– Ну, как устроились?
Посыпались жалобы. И на тесное и грязное помещение, и на мокрую одежду, которую негде сушить.
Терпеливо выслушав всех, она ответила:
– Можно ведь печку затопить; тогда и в другой комнате будет тепло, и места хватит, хоть танцуйте польку.
Она распахнула дверь, около которой на соломе были свалены наши рюкзаки и отворить которую нам просто не пришло в голову. За дверью была сырая мгла, и женщина посветила туда фонариком.
– Тут настоящая голландская печь, кафельная. Немного, правда, растрескалась, так что иногда дымит. Топить надо из коридора, топка там, за кухонной дверью.
Но мне не верилось, что она пришла просто так, чтобы навести справки о нашем самочувствии. Что-то наверняка было у нее на уме, что-то было ей от нас нужно. И я не ошибся. Она немного помялась и, уставившись в пол, пробормотала:
– Не может ли кто-нибудь, человека два хотя бы, поработать пару часов на зерносушилке? Такое дело… Наши задержались в городе… Теперь уж вряд ли приедут. А зерно надо сушить, не то оно начнет преть. Семенная рожь…
Эх, не умела она просить! Мне стало даже жаль ее, потому что изо всех углов тут же понеслось:
– Это уж слишком!
– Мы за день вымокли!
– Взнуздали, как лошадей…
– Что мы, рабы?
А когда и групоргша не выдержала:
– В конце концов всякая сознательность имеет свои границы! – тут я мигом вскочил на ноги.
– Надо – значит, надо. Зерно – это хлебушек, а семенная рожь – хлеб вдвойне, вдесятеро.
Преподаватель медленно обвал всех глазами, и, не найдя второго добровольца, горестно вздохнул:
– Видно, придется мне…
Он выглядел в этот миг таким жалким, что я рассмеялся:
– Ну, что вы! А кто же станет следить здесь за порядком и моральным обликом? В сушилке ведь людей нет, там одно лишь зерно.
Потом я повернулся к незваной гостье, чужой, но все же чем-то знакомой.
– Пойду ка всю ночь. Но с двумя условиями.
– С какими? – Она взглянула на меня, уколов большими глазами, решила, видно, что от такого типа, каким выглядел я, можно ожидать чего угодно.
– Если я отработаю ночь в сушилке, то завтра в поле не пойду, а буду отсыпаться.
– Хоть в моей постели, на чистых простынях: я все равно днем работаю. А второе?
– Настоящий кофе, чтобы не уснуть, или, на худой конец, кипятку для чефиря. – И я вынул из чемодана пачку чая.
– Кофе в зернах у меня есть дома, могу потом привезти в сушилку – сейчас не по дороге. А кипяток для чефиря у истопника всегда найдется.
– Что такое – чефирь? – с любопытством, спросила групоргша, которой до всего было дело.
– Улучшенный кефир, – буркнул я, а колхозница усмехнулась.
Так-так. Она знает, что такое чефирь. Значит, хлебнула жизни, хлебнула до самой гущи.
Тем временем Дзидра натянула ватник и негромко, но решительно проговорила:
– Я тоже пойду.
Преподаватель сразу же облегченно вздохнул; кто-то из группы пробормотал: «Молодая пара», – ответить никто не счел нужным. А у меня потеплело на душе. Меня больше не злило, что Дзидра как бы сама клеилась ко мне; я даже был благодарен ей за это. Всего один, но проработанный вместе день может сильно изменить отношения между людьми, в особенности если чувствуешь свою вину, зная, что большую-то часть работы сделала за тебя она! Может быть, в сушилке удастся отплатить ей тем же, сделать побольше, самое тяжелое, самое трудное; отблагодарить и за то, что она так быстро собирала картошку на нашей делянке, и за то, что не ворчала, когда я курил, и порой сама, в одиночку, справлялась с тем, что мы должны были сделать вдвоем (и при всем этом ей нередко приходилось стоять и мерзнуть, пока тракторист поджидал на других участках, когда там все подберут). А самое главное – за то, что даже после сильного дождя на нашей делянке не светились белые клубни, хотя на других полосах их было полным-полно. Как бы там ни было, а самую нудную из крестьянских работ – уборку картофеля – она знала досконально.
Наша посетительница очень обрадовалась тому, что отыскала двух добровольцев на ночную смену, и больше говорить ни о чем не стала. Только предупредила, что завтра мы оба будем совершенно свободны, и чтобы никто не вздумал поставить нас еще на какую-нибудь работу. Преподаватель на это ответил, что ему ничего подобного и в голову не приходило.
Кое-кто из коллег, с групоргшей во главе, окинул нас ледяным взором. Большинство наверняка сочло нас подлизами, а бедная групоргша, я уверен, никак не могла примириться с тем, что бывают люди еще более идейные, чем она.
На самом же деле мною руководило вполне эгоистическое желание – попасть на более приятную работу. О чем думала Дзидра, я не знал. Она не отставала от меня, но мне это больше не было неприятно, как вначале, – напротив, я вдруг ощутил желание защищать ее, оберегать и заботиться о ней. Только вряд ли ей понадобится моя помощь.
Итак, женщина больше говорить ни о чем не стала, сказала только: «Ну, поехали». Дзидру она усадила в коляску мотоцикла, застегнула фартук, я пристроился на заднем седле, и мотоцикл запетлял по проселкам – я ощущал, как грязь залетает в голенища. Ночь была – хоть глаз выколи, во мгле все окружающее представлялось совсем не таким, как при дневном свете, мотоцикл самое малое полчаса кружил по дорогам, так что я совсем потерял ориентировку, словно мне завязали глаза черной шелковой повязкой. Но, наконец, зигзаги кончились, и мы остановились у длинного кирпичного строения.
– Приехали, – женщина выключила мотор, слезла и отворила дверь, из которой пыхнуло жаром, словно из бани.
На еловом чурбаке сидел калека; искривленная шея заставляла его держать седую голову склоненной к левому плечу, а чтобы сказать что-нибудь, он поворачивался к собеседнику всем телом, вот как сейчас к нам.
– Ага, приехали? А я, Гундега, уж и не знал, что делать. А Петер где?
– Петер с Яном, оба вместе, сидят в районной милиции. У нас с председателем больше язык не поворачивается выручать их – даже будь они в десять раз нужнее. Вот упросила двух студентов помочь. А понадобится третий – лучше я сама отработаю.
– Да поди ты, – сердито сплюнул старик, – поди-ка ты лучше домой. Если они и вправду пришли работать, – он испытующе поглядел на нас с Дзидрой, – то мы и втроем запросто управимся. Ну, пошли, покажу, что будем делать. – И он уже поднялся было, но я нерешительно проговорил:
– Сперва надо бы чефирьчику…
Старик, не понимая, посмотрел на меня, потом перевел взгляд на женщину.
Она улыбнулась.
– Ну, крепкого чаю.
– Выпил весь, – сердито сказал старикан.
– Заварка у меня есть, – и я вытащил пятидесятиграммовую пачку.
– А… – только и сказал он. – Ну, садись.
Мы уселись. Старик, ко всему, был еще и сгорблен, как серп, но это не мешало ему двигаться проворно. Он взял объемистую консервную банку, выплеснул старую гущу в банку поменьше, ополоснул кипятком из чайника, потом коротко сказал:
– Давай сюда!
Я отдал заварку. Он осторожно открыл пачку, высыпал весь чай в банку, до краев налил кипяток и накрыл банку фанеркой. Из-под нее вскоре потянуло горьковатым ароматом чефиря.
Было так жарко, что я снял ватник. Старик осуждающе покосился на меня, и я замер. И правда, я ведь нарушил неписаный ритуал: пока настаивается чефирь, никто не двигается, не произносит ни слова – все ждут, настраиваясь на предстоящее наслаждение. Хорошо, что Дзидра ничего не сказала, только смотрела на нас троих удивленными глазами. На всякий случай я осторожно приложил палец к губам, и она, улыбнувшись, прижалась к моему плечу, как бы признавая, что не стоит спорить с чокнутыми. Молчали и старик с женщиной.
Не знаю, о чем в тот миг думали они, а в моей голове вдруг точно молния сверкнула. Старик ведь не всегда был кривошеим, нет; был он стройным человеком лет тридцати пяти, когда внял призыву и добровольно вышел из леса, явился в волость и сдал свое оружие. Может, он и не пошел бы сдаваться, кто его знает, но жена, в одиночку вкалывавшая в хозяйстве и кормившая троих детей, надорвалась и слегла на больничную койку, а рожь уже побелела, и наступала пора жать. Нельзя было оставить детей без хлеба, и нельзя было позволить зерну пропасть втуне.
И вот он добровольно вышел из леса, сдал в волости оружие, а взамен ему выдали паспорт и разрешили жить в доме его отцов. С его головы не упало ни волоска, всего одну ночь провел он в кутузке на нарах, пока волостное начальство выясняло, много ли на нем висит грехов. А потом он сразу же отбил косу и вышел в поле.
Пример был заразителен, и не одна семья сразу же послала весточку своему главе или сыну: пора, в конце концов, вернуться к людям и самим стать людьми. И, наверное, поэтому косить первому вышедшему довелось недолго. Рожь он еще успел убрать и сложить в копны, а уж с ячменного поля не ушел. Его же собственной косой недавние друзья, что называли себя истыми латышами, рубанули по шее и предали огню и скошенный, и еще не скошенный хлеб.
И как раз это произвело на всю округу совершенно неожиданное воздействие.
– Да что там Янис, уж бог с ним, с Янисом. Но хлеб жечь! Да на это только у того рука поднимется, кто и вовсе утратил облик человеческий и подобие. Хлеб – дело святое! Пусть только придут теперь из леса просить хлеба – золу и пепел из очага вынесу им: «Нате, жрите, это Янов хлеб, которым вы его детей накормили!» – и пусть меня хоть убивают, хоть жгут вместе с клетью, вместе со всем моим потом!
Я сам, своими ушами слышал, как клялся этими словами хозяин, один из тех, у кого Советская власть земли не отрезала и не прирезала, но который до сих пор, как волк, все в лес глядел.
Странно получается: вроде бы не хлеб создан для Человека, а человек для Хлеба…
Но разве только этот крестьянин думал так? Многие так думали. И другой хозяин, которому Советская власть тоже ничего не прибавила и не убавила, но который с первого же дня пошел в «ястребки», только руки потирал:
– Они же сами пилят сук, на котором сидят. Этим сожженным хлебом им долго будут глаза колоть! Расправься они только с бывшим своим сотоварищем – и об их подлости говорили бы только мы, а сейчас шумит вся волость. Если хочешь жить среди латышских крестьян, никогда не делай трех вещей. Не жги хлеб, не стреляй в аиста и не срубай дуб на дрова. Если на бревна, на доски – можно. Все что хочешь крестьяне тебе простят, но этих трех вещей – никогда.
Что правда, то правда; видно, и в лесу земля горела у бандитов под ногами, раз уж они взялись за такие, хуже зверских, средства. Может быть, кровью и можно что-то скрепить, но пеплом от сожженного хлеба – нельзя. И из леса стали выходить еще и еще, хотя и не верили, что первый из вышедших останется в живых. А вот выжил же, пусть и сгорбленный, и с кривой шеей, свернутой к левому плечу. Живуч оказался.

…Сейчас он снял фанерку с консервной банки, и горьковатый пар расплылся по помещению.
У незнакомой женщины, что привезла нас сюда с Дзидрой, слегка дрогнули ноздри. Наверное, и я в ожидании предстоящего удовольствия выглядел странно; во всяком случае, Дзидра подтолкнула меня локтем.
Скрюченный старик достал две жестяные кружки и вздохнул:
– Больше посуды нет. Ну, пейте. Я потом воды добавлю. Варил уже сегодня.
И разлил по кружкам почти все содержимое банки.
Я спросил Дзидру:
– Приходилось пробовать?
– Нет, – пожала она плечами. – Что за чертово зелье вы тут наварили?
– Не чертово, а святого Будды, – откликнулась знакомая незнакомка. – Древний восточный напиток.
– Если не пробовала, то глотни раз-другой, и хватит, не то черти станут мерещиться.
Но Дзидра отпила лишь глоток и отдала кружку мне.
– Горький, хуже Польши.
– Зато мысли скоро станут сладкими, – откликнулась чужая женщина; ее зрачки уже слегка расширились.
Я не сказал ни слова, только потягивал горькую, черную и горячую жидкость, пока не возникло ощущение, что в чердаке моем запорхали ангелочки. Кейф от чефиря куда лучше одурения, какое вызывает водка; от этого хмеля наливаются силой и мысли, и мускулы – силой и выносливостью.
– Студенты на твоем, Гундега, хуторе остановились? – спросил кривошеий горбун.
Женщина неприязненно глянула на него.
– На колхозном. В Дижкаулях. На колхозном хуторе. Ты что, забыл, что я живу в центре, в новом доме, в трехкомнатной квартире?
– Извини, я так, по старой памяти, – стал оправдываться квазимодо из сушилки. А у меня вдруг словно свет вспыхнул в черепной коробке.
Да ведь это же Гундега из Дижкаулей! Та самая, что ни разу не удостоила меня и словечком, даже при нашей последней встрече – когда я, с винтовкой за плечами, караулил ее: даже и тогда она только метнула на меня взгляд – у нее были глаза посаженной на цепь бешеной суки – да бросила отцу несколько злых слов, адресованных, вероятно, мне. Что-то насчет истых латышей и прочее в этом роде.
…Предназначавшийся Норе подарок я оставил вдове: не класть же в гроб, пускай другие носят на здоровье немецкий эрзац-шелк, тот, что растворяется и в бензине, и в ацетоне, зато выглядит прямо шикарно. И поспешил к волостному правлению, мимо учительского общежития, где была суета, словно в потревоженном муравейнике. Может быть, туда успели уже привезти тело Норы, а может, они выясняли, как все получилось, куда направлялась Нора среди ночи, с кем она была, можно ли было спасти ее или нельзя; и уж наверняка на все корки честили милицию и «ястребков» за то, что они никак не могут справиться с десятком-другим лесных бандитов, а сами – были и такие – в школе, в классах позволяли себе двусмысленные словечки и улыбочки в адрес Советской власти…
Не зря Нора говорила мне, что в школе ей помогает только учитель пения, а остальные отмахиваются, да еще стараются подбросить лишнюю работу. И волостное начальство с нее больше требует, чем помогает. Когда однажды она пожаловалась на кого-то из учителей, ей посоветовали не очень задирать нос, подружиться с коллегами, попытаться найти общий язык, заняться перевоспитанием старых учителей, потому что у них, видите ли, богатый педагогический опыт, а она в школе без году неделя и даже с простейшими заданиями не справляется.
Опыт и правда дело хорошее, но не этот ли самый опыт позволял кое-кому из почтенных наставников ухмыляться в бороду и настраивать учеников против новой власти? Так, во всяком случае, обстояли дела в той школе, откуда я благополучно смылся в вечернюю, едва такая наконец открылась. Там я оказался самым младшим, остальные были уже бородачами, и поэтому учителя говорили прямо: «Власти приходят и уходят, а мы с вами занимаемся математикой, которая нужна при любой власти. Таблица умножения не меняется и алгебраические формулы – тоже». Преподавателям точных наук было легче, но и остальные не терялись. Учительница латышского языка и литературы объясняла, к примеру, как истолковывалось какое-нибудь стихотворение Плудониса, Аспазии, а то и Райниса при буржуазном режиме, как – во времена гитлеровской оккупации и как следует понимать его теперь; при этом невозможно было понять, что же думает об этих стихах она сама.
Таких людей можно было хотя бы уважать за откровенность. Не то что в дневной школе, где на уроке грамматики учительница кривилась и шипела, если в качестве примера сложных слов вместо «беззубый» называли другое, хотя бы «безземельный». Кто это, простите, такой? Крестьянин живет в деревне – на земле, как иногда выражаются, но где же живут так называемые безземельные? Тоже ведь на земле!.. Бр-р! Еще и сейчас меня передергивает, стоит лишь вспомнить эту бешеную тетку.
Когда я, торопясь, поравнялся с учительским домом, голоса зазвучали громче. Мои нерегулярные визиты, чаще всего поздно вечером, моя сдержанность в разговорах с любезной историчкой и немкой, мой разбойничье-хулиганский облик не снискали мне тут большого уважения. Но я за ним и не гнался. Терпеть не могу лицемеров. Мне куда легче понять человека, откровенно признающегося, что Советская власть ему не по душе, чем этих притворял, которые с улыбочкой, с ухмылочкой на губах втихомолку издеваются над Советской властью, а вслух именуют себя самыми горячими ее приверженцами.
От быстрой ходьбы я так запыхался, что меня снова донял предательский, неудержимый кашель. Наверное, перекурился там, под черемухой. Я присел на камень, и меня стало знобить, потому что вспотел я до нитки. Немного отдохнул, пытаясь привести в порядок мысли. Когда будут похороны? Когда приедут Саша с матерью? И дальше: почему я не приложил всех сил, чтобы убедить Нору не ездить в деревню? Почему в тот раз не схватил ее за руку, как малого ребенка, и не увез в город? Ясно же было, что в деревне она не приживется. Наверное, она сама пошла смерти навстречу, потому что была не из тех, кто осторожничает и молчит перед всякой контрой. Не то чтобы она была настолько храбра, в этом я, уж извините, сильно сомневался. Дело тут заключалось совсем в другом. Эта полоумная Норина мамаша воспитала своих детей по всем правилам приличия, по которым, например, женщине нельзя и грубого слова сказать, хотя бы она тысячу раз его заслужила. Поэтому мамаша меня и недолюбливала: у меня, по ее мнению, были слишком грубые манеры. И я не очень удивился бы, узнав, что Нора и этим двуногим зверям стала читать мораль и поучать, как должен мужчина обходиться с женщиной, – а они взяли да завалили ее. Откуда только берутся на свете такие недоумки, как Норина мамаша, для которой приличия – прежде всего?
Но, как бы ни старался я мысленно взвалить часть вины в безвременной смерти Норы на ее мать, совесть не переставала нашептывать мне, что и сам я не без греха. Я-то ведь знал, что за зверье обитает в лесах! Почему же я не предупредил, почему не раскрыл ей глаза, не уберег? Почему надо было погибнуть Норе, а не мне? Я-то не пригожусь ни богу, ни черту, ни богу свечка, ни черту кочерга. Ни горячий, ни холодный, а тепленькие, как сказано, будут изблеваны из уст. И потом – обо мне разве что родная мать уронила бы слезу, зато многие даже обрадовались бы, что еще одним босяком стало меньше на свете.
Я так разволновался, что допустил непозволительную расточительность: отшвырнул недокуренную самокрутку, да еще и растер ногой. Обычно я заботливо сохранял каждый чинарик, потому что из трех-четырех бычков можно потом свернуть целую цигарку. А тут я раздавил горящую самокрутку каблуком и поспешил дальше, в волсовет.
К счастью, уполномоченный милиции, он же командир «ястребков», был в своем кабинете один; он что-то писал, даже не сняв винтовку с плеча.
Еще не успев толком поздороваться, я стал излагать ему свой замысел: пойти в лес и отомстить за Нору. В одиночку, вот именно. Если понадобится, даже вступить в банду. Я бы все выяснил и сообщил нашим, а тогда не страшно и погибнуть.
Что-то в этом роде я говорил ему, взахлеб, не умолкая, стараясь убедить. Жена уполномоченного одно время жила в городе по соседству со мной, и как-то раз я, по старому знакомству, раздобыл для нее уксусную эссенцию и краску для шерсти. Тогда я познакомился и с ее мужем, ужинал за одним столом. В другой раз, в городе, я вышел однажды из такой двери, у которой и он ждал своей очереди, и мы поздоровались. Так что знакомы мы были, хотя и поверхностно. Но кто знает, что могла ему наговорить обо мне жена или кто-нибудь другой.
Он спросил меня в упор, без обиняков:
– Ты любил Нору?
На такой прямой вопрос я ответить не смог и замялся:
– Не знаю…
– Как же так? Собираешься мстить за нее, пожертвовать жизнью и не знаешь – любил ли.
Я опустил глаза и пробормотал:
– Спать я с нею не спал…
Он хмурно усмехнулся.
– А без спанья, по-твоему, любви быть не может?
Я снова замялся:
– Не знаю…
– Так почему же ты хочешь отомстить за Нору: потому, что любил или потому, что не любил?
– Потому… да потому, что она была… луч света в темном царстве.
Уполномоченный милиции прочитал, наверное, меньше книг, чем я. Он встал и положил руку мне на лоб.
– Жара вроде нет… – а потом сочувственно, по-человечески спросил: – Похмелье?
Я и тут ничего не ответил. Сидел, как medinis žmogus, деревянный человек, какие бывают у наших соседей литовцев. Он со вздохом открыл шкаф, вынул бутылку и до краев налил самогон в чайный стакан.
– Выпей! Легче не станет, но хоть повеселее.
Я схватил стакан и выпил маленькими глотками, совсем как воду, даже не чувствуя вкуса. Только когда я ставил стакан, у меня на мгновение перехватило дыхание. Ничего. Я закусил мануфактурой, а попросту – понюхал рукав и глупо улыбнулся. Я и сам чувствовал, что глупо, что надо было вернее всего грохнуть кулаком по столу, а вместо этого у меня на глазах выступили слезы, и пришлось согнать лишнюю влагу при помощи того же универсального рукава, которым я только что закусывал.
– Полегчало? – по-отечески спросил милиционер.
Я и тут не ответил, только снова улыбнулся. Дурачок дурачком – что еще может он обо мне подумать?
Он опять вздохнул, встал и повелительно сказал:
– Идем.
Мы прошли по коридору, спустились по лестнице, прошли мимо «ястребка» с винтовкой на плече. Потом он отпер какую-то дверь и доброжелательно сказал:
– Ну, отдыхай. Утро вечера мудренее.
И запер за собой дверь.
Я стал оглядываться, и до меня постепенно дошло, что я один-одинешенек нахожусь не где-нибудь, а в восьмиместной камере; по крайней мере, нары в ней были на восемь человек. Я уже решил было поднять шум, но раздумал: на арест все это вовсе не было похоже. Никто меня не обыскивал, рюкзак тоже не отняли. И к тому же я ощутил вдруг такую усталость, что не было сил даже пальцем пошевелить. Да ведь это не камера, а просто номер-люкс в гостинице; никакого сравнения с фрицевскими или бандитскими землянками, где приходилось сидеть, не зная, доживешь ли до зари. Если до сих пор от самогона у меня только пекло в животе, то сейчас он поднялся до самого чердака, и глаза закрывались сами. Даже не закурив, я улегся на нары и сразу уснул: не зря же сказали мне, что утро вечера мудренее. Последняя мысль была – что, по крайней мере, сегодня я не встречу мамашу Саши и Норы, – и, надо сознаться, мысль эта меня обрадовала…
…Кто-то сильно тряс меня за плечо:
– Уснул, что ли? Тут не гостиница, тут работать надо!
То был кривошеий. Я пришел в себя. Было не время для воспоминаний: предстояло всю ночь работать. Но это меня больше не пугало. Чефирь разогнал сон, хотя в мускулах ощущалась еще расслабляющая легкость. Ничего, надо только раскачаться, и горькое зелье утроит силы. Лишь бы назавтра мотор в груди не стал давать перебои – тогда будет скверно.
Поднялась и Гундега.
Кривошеий сказал ей:
– А ты давай-ка домой, набегалась за день, как бешеная собака. Мы втроем управимся.
– Управимся, – подтвердил я, а Дзидра, как обычно, промолчала.
Бывшая дижкаульская Гундега, уж не знаю, как ее теперь звали, повернулась, чтобы уйти, но остановилась и обратилась к нам с Дзидрой:
– Уже заранее – большое спасибо за то, что выручили в трудную минуту. А все-таки хочется из интереса спросить: вас привели сюда убеждения или что-то другое?








