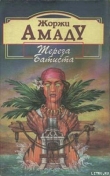Текст книги "Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц)
Жоржи Амаду
Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда
Посвящается:
Зелии – возлюбленной и сообщнице
Моим детям – Жоану Жоржи, Паломе, Педро и Ризии
Николь Занд, Жозе Карлосу де Васконселосу и Отто Лара Резенде
* * *
«Когда все дружным хором говорят “да”, я говорю – “нет”.
Таким уж уродился».
(Ж.А. «Большая засада», 1984)
«…История рассказывается, а не объясняется».
(Ж.А. «Исчезновение святой», 1988)
«Я – баиянец, романтичный и чувственный».
(Ж.А. Интервью журналу «Паратодос», 1958)
Я стал записывать всплывающие в памяти эпизоды далекого и недавнего прошлого по чистой случайности: нежданно-негаданно выдалось свободное время. В январе 1986-го мы с Зелией прибыли в Нью-Йорк на конгресс Международного ПЕН-клуба. Прибыли – и тотчас одновременно свалились с высоченной температурой. Супругов Амаду сразила жестокая пневмония. Хотели даже в больницу класть, но, к счастью, обошлось. Впрочем, нет худа без добра: мы не побывали ни на одном заседании, не услышали ни одного доклада, не приняли участие ни в одной дискуссии. Зато я стал вспоминать и записывать.
Сразу предуведомляю, что не несу никакой ответственности за точность дат – я с гимназических времен терпеть не могу хронологии. Так что время и место каждого эпизода даны если не произвольно, то весьма приблизительно – только чтобы примерно очертить эпоху и часть света.
Всем женщинам, повстречавшимся мне в этом плаванье, я дал имя Мария. Это самое прекрасное имя на свете, и пусть носят его те, с кем сводила меня судьба в портах захода и приписки, те, кто встречал и провожал меня на пирсе, кто смутной тенью следовал за моим кораблем.
Мне было шесть лет, когда произошла Октябрьская революция, от имени и во имя трудящихся провозгласившая в России советскую власть.
Мне скоро восемьдесят – и вокруг рушится порядок, установленный ею и укрепленный итогами Второй мировой. В Европе возникает новая географическая и политическая реальность. Распадаются империи, гибнут режимы. Бойкие коммерсанты распродают на сувениры клочья «железного занавеса» – обломки Берлинской стены.
А та идеология, что представлялась нам когда-то кристально, стерильно чистой и безупречно научной, что смутила душу не одного интеллигента, что всколыхнула и повела на борьбу за свободу и счастье гигантские человеческие массы, что разделила мир надвое, четко разграничив «добро» и «зло», идеология эта оказалась догматической химерой. И привела она не к свободе и счастью, а к тирании. И недаром 7 ноября москвичи пронесли по Красной площади транспарант: «Пролетарии всех стран, простите нас!»
Уходит в небытие то, что казалось вечным. Творится небывалое и немыслимое. На наших глазах, на экранах телевизоров созидается История. Невероятные перемены – и в таком бешеном ритме, что день стоит года, а неделя столетия. Жаль только, не удастся досмотреть до конца. А хотелось бы.
Я решил опубликовать эти обломки и осколки воспоминаний в надежде дать ответы на некоторые «как» и «почему». За плечами у меня – восемьдесят лет напряженной, насыщенной, наполненной событиями и страстями жизни, прожитой со вкусом и, смею думать, с толком. Пора, пора подводить итоги, подбивать бабки, сводить дебет с кредитом, а крохи и мелочи, составившие существо этого повествования, реализовать по себестоимости. Описание событий грандиозных и ужасных, острую боль и безмерное ликование ищите в чванных и чинных мемуарах какого-нибудь знаменитого писателя, а меня – увольте!
Я не рожден стать знаменитостью, меня не стоит мерить этими мерками – «крупный – мелкий», – я, слава Богу, никогда не ощущал себя ни известным писателем, ни выдающейся личностью. Я – просто писатель, просто личность. Разве этого мало? Я был и остаюсь жителем бедного города Баия, праздношатающимся зевакой, который бродит по улицам и глазеет по сторонам, именно в этом полагая цель и смысл своего бытия. Судьба была ко мне благосклонна и дала много больше того, на что я мог рассчитывать и уповать. Но мастерить себе монумент не стану. За славой не гонюсь. Да и что есть слава? Дым!
Итак, я хочу всего лишь рассказать кое о чем, вспомнить веселые и грустные эпизоды этого стремительного и оказавшегося таким коротким каботажного плаванья, имя которому – Жизнь.
Москва, 1952
Январь. Мороз градусов двадцать, на дворе воет метель. Мы с Ильей Эренбургом были приняты в Кремле очень высокопоставленными лицами и имели с ними крайне неприятную беседу. Распространяться не стану, скажу лишь, что речь шла о чехословацком писателе Яне Дрде – по его делам я и приехал из Праги в Москву, где мне, кстати, должны вручить Международную Сталинскую премию «За укрепление мира и дружбы между народами».
В мрачном молчании вернулись мы домой, в квартиру Эренбурга на улице Горького, выпили водки, и тут Илья мне сказал:
– Мы с тобой никогда не напишем мемуаров, Жоржи. Мы слишком много знаем. Я припомнил недавний разговор с ответственными товарищами и согласно кивнул.
Впрочем, столь категоричное утверждение не помешало автору «Оттепели» несколько лет спустя, когда по стене советского мракобесия зазмеились первые трещины, а во тьме замерцал тоненький луч надежды, издать сколько-то томов своих воспоминаний, на последних страницах которых появляются в числе прочих и симпатичнейшие супруги Амаду.
Но вошло туда далеко не все: дочь Эренбурга Ирина рассказала мне в 1988 году, что, приводя в порядок его архив, обнаружила материала еще на несколько томов. Однако напечатать их даже в либеральные хрущевские времена Илья не смог – он и вправду слишком много знал!
Да и я за свою долгую жизнь узнал немало такого, о чем поклялся молчать до гроба. Мне известны причины и следствия дел и событий, о которых я и словом не обмолвлюсь. А известны они мне стали потому, что был я активным членом одной политической партии, организованной на военный манер, действовавшей в глубоком подполье и отнюдь не гнушавшейся подрывной деятельностью. И вот вам пожалуйста – столько лет прошло, и давным-давно уж я никакой не активист, и вечно живое всепобеждающее учение, активность эту направлявшее, кануло, сгинуло и приказало долго жить, и «реальный социализм» пришел к своему бесславному концу, а я до сих пор не считаю себя свободным от обещания держать в тайне то, что стало мне известно благодаря положению в партии. И, хоть несдержанность моя никому повредить уже не может, а тайны не имеют ни малейшего значения, я все еще не считаю себя вправе нарушить однажды данное слово и предать… Предать гласности то, что доверено мне было по секрету. Очевидно, тайны эти со мною вместе и умрут.
Как я боюсь больниц, их холодных коридоров и палат, приемного покоя – преддверия вечного. А еще больший ужас внушают мне кладбища, где даже цветы теряют свою живую прелесть и красоту. Однако есть у меня собственное мое, личное кладбище, я его открыл и освятил несколько лет назад, когда слегка огрубел душою. Я хороню там тех, кого убил, – вернее, тех, кто перестал для меня существовать, тех, кого в один прекрасный день лишил своего уважения и кто, стало быть, умер для меня.
Когда некто переходит все возможные границы и наносит мне обиду настоящую, то есть непростительную, я перестаю на него злиться и раздражаться и в драку не лезу, и отношений с ним не прерываю, и по-прежнему отвечаю ему на поклон. Нет, я сваливаю его в братскую могилу на моем кладбище, где не существует отдельных могил и семейных склепов – нет, там все лежат вповалку в безобразии и бесстыдстве свального греха. Этот некто для меня – покойник, в землю зарытый и землей присыпанный, и, что бы он ни делал, обидеть меня или ранить у него уж никак не получится.
Время от времени – и слава Богу, что не слишком часто! – хороню я тех, кто нарушил клятву, покривил душой, предал любовь, изменил дружбе, поступил бесчестно и бессовестно, тех, кто был корыстен, лжив, вероломен, лицемерен, нестерпимо заносчив – высокомерием и спесью меня ничего не стоит обидеть. Лежат они на этом маленьком и уродливом кладбище, схоронил я их без цветов, слезинки над ними не уронил и даже не вздохнул горестно, лежат и гниют они там – есть среди них мужчины, есть и женщины, немного, правда, – те, кого я вымел из своей памяти, вычеркнул из жизни.
Когда порою я встречаю этих призраков на улице, то здороваюсь и останавливаюсь перемолвиться с ними словечком, слушаю и впопад отвечаю на их слова, киваю на похвалы и от объятий, не в пример Екклесиасту, не уклоняюсь и подставляю щеку для братского, для иудиного поцелуя. А потом иду своей дорогой, а встреченный думает, что еще раз меня провел и обманул, и даже не подозревает, что он – мертв и в землю закопан.
Париж, 1949
Мой сын Жоан Жоржи попал в Париж четырех месяцев от роду, и младенческий лепет его был французского происхождения, и до сих пор не избавился он от картавого парижского «р».
Больше всех любил он скульптора Васко Прадо: тот заезжал за ним в гостиницу, сажал – вернее, укладывал – в корзину, укрепленную на раме велосипеда, и подолгу катал по весеннему Парижу. Жоан обожал велосипед и скульптора.
Однако не меньше был он привязан к одному молодому человеку из племени «зазу» – так в послевоенном Париже называли юнцов, помешавшихся на джазе и экстравагантных нарядах, – который ухаживал за его нянькой. Эта самая нянька – или бонна? – пестовала малыша, покуда мама Зелия выполняла партийные поручения или слушала лекции в Сорбонне. Свидания бонны – она была родом из Эльзаса – и «зазу» происходили в Люксембургском саду: влюбленные прогуливались по его аллеям, толкая перед собой колясочку. В колясочке лежал Жоан, с интересом созерцая красоты Левого берега.
Ох, не только эти достопримечательности тешили живой и пытливый взор малыша! Прогулка завершалась в Шестом округе, возле дома, где «зазу» снимал маленькую квартирку, коляску ставили у холостяцкой кровати, и счастливые любовники начинали долгое странствие по торным дорогам и нехоженым тропам плотской любви, упоенно совокупляясь и каждой новой позой и вариацией колебля и сотрясая прогнившие устои буржуазной морали.
Кавалер через слово поминал Сартра, дама стонала по-немецки, Жоан-младенец смотрел и учился.
Париж, 1991
В августе я бежал из Бразилии – бежал, чтобы не видеть, как тихо плывет навстречу смерти Мирабо Сампайо,[1]1
[i] Жозе Мирабо Сампайо – бразильский скульптор и художник.
[Закрыть] как улыбается он в забытьи, к которому свелось ныне все его бытие, переживая, наверно, заново все те истории, что он так любил рассказывать, повторяя их множество раз по любому поводу или же без всякого повода, как вспоминает он, волнуется и сердится: «Прочь с глаз моих, сукин ты сын!» И мы по улыбкам Мирабо, по движению его бровей, по легкой судороге, передергивающей его лицо, можем догадаться, что сейчас проносится перед мысленным взором нашего друга, и когда мы с Карибе[2]2
[ii] Карибе (Эктор Хулио Париде де Бернабо; р. 1911) – бразильский художник.
[Закрыть] выходим из больничной палаты, глаза у нас на мокром месте, а Зелия – и просто в слезах. Не в силах вынести это, я уезжаю, я оставляю смерть на другом берегу океана.
Жозе Мирабо Сампайо – самый давний, самый старый из моих друзей, мы подружились еще в 1923 году, с тех времен, когда учились в гимназии Антонио Виейры. Он был первым учеником, все награды в конце года доставались ему, а я лишь во втором классе заработал медаль за успехи в законе Божьем, и как это вышло, до сих пор не понимаю. Чуть ли не семьдесят лет мы вместе, и одному Богу известно – да и то вряд ли! – чего только не было за эти годы!
Помню, как в 1935-м вывалились мы ночью в сильном подпитии из «Табариса», и Мирабо, достав револьвер, предложил сию же минуту пойти и застрелить некоего баиянского политика, местного лидера партии Интегралистское действие, а как его звали – убейте не помню. Большого труда нам с Эдгаром стоило разоружить новоявленного террориста, заставить его отказаться от покушения.
Эдгар Рогасиано Феррейра был его шофером со времен буйной и разгульной юности, когда мы играли в карты, танцевали танго, пили, волочились за аргентинками и ездили на первых в Баии спортивных автомобилях. Оставался он его шофером и те десять лет, когда у Мирабо не было никакой машины, пестовал его нежно, как сына, заботился, как о родном отце, был его ангелом-хранителем и не раз спасал посреди всяческих пьяных безобразий.
А теперь Мирабо, простершись на больничной койке, пристально смотрит на нас с Карибе, а мы стоим перед ним и несем всякую околесицу, вспоминаем разных красоток, снова и снова зовем его и окликаем в надежде, что он придет в себя и узнает нас, и мы будем разговаривать и смеяться как прежде. И вот на губах его появляется улыбка – неужели узнал? – но он не произносит ни слова и снова уплывает в свое забытье.
Карибе пишет мне из Баии: «Мирабо жив, но все там же». Смерть преследует меня, а я бегу от нее, хочу, чтобы как можно больше миль пролегло между нею и мною. Ох, нелегкое это дело.
Милан, 1949
В самом центре Милана, в торговой галерее Зелия вдруг возбужденно кричит, показывая мне на витрину книжного магазина:
– Смотри!
Я смотрю – и вижу экземпляр моих «Бескрайних земель», чья броская обложка украшена репродукцией керамики Пикассо. Это мой первый роман, вышедший в итальянском переводе.
– Смотри, плакат! – Зелия вне себя от восторга.
Вообще-то это не плакат, а картонный прямоугольник, сообщающий об авторе: «Il piu noto scrittore brasiliano».[3]3
[iii] «Самый известный бразильский писатель» (итал.).
[Закрыть] Зелия читает эту надпись вслух, и мы, слегка напыжившись, идем дальше.
И вскоре оказываемся перед витриной другого книжного магазина и ищем на ней «Земли». Но выставлен там роман Эрико Вериссимо «Взгляните на лилии долины», если память мне не изменяет. И прислоненная картоночка заверяет, что автор – «Il piu noto scrittore brasiliano».
Мы с Зелией смеемся и пыжиться перестаем. В киоске на углу я покупаю открытку, марки и, описав происшествие, посылаю ее в Порто-Алегре Эрико Вериссимо: «На протяжении пяти минут и двадцати метров «il piu noto» был я, а потом передал полномочия тебе».
Сан-Пауло, 1945
На Первом конгрессе писателей Бразилии я влюбился в Зелию, показал на нее поэту Пауло Мендесу де Алмейде и заявил:
– Видишь вон ту? Она будет моей… Пауло расхохотался мне в лицо:
– Кто? Зелия? Да никогда в жизни! Руки коротки. Это – порядочная женщина, она не из тех, с кем ты привык проводить время.
А я в ту пору, разведясь с Матилдой, беспечным мотыльком перепархивал из одной постели в другую. Женщин было много, и я тратил на них досуг, остававшийся от политической деятельности. Замечательный поэт Освалд де Андраде, поссорившись со мной, даже обозвал меня – причем печатно, на первой полосе своей газеты – Распутин «Верного курса». «Верным курсом» же называлась линия на демократизацию компартии и поддержку президента Жетулио Варгаса. Освалд допустил чисто поэтическое преувеличение – так сказать, гиперболу, ибо до Распутина было мне далеко: просто я отдыхал от политических бурь в объятиях различных дам и девиц. Но увидев Зелию, я сложил оружие, склонил знамена и капитулировал.
– Да нет же, Пауло, ты не понял! Ты не дослушал. Она будет моей женой, супругой, спутницей жизни.
– Ты спятил, бедный мой Жоржи. Я знаю Зелию, а ты – нет. Немного найдется на свете женщин более строгих правил. Откажись от этой затеи, не трать время попусту.
То же самое и в тех же примерно выражениях говорил мне другой наш общий приятель, художник Кловис Грасиано:
– Что? Зелия?! Во-первых, она не отличается легкомыслием. А во-вторых, она замужем. Выбрось это из головы.
Но я не выбросил и не отказался – страсть была сильна. Я разбился в лепешку – и в июле Зелия перебралась ко мне. Нам прочили и пророчили, что брак этот продлится не более полугода. Как видите, пророки ошиблись: скоро сорок лет, как мы вместе.
Баия, 1989
Я сижу в старом-старом, полуразвалившемся, столь же уродливом, сколь и удобном, так называемом дедушкином кресле и смотрю по ТВ предвыборные дебаты. Близятся выборы президента республики. Смотрю одним глазом – не от пренебрежения, а оттого, что левое веко как две недели назад опустилось, так больше подниматься не желает. По-научному это называется птоз, но я-то думаю, что окривел от того, в каком виде предстали передо мной советская империя и ее подданные. В булочных нет хлеба, мои московские друзья – и важные сановники, и простые люди, не обремененные чинами и титулами, – строят прогнозы один мрачней другого, предрекая смуту, голод, гражданскую войну и возврат ко всем прелестям тоталитаризма. Еще год назад, когда я был в Москве, сопровождая нашего президента Жозе Сарнея, подобные настроения были немыслимы. Было трудно, но люди сохраняли надежду и оптимизм.
Итак, смотрю я одним глазом, но слушаю в оба уха и ушам своим не верю. Боже, на какие низменные и убогие уловки пускаются претенденты, обливающие друг друга помоями в борьбе за голоса избирателей, сколько неистовой злобы в стремлении очернить соперника – причем у всех! Единственный, кто почему-то не занимается бессовестной демагогией и не оскорбляет конкурентов, это – подумать только! – кандидат от компартии, молодой сенатор Роберто Фрейре. Он, по крайней мере, предлагает задуматься о судьбе страны. Ему победа не светит, за него не проголосуют – и не потому даже, что коммунист, а потому, что открыто заявил о своем атеизме. Вот на экране появляется Лула, лидер могучей Партии трудящихся. Когда-то, в пору появления этой партии на свет во времена военной диктатуры, я связывал с нею немало надежд. С Лулой я лично не знаком, отзываются о нем хорошо, и я верю этим отзывам. Он кажется мне человеком порядочным – большая редкость в наши дни! Будучи профсоюзным боссом, вел себя во время стачки металлургов безупречно. И странно звучит в его устах воинствующий догматизм, когда он обращается к избирателям – он ему вроде бы несвойственен. Но таковы уж дух и стиль избирательной кампании: это влияние коммунистических лидеров, кампанию эту организующих и направляющих. Ох, ну и речь! Немыслимо слушать ее после того, что происходит в Восточной Европе, и как только язык поворачивается произносить эти словеса, когда на дворе – конец XX века, когда рушатся режимы и гибнут идеологии, когда идут похороны пролетариата и почил «реальный социализм». Лула безнадежно опоздал.
Ни разу не произносит он слово «народ», только «пролетариат», только «рабочий класс». К нему он обращается, от его имени говорит, обещая, что, когда придет к власти, установит диктатуру трудящихся и примется строить социализм. Нашел чем прельщать!
– Зелия, ты только послушай! Можно подумать, что речь ему сочинила и прислала из Тираны вдова Энвера Ходжи.
Ей-богу.
По скромному разумению автора, лучшие переводы его книг – те, которые он из-за незнания языков прочесть не может, то есть абсолютное большинство. Ох, плохо у меня с языками: со всеми, начиная с португальского, ибо я говорю и пишу на чудесном афро-бразильском наречии – по-баиянски. С грехом пополам объясняюсь по-французски и по-испански, ну, еще могу связать несколько итальянских фраз, да и те – со словарем. Вот тебе и все мое полиглотство.
Так вот, читая свой роман в переводе на один из трех этих мало-мальски известных мне языков, я замечаю, что как бы ни был даровит, скрупулезен и виртуозен переводчик, всегда найдется мелочь, которая будет резать мне глаз и ухо, непременно пропадет какой-нибудь милый авторскому сердцу оттенок, нюанс и – не побоюсь этого слова – обертон. Легко ли, скажите, вместо пленительных истинно бaиянских обозначений «xibiu», «xoxota» довольствоваться пресным «лоном» или псевдомедицинским «влагалищем»?! Каково приходится автору, когда могучая и прекрасная «bunda» заменяется тощей и благопристойной «задницей»?!
То ли дело китайские иероглифы! Недаром так ценится в этой стране искусство каллиграфии! И красиво, и совершенно непонятно. А как увлекательно читать себя по-арабски! Презрев то обстоятельство, что за всю жизнь не выплатили мне ни единой драхмы, ни единого динара вознаграждения, я всего месяц назад приобрел в Танжере пять своих романов в переводе на арабский, пять ливанских пиратских изданий.
Душа радуется и при виде древнееврейских литер, загадочных грузинских письмен и армянской вязи. А до чего же тешит меня кириллица!
Хорош также и латинский алфавит, если буквы его складываются во вьетнамские, норвежские, турецкие, исландские слова. Далеко не все уважают авторское право, но все даруют радость. На каких только языках не выходили мои книги – на корейском и туркменском, тайском и македонском, на фарси, урду и монгольском… Однажды прислали из Парагвая «Историю сеньориты Ласточки» на языке индейцев гуарани. Меня очаровало звучание этих слов: «Карай Мбаракайа». А? Каково?
Смех смехом, но, унимая тщеславие, готов признать, что на гуарани я – лучше, чем на португальском.