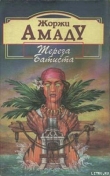Текст книги "Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
Баия, 1932
У Мирабо Сампайо, окончившего в Баии старейший и самый знаменитый в Бразилии медицинский факультет, славный ораторским искусством своих преподавателей и ученостью своих профессоров, хватило благоразумия никогда никого не лечить. Назначенный санитарным врачом, он ограничил свою помощь страждущему человечеству тем, что старательно и успешно подписывал сертификаты об оспопрививании. Но заботами отца, души в Мирабо не чаявшем и предсказывавшем ему блистательную карьеру эскулапа, получил он в самом центре Баии великолепно оборудованный и роскошно обставленный медицинский кабинет – да, пожалуй, вернее было бы назвать это «амбулаторией», – где мог бы заняться частной практикой.
Пациентов не было, зато кабинет Мирабо в новом доме на улице Чили посещали в изобилии необыкновенном дамы. О, этот кабинет! Обитель греха, юдоль порока! Сколько барышень распрощалось здесь с девичеством, сколько семейной чести погибло в его стенах, где прекрасные дамы из общества с помощью бесстыдника Мирабо и нас, его приятелей, таких же вертопрахов и шалопаев, прилежно занимались изготовлением рогов для своих мужей! Какой там медицинский кабинет – натуральная гарсоньерка, уютная, удобнейшим образом расположенная, снабженная всем, что необходимо для обольщения: от напитков до проигрывателя, от роскошных альбомов с репродукциями до шоколада, и если бы звучал здесь хоть изредка традиционный вопрос «На что жалуетесь?», нечего было бы ответить дамам, отличавшимся отменным здоровьем, но невольно ощущавшим легкий холодок вдоль хребта и зуд нетерпения при виде высокого стола, ширмы, плоской подушечки, покрытой белой простыней кушетки, на которую укладывались они, давая возможность доктору и его дружкам этот зуд если не унять, то хотя бы локализовать.
Да-с, так вот протекала частная практика доктора Мирабо Сампайо, о чем извещала сверкающая табличка у подъезда. Художник из Сан-Пауло Мануэл Мартинс, прибывший к нам, чтобы иллюстрировать путеводитель по баиянским улицам и тайнам, сделал отличную серию ксилогравюр, запечатлевших городские спуски и тупики, церкви и гулящих девок. В одной из комнат «кабинета» он устроил свою студию, где обучал искусству графики, живописи и разврата одаренных художественными способностями девиц из хороших семейств.
Но справедливости ради следует отметить, что один пациент у Мирабо все же был, и стал им, кажется, турист с французского парохода, бросившего якорь в нашей гавани. Европейцы сошли по трапу и двинулись на поиски разных достопримечательностей, коими столь богата Баия. Одни разгуливали по улицам, другие загорали на пляже, а третьи – и в их числе тот, о ком я веду речь, – наслышанные о чудесах баиянской кулинарии, решили с ними ознакомиться. И вот этот несчастный отдал столь обильную дань нашему угощению – всем этим мокекам, ватапам и шиншинам,[99]99
[xcix] Мокека – жаркое из рыбы, крабов или моллюсков; ватапа – блюдо из маниоковой муки с кусочками мяса и рыба; шиншин – жаркое из курицы с тертым луком и чесноком, сушеными креветками и семечками тыквы или арбуза.
[Закрыть] – что уже спустя несколько часов его, что называется, «завернуло и пронесло»: непривычные для нежного европейского желудка яства произвели действие сокрушительное. Придерживая полуспущенные штаны, француз кинулся на поиски врача.
В центре города у подъезда респектабельного дома в глаза ему бросилась бронзовая дощечка «Доктор Мирабо Сампайо. Внутренние болезни». И при виде имени великого соотечественника взыграл в страдальце патриотизм. Исполненный доверия – должно быть, это первоклассный врач! – он вскочил в лифт.
«О, Боже, это же гинеколог!» – в ужасе заключил он, когда увидел многочисленных очаровательных дам, порхавших туда-сюда по всему «кабинету». Но тут вышел к нему сам доктор Мирабо – молодой, красивый, элегантный – и после краткой беседы, которую повел на чистейшем, хотя и чересчур литературном французском языке, и беглого осмотра успокоил:
– Ничего серьезного. Это не желтая лихорадка, не дизентерия, не холера, а расстройство желудка, заурядный понос, вызванный пальмовым маслом-денде, соком незрелого кокосового ореха и жгучим стручковым перцем.
Он не только сказал, чем облегчить страдания, но и протянул несколько таблеток, достав их с полок, на которых стояли в ряд портвейны, вермуты и коньяки. И ничего не взял с него ни за консультацию, ни за лекарство, чем вознесся в глазах француза на недосягаемую высоту великодушия, благородства и истинного гуманизма.
Один-единственный пациент – а какая слава!
Монте-Эсторил, 1991
Между Рождеством и Новым годом увидели мы по телевизору зрелище поистине трагическое – отрешение от должности Михаила Горбачева, в очередной раз униженного Борисом Ельциным. Да, мы своими глазами увидели, как некогда всемогущий самодержец покидает кабинет президента Советского Союза, ибо нет более и самого Советского Союза. По его лицу видно, как дорого дались ему и отставка, и отход от государственной деятельности, и отказ от мечты создать державу демократического социализма. «Мне все больше нравится Горбачев, – говорю я Зелии. – И все меньше Ельцин».
И я посылаю Горбачеву телеграмму. Я благодарю его за ту решительность, с какой он положил конец холодной войне, отдалил возможность третьей мировой войны – «горячей», ядерной. О ней Жолио-Кюри еще в 1955 году в Хельсинки сказал мне, что начало ее будет означать конец жизни на Земле. Я благодарю его и за те шаги, которые он предпринял, чтобы открыть перспективы для установления демократии там, где столько лет царила диктатура. Я приветствую его и его жену Раису – она была очень любезна с Зелией и со мной, сказала, что я – любимый ее писатель, а «Габриэла» – настольная книга. Даже если эта фраза продиктована всего лишь простой учтивостью или политическим расчетом, все равно приятно услышать ее из уст привлекательной и умной женщины.
Лично я общался с Горбачевым только однажды – на кремлевском приеме в честь нашего тогдашнего президента Жозе Сарнея. В своей приветственной речи советский лидер упомянул меня и Оскара Нимейера. И вот я вижу теперь, как Горбачев слагает с себя свои обязанности: нет, не с облегчением человека, сбросившего с плеч непосильное бремя, – с горечью и разочарованием, он побежден, он проиграл свой «последний и решительный бой» в той войне, которую вел за преобразование государства и самого понятия «коммунизм».
Он нравится мне все больше – справедливости ради скажу, что симпатии мои вернулись к нему во время августовского путча, когда замшелые ортодоксы предприняли безнадежную попытку повернуть время вспять и вновь установить в СССР сталинский режим. А до этого я как-то отдалился от него, ибо он стал прилагать усилия к тому, чтобы замедлить процессы, которым сам же так мужественно и прозорливо дал ход, стал сближаться с реакционерами, искать у них поддержки. Именно в этих обстоятельствах Шеварднадзе ушел с поста министра иностранных дел – я уверен, что мы еще услышим об этом грузине. И вот с этих странных маневров, с отступления Горбачев и начал терять власть.
И я, глядя, как он покидает свой кремлевский кабинет, вспомнил пророчество итальянского романиста Игнацио Силоне, сказавшего однажды Пальмиро Тольятти:
«Окончательная битва развернется когда-нибудь между коммунистами действующими и бывшими» – между советским коммунистом Михаилом Горбачевым и великорусским экс-коммунистом Борисом Ельциным.
Лиссабон, 1957
Я возвращаюсь из Москвы. В Копенгагене сажусь в самолет авиакомпании SAS, следующий по маршруту Цюрих – Лиссабон – Дакар – Ресифе – Рио. Эра реактивной авиации еще не пришла, мне предстоят двадцать шесть мучительных часов. Только из Цюриха до Лиссабона – никак не меньше четырех. Но на этот раз по прошествии трех с небольшим часов самолет наш начинает снижаться, и в иллюминатор я вижу крыши португальской столицы, куда мне въезд – влет? – строго воспрещен, так что крыши – это все, чем я могу насладиться, не считая, понятное дело, зала для транзитных пассажиров в аэропорту Лиссабона, чьи улицы, крутые спуски и кафе я, читатель и пламенный почитатель Эсы де Кейроша, знаю лишь по его романам.
На мой недоуменный вопрос стюардесса отвечает, что через час начнется забастовка летчиков SAS, и все ее самолеты приземлятся в ближайших аэропортах. Чтобы не создавать слишком уж больших неудобств пассажирам, командир нашего лайнера решил сократить путь до Лиссабона, откуда мы самолетами других компаний легко доберемся до Южной Америки. Завтра утром, первым же рейсом «Swissair» мы отправимся дальше.
После посадки у нас отобрали паспорта, повели сначала в зону пограничного контроля, а потом – на таможню. И под любопытствующим взглядом чиновника я, глазам своим не веря, получил свой паспорт с португальской въездной визой, действительной в течение двадцати четырех часов. Затем – таможенный досмотр: перетряхивают ручную кладь. Дело было зимой, и близился вечер.
Нас сажают в автобус и везут в центр города, в отель, где SAS заказала нам номера. Там, у стойки портье, я поймал на себе пристальный взгляд некоего субъекта в габардиновом плаще и шляпе – классический шпик, явный тайный агент, извините за оксюморон. Получаю ключ и приглашение от авиакомпании на ужин, поднимаюсь к себе в номер. Итак, передо мною выбор – ужин с исполнением португальских фадо, либо встреча с давней приятельницей Беатрис Коста, которая, как я узнал из газеты, покуда ждал решения властей, блеснет сегодня мастерством и талантом в одном из спектаклей своего театра. Нет, ни светлой печали фадо, ни лукавого изящества Беатрис – я наконец-то на краткий срок, на одну ночь, вступлю в обладание вожделенным, вымечтанным и запретным Лиссабоном, я пересеку его из конца в конец, я буду бродить по его улицам.
Спускаюсь к портье, меняю малую толику денег, узнаю, как добраться до площади Россио, – все это под внимательным взором и чутким ухом габардинового соглядатая: он даже поднялся с кресла, где сидел во время краткого моего отсутствия. Я выхожу из отеля и двигаюсь в указанном направлении. Шпик, подняв воротник – вечер холодный, – следует за мной несколько поодаль.
Я шел медленно, стараясь принять все, что давал мне Лиссабон – вбирая в себя его звуки, краски, запахи, дома, голоса, лица, шелест и шорох. Сердце мое билось учащенно, на губах застыла растерянная улыбка, на глазах выступили слезы. Я попирал торцы лиссабонских мостовых, останавливался перед витринами, вглядывался в лица прохожих, читал афиши и таблички с названиями улиц и переулков, вывески ресторанчиков и кафе. В витрине книжной лавки я увидел португальское издание «Оттепели» Ильи Эренбурга. Всего неделю назад в Москве я вручил автору его роман, вышедший в Бразилии. Лавка открыта, я вхожу и покупаю экземпляр, чтобы при случае переслать его Илье, и отлично изданный сборник стихов Сезарио Верде. Не удержавшись от искушения, перелистал еще несколько книг, и, должно быть, маячащая у дверей фигура агента привлекла ко мне внимание хозяина. Он пытливо взглянул на меня, стараясь, видно, определить, кто же я такой, но вопрос, уже готовый сорваться с его губ, так и не прозвучал. Как только я ступил за порог, он зашептался с кассиршей. А мы с моим спутником двинулись дальше – к площади Комерсио.
Я зашел в кафе и, смеясь про себя, увидел, как шпик прислонился к фонарному столбу, еще выше поднял воротник – становилось все холодней. Я расспросил официанта, как мне добраться до Алфамы и Моурарии, и снова мы вдвоем зашагали вперед. В ту пору я был ходок неутомимый, и агенту, чтобы не потерять меня из виду, приходилось сильно прибавлять шагу. Тут как раз я увидел своих спутников, вылезавших из автобуса перед рестораном, но не присоединился к ним, снова предпочтя треске и фадо зябкую и сырую, веющую неведомыми ароматами лиссабонскую ночь, тихие улицы, пустынные площади. Мое свидание с городом продолжалось.
Моросил мелкий дождик, а я, закутавшись поплотней в свое русское пальто, прозванное «Броненосец Потемкин», брел себе да брел куда глаза глядят, посмеиваясь над промерзшим и вымокшим соглядатаем. Только в первом часу ночи, усталый и довольный, я вернулся в гостиницу. Получая у портье ключ, я видел: агент, остановясь у дверей, провожает меня глазами до самого лифта. Я чуть было не помахал ему на прощанье, думая, что пришла разлука. Как бы не так: утром, когда я садился в автобус, который должен был отвезти нас в аэропорт, он стоял чуть поодаль, на мостовой. Потом он сел следом, доехал вместе с нами и довел меня до зала транзитных пассажиров. Уж не знаю, дома ли он ночевал или коротал время до утра, скорчившись в неудобном кресле в холле гостиницы. В автобусе он чихал, кляня, должно быть, и мою ночную прогулку и собачью свою службу.
Вот как прошла эта ночь, когда судьба подгадала так, что забастовка летчиков SAS открыла передо мной ворота Лиссабона, и я вдохнул его воздух, ощутил его вкус, познал его красоту, приобщился к его тайне, прикоснулся к нему, как прикасаются в первый раз к телу женщины – желанной и недоступной.
Когда я слышу, что у старости есть свои светлые стороны и преимущества, свои выгоды и прелести, неизменно осведомляюсь – какие же именно? Чуточку больше знать? Капельку меньше страдать от предубеждений и предрассудков? Да на кой же черт сдался жизненный опыт, если жизнь уже прожита, – ни тебе, ни другому проку от него не будет: опыт по наследству не передашь, по духовной не отпишешь.
Зато сколько бедствий обрушивается на нас вместе с грузом прожитых лет, как подгибаются под этим бременем ноги – дрожат коленки, и неверным делается шаг! Я уж не говорю об одиночестве, на которое стольких обрекает старость, но в ужас можно прийти от одного лишь несоответствия между изощренной неугомонностью желания, ненасытностью вожделения – и слабостью плоти. Желание по-прежнему застилает глаза, жжет огнем и пьянит, охватывает все тело, а немощное тело-то еле-еле справляется – если вообще справляется – с долгом своим.
Мудрец, слышал я и в книгах читал, отыщет под занавес жизни иные, более утонченные услады, более возвышенные наслаждения, отыщет и утешится ими. Вот, например, мой друг Мирабо Сампайо живет сладкими воспоминаниями, со светлой печалью – так, что ли? – толкуя со мной о тех временах, когда мог, фигурально выражаясь, с одного накала три гвоздя выковать. Это, что ли, и есть услада и отрада?!
Париж, 1947
Да имею ли я право сказать, что знавал Альбера Камю? Мы виделись один-единственный раз, да и то – можно сказать, мельком, в дверях кабинета Клода Галлимара: он выходил оттуда, а я входил. Нас познакомили, я воззрился на него разинув рот, он улыбнулся, мы пожали друг другу руки, вот и все, больше мне встретить его не довелось, это было в конце 1949 года.
Я так растерялся, что даже не поблагодарил его за написанную за десять лет до этого статью, где он приветствовал издание моего романа «Жубиаба» в переводе на французский, и Камю, наверно, счел меня человеком либо крайне заносчивым, либо до последней степени неучтивым. Но ведь я и не подозревал о ее существовании, и лишь в 1989 году прочел лестный для меня отзыв. Воображаю, что было бы со мной, узнай я о нем на полвека раньше, как раздулся бы я от гордости и тщеславия!
Роже Гренье, специалист по творчеству Камю, удостоивший меня своего уважения, однажды в разговоре упомянув об этой статье, был несказанно удивлен тем, что я даже не слышал о ней, и вскоре прислал мне ее ксерокопию. Только после этого я понял, что означала улыбка Альбера Камю в тот миг, когда мы встретились в дверях кабинета Клода Галлимара.
Прага, 1953
Одиночество – не для меня. Или это я не создан для одиночества? Я по натуре человек общительный, люблю людей, люблю разговоры и смех. Тем не менее об одиночестве я знаю не понаслышке, ибо не раз и не два погружался в его зыбучие пески и чувствовал себя всеми покинутым, оставленным и забытым, и сердце ныло от тревоги и тоски. Хуже не бывает.
Из Вены в Прагу я приехал на машине – на шины пришлось надеть цепи, и путь по заснеженному шоссе казался нескончаемым. Думал, вообще не доедем. Однако все же добрались. Из Праги мне предстоит лететь в Копенгаген, а уж оттуда – в Рио, да притом постараться поспеть к Рождеству, чтобы встретить его дома, с близкими. Однако из-за неожиданно ударивших морозов пражский аэропорт закрыт. Остается только ждать.
И около полудня, когда развеялись последние надежды на ужин в кругу семьи, портье отеля «Алькрон» мне сообщил, что в мой номер к полуночи подадут блюдо с холодными закусками – ресторан будет закрыт, как и все прочее. В рождественский сочельник всем хочется быть дома.
Устав читать, тем более что мысли мои были далеко, я вышел на улицу, спустился к пустынной площади Венцеслава, где не было ни единой живой души (или хоть тела) – ну, никого, просто никого. Закрыты были отели, бары, пивные – я был один в Праге, в ночь перед Рождеством, я и только я. Я брел по улицам, вышел на Старо Място, но не встретил даже бродячей собаки, даже тощей бездомной кошчонки. Вы спросите: «А друзей, что ли, не было?» Были, были у меня в Праге друзья, и в немалом количестве, но я не решился нарушить их семейный праздник неожиданным вторжением.
Падал снег, холод пронизывал меня до костей, и когда я вспоминал о родных, так тяжко становилось на сердце… Раз и навсегда усвоил я, что такое одиночество.
Сагрес, 1971
…Толстый – в то лето меня отчего-то разнесло как никогда – в бермудах, гавайской рубахе в красно-синих цветах, в сандалиях на босу ногу и в матросской шапке с помпоном на голове я выгляжу точь-в-точь богатым американским туристом.
Перед нами – палаточка, а на прилавке множество всякой всячины, гора лакомств – сушеные фрукты, грецкие орехи, лесные орехи, миндаль, финики и прочее, глаза разбегаются. Я останавливаюсь в восхищении, а хозяин – приземистый тучный португалец средних лет, – предчувствуя крупную покупку, смотрит на меня с интересом. Я снимаю с верхушки пирамиды венчающую ее инжирину, надкусываю, наслаждаюсь вкусом и не могу удержаться от истомного вздоха. Продавец следит за тем, как жует пузан-американец.
– Гуд? – произносит он английское слово, известное всякому торговому человеку.
– Гуд, – не кривя душой, подтверждаю я.
Вокруг хохочут, слушая наш диалог, и еще громче становится смех, когда португалец говорит на родном языке:
– Ах ты обжора, обжора, вон какое брюхо себе наел.
Мы с Паломой чуть не падаем от смеха, я с трудом перевожу дух.
– Папа, он думает – ты американец! – громко говорит Палома.
– Ой! Это бразильцы! – стонет, осознав свой промах, продавец.
Я накупаю несколько кило фиг, фиников, орехов – всего, что я так страстно люблю. Тут, держа наготове ручки, приближаются поклонники моего творчества – просят дать автограф.
– Киноартист, – в растерянности говорит хозяин.
Ильеус, 1925
Приехав на каникулы в Ильеус, Эурико и Эмилио, сыновья доны Жулиеты, и я, сын доны Эулалии, – Эмилио уже исполнилось тринадцать, а нам с Эурико еще нет – набрались храбрости и отправились в публичный дом Антонии-Кувалды (в «Габриэле» я вывел ее под именем Марии), лучшее и самое прославленное заведение во всем штате. Там, кроме наших соотечественниц из Баии, Аракажу и Рио, подвизались, приобщая диких бразильцев к достижениям европейской цивилизации, две «гринги» – француженка и полька.
Страшно оживились девицы, когда трое маменькиных сынков, трое явно невинных мальчуганов переступили запретный, заветный порог, – со смехом и визгом окружили нас, затормошили, затискали, расцеловали, повисли на шее, и каждая в наставницы предлагала себя. Близился торжественный миг прощания с невинностью. Эмилио, напыжась, делал вид, что ему это не впервой, брат его Эурико от смущения совсем потерялся, а ко мне на колени уселась полька. Тут, привлеченная непривычным гомоном, и спустилась сверху Антония-Кувалда, и грянули для нас трубы Страшного суда.
Антонию, несмотря на ее ремесло, которое правила она с выгодой для себя, знал и уважал весь город, никто ее не чурался и не гнушался, и даже самые важные дамы из местного общества, супруги завсегдатаев ее заведения, за честь считали поддерживать с ней знакомство и водить дружбу, и не было такой, кто бы не ответил ей на поклон. С моей матерью, жившей неподалеку от улицы Уньян, где помещался веселый дом, любила она при встрече почесать язычки – присаживались обе на лавочку, обсуждали погоду, виды на урожай тростника и цены на какао. В наших краях за обладание землей еще убивали и умирали, и социальные различия не успели повлиять на нравы.
И увидев, как мы, облепленные ее барышнями, делаем выбор, с кем бы нам пасть, Антония-Кувалда взревела диким зверем:
– Марш отсюда, желторотые, сию же минуту убирайтесь прочь, бесстыдники! Не дай бог, узнают дона Жулиета с доной Эулалией, что их сыновья шляются к девкам! Вон!
И так вот нас, вконец обескураженных и сникших, с позором выставили из борделя, ибо под надежной защитой хозяйки его, Антонии-Кувалды, была мораль в городе Ильеусе.