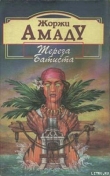Текст книги "Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Сан-Пауло, 1945
Мне немало пришлось посидеть за решеткой и, не хвалясь, скажу, что спокойно переносил неволю – в буйство не впадал и духом не падал. Интересно, как бы я вел себя в каталажке сейчас?
Одна из моих отсидок носила трагикомический характер и заслуживает рассказа. Дело было в середине 1945 года, еще во времена «Нового государства». Политическая полиция Сан-Пауло устроила засаду в штаб-квартире Комитета помощи ООН (читай – Советскому Союзу), который постепенно превращался в координационный центр всех организаций, связанных с компартией, – как реальных, так и существовавших лишь на бумаге. Я бывал там каждый вечер, встречался с товарищами, сидел на заседаниях и совещаниях, получал и давал задания. А в тот день меня там поджидали чины тайной полиции во главе с инспектором Луизом Аполонио, личностью легендарной. Было арестовано человек пятьсот – интеллигенция, профсоюзные активисты, сочувствующие. Нас, Кайо Прадо Жуниора и меня, подержав немного в Центральной тюрьме, перевели в дом предварительного заключения, посадили в ту самую камеру, где томился когда-то Монтейро Лобато, получивший срок за то, что сообщил: в Бразилии есть нефть!
В огромном зале, пол которого был сплошь завален тюфяками, нас встретил единственный заключенный, художник Кловис Грасиано, на мой вопрос: «Что ты тут делаешь?» – ответивший: «ТЕБЯ ПОДЖИДАЮ». Мы попытались было упросить тюремное начальство, чтобы нас всех поместили вместе, но получили отказ. Часа в два ночи нас выпустили на волю.
Так вот, в ту самую пору в Сан-Пауло проездом из Минас оказался один мой читатель и почитатель. Накануне он позвонил мне, сообщил, что купил несколько моих книг, и попросил надписать их. Я назначил ему встречу в комитете в четыре часа, но в три меня уже арестовали, а перед моим поклонником вместо его любимого автора предстали агенты полиции. Естественно, его тоже замели.
На следующее утро в моей квартире началось настоящее столпотворение: родственники задержанных требовали, чтобы я принял меры. Помню, как одна испанская сеньора, чью дочь арестовали накануне, громовым ревом возлагала на меня возможные последствия ее ареста, твердя: «Она – девственница!» Мы с Кайо Прадо отправились объясняться с начальником городской полиции. Не прошло и суток с начала облавы, как все арестованные оказались на свободе – была среди них и испанская профсоюзница, чья чистота не претерпела ни малейшего ущерба. Все – за исключением моего читателя – тот вместе с неполным собранием моих сочинений остался под замком, ибо за него никто не хлопотал. Он просидел двое суток, а мог бы – и до скончания века, если бы родня не забеспокоилась: уехал из Минас-Жерайс и как в воду канул, и к сроку не вернулся, и вестей не шлет. Его начали искать по моргам и больницам, а нашли в тюряге, в статусе задержанного по подозрению в коммунистической деятельности. Думаю и не сомневаюсь, что книги мои он бросил в камере, где провел эти двое или трое – точно не помню – суток.
«Бардом блядей и бродяг» не без презрения окрестил меня однажды некий влиятельный критик. Меня радует, что я зачислен в такой разряд, и привожу здесь эти слова, чтобы точнее определить свои писательские пристрастия. И слово «блядь» мне нравится – оно просто и чисто, в отличие от «девицы легкого поведения», «уличной женщины» и всяких прочих уничижительных иносказаний. В трех дворцах случалось мне вслух упоминать, что я – бард блядей и бродяг, и делать ударение на втором слове. Это было во Дворце Планалто, в Бразилии, когда наш тогдашний президент Жозе Сарней объявил о создании культурного фонда, носящего мое имя. И во Дворце совета в Софии, где мне вручали премию Димитрова. И во Дворце Белен в Лиссабоне, когда президент Португалии лишил меня статуса «проклятого писателя» и вручил мне орден Святого Иакова с мечом. Что бы там ни было, бляди и бродяги всегда будут на моей стороне.
Баия, 1956
Жил да был у нас в Баии в 50-е годы немец Карл Хансен. Жил он в домике, на берегу моря, и была у него жена Роза, сын и дочка, и осел по кличке Зигмунд Фрейд – главное достояние семьи. Ослик был невелик, а немец Хансен – мужчина весьма рослый, так что местные рыбаки и бездомные мальчишки – «капитаны песка» – очень веселились всякий раз, когда видели, как ноги всадника волочатся по земле. В те годы приморский этот квартал, называвшийся Амаралина, был отдаленной городской окраиной, здесь обрывались трамвайные пути.
Карл в ранней юности приехал в Бразилию из Гамбурга вместе с братом-архитектором, тот обосновался в Сан-Пауло, а наш герой выбрал Баию, снял в кредит у одного рыбака глинобитный домик. Жил он бедно, ибо занимался искусством – рисовал, резал гравюры по дереву, изображая сцены городской жизни. Из окна бара «Сан-Мигел», что на площади Пелоуриньо, сиречь – Позорного Столба, наблюдал художник кружение и мельтешение гулящих девиц и разнообразных подонков общества, иначе говоря, маргиналов, а результатом этих наблюдений стал альбом гравюр, ныне стоящий баснословных денег. С художником мы познакомились, когда я по его просьбе писал к этому альбому предисловие. Десять лет спустя вышел с моим сопроводительным текстом второй его альбом: опять виды и типы Пелоуриньо, ежедневная и повседневная Голгофа неимущих – ремесленников, проституток, пьяни и рвани, бродяг, детей без отца и матери. Карл вскоре уехал назад, в Германию, стал называться Хансен-Баия, чтобы, изнывая от ностальгии, указать почву, на которой произросло его искусство. Оттуда, из сырого и туманного Гамбурга, вывез он вторую свою жену – белокурую Эльзу, юную Валькирию, и она ступила на наш баиянский берег в африканской, расшитой львами и леопардами мантии, ибо из Германии чета отправилась в Абиссинию, где, по прихоти и повелению негуса, основала и возглавила Школу изящных искусств. Впрочем, у нас в Бразилии немка в два счета превратилась в истую баиянку – тюрбан на голове, кружевная юбка, и местные рыбаки стали звать ее Инайэ – морской царицей.
Но все это было потом, а тогда, вернувшись на родину, откуда пустился когда-то странствовать по свету, Хансен встретил Эльзу, которую оставил совсем девчонкой, и влюбился. Она же сделалась его ученицей и смотрела на него глазами, полными восторга и обожания. Хансен решил на ней жениться. Однако его смущала разница в возрасте, и он отправился за советом к человеку опытному и знающему – к родному отцу. Попросил у него благословения, рассказал: так, мол, и так, страсть меня охватила, но я человек уже в годах, а невеста – этакая лолита, нераспустившийся бутон. Как быть? Не разумней ли взять в жены ровню и сверстницу? Отец поразмыслил и вынес такой вердикт: «Старая ест столько же, сколько молодая, а то и больше. Зато хворает чаще и дольше, на одни лекарства сколько денег изведет. Женись на молоденькой, сын мой, сальдо будет в твою пользу».
«Папаша у меня, как видите, был в своем роде поэт», – замечал по этому поводу Хансен-младший, рассказывая приятелям эту историю. Он внял совету, женился на Эльзе и жил с нею счастливо, в любви и согласии, удивительно гармоничное было супружество. Когда же Хансен умер, она не перенесла разлуки и одиночества – отправилась за Карлом следом, видно, думала, что и на небесах есть такой квартал, где живут бродяги, проститутки и художники.
Но все это, повторяю, было потом, а тогда, в 50-е, во время первого своего проживания в Баии, Карл однажды рано утром обнаружил на песке у порога своей лачуги огромный янтарь весом, должно быть, в несколько кило. Такой вот подарок сделало море художнику, бедней которого сроду не бывало ни в Бразилии, ни в Германии. Карл и Роза даже сперва и не поняли, янтарь это или нет. Хансен стесал с него кусочек и на трамвае повез показывать в ювелирный магазин братьев Морейра. «Самый натуральный, настоящий янтарь, – сказали ему там, – и редкостного качества. Если камень и впрямь таких размеров, как вы говорите, то он стоит огромных денег, вам по гроб жизни хватит, и внукам останется».
Хансен вытряхнул из кармана последние медяки, схватил такси и помчался с ошеломительным известием домой. Приехал. Роза дремлет на солнышке. Узнав о том, что это настоящий янтарь и что они теперь богаты, рассказала она мужу о случившемся в его отсутствие происшествии. Осел по кличке Зигмунд Фрейд, подобно многим и многим поколениям своих предков постоянно мучимый голодом, ибо родом был из самого что ни на есть голодного края, из сертанов,[100]100
[c] Внутренние засушливые районы на северо-востоке Бразилии.
[Закрыть] – обрадовавшись нежданной поживе, взял да и сожрал, сожрал с удовольствием и в один миг бесценный дар моря. Не побрезговал и не подавился, оказал честь угощению, которое могло бы долгие годы кормить самого Хансена, детей его и внуков. Но художник не впал в отчаяние, и глазом не моргнул: эка важность, подумаешь тоже, да и что бы он стал делать с такими деньжищами?! Одна головная боль от них. Он погладил осла, поцеловал его в лоб и пошел заниматься своим делом – гравюры резать.
Куда бы я ни попал, в каком бы уголке света ни оказался, в глухом захолустье или в столице – всюду ждет меня накрытый стол и дружеское слово.
Мне скажут: я прочел твою книгу, я смеялся и плакал, я был взволнован и растроган. Тереза Батиста[101]101
[ci] Имеются в виду персонажи произведений Амаду: «Тереза Батиста, уставшая воевать», «Лавка Чудес», «Две смерти Кинкаса-Сгинь-Вода», «Старые Моряки», «Дона Флор и два ее мужа», «Габриэла, гвоздика и корица».
[Закрыть] изменила мою жизнь, Педро Аршанжо научил меня свободно мыслить, своим умом жить, собственной головой думать, а Кинкас-Сгинь-Вода – всегда и во всем оставаться самим собой, вслед за капитаном Васко Москозо де Араганом я решительно менял убогое благополучие на прекрасную мечту, от Габриэлы перенял я способность любить, а Дона Флор показала истинную мощь любви, перед которой отступает и сама смерть. Ты – писатель, потому что существую я, твой читатель, тот, кто плачет и смеется над твоими страницами.
Куда бы ни занесло меня, всюду услышу я дружеское слово, увижу накрытый стол. Это и награда, и оправдание, и обязательство.
Фазенда «Санта-Эулалия», Пиранги, 1924
Впервые я согрешил у нас в имении, и чистоту свою потерял с помощью нашей кобылы – существа нервного, статного, изящнейшего, пугливого, даже не хочется говорить – резвого, а стремительного как птица. Я рос без присмотра, на плантациях какао, и множество раз видел, как совокупляются пеоны с ослицами и лошадьми. Моя кобылка – помимо прочих достоинств, отличалась она удивительной, переливчатой мастью: французы называют это «changeant» – была весьма порочна. Стоило лишь хлопнуть ее по крупу, и она с готовностью подгибала передние ноги, становясь в позицию, отставляла хвост.
Любовь наша происходила на лугу при луне. Как я ревновал свою кобылу – она была мне неверна, изменяла с пеонами и жагунсо,[102]102
[cii] Жагунсо – вооруженные наемники.
[Закрыть] с негром Онорио, с рыжим веснушчатым мулатом Диоклесио, с курибокой[103]103
[ciii] Курибока – метис от брака индианки и негра.
[Закрыть] Аржемиро, со всеми подряд, не различая расы и классы. Любила, извращенка, мужчин.
Баия, 1988
Флориано Тейшейра родился в штате Мараньян гораздо больше лет тому назад, чем может показаться, когда посмотришь на него. У нас в Баии он малость растолстел, но не постарел нимало. Жизнерадостный патриарх, окруженный детьми и внуками. Жену его зовут Алиса: при всей своей кротости она человек бесстрашный, и покуда стоит у кормила семейного ковчега, плавающие по бурному морю житейскому могут быть спокойны. В нашем Флориано намешано много разных кровей, но преобладает индейская.
Жизнь его текла в Сеаре, он там родился, там женился, там учился и не доучился в университете, там основал музей, там стяжал себе славу одного из первых бразильских графиков. В 1963-м состоялась его выставка в баиянском Музее современного искусства: Флориано приехал на торжественное открытие и остался навсегда. В Баии Алиса родила ему еще одного сына, Педриньо, а в мастерской на Рио-Вермельо, где в неустанных трудах созидает художник прекрасное, прибавились к графическим листам живописные полотна.
Он оформлял книги своих друзей – и мои в том числе. Это он придал Доне Флор величавую и кроткую красоту своей Алисы, уроженки Островов Зеленого Мыса. Подозреваю, что на ложе воображения без счета обладал он Ливией,[104]104
[civ] Одна из героинь романа «Мертвое море».
[Закрыть] Габриэлой, Тьетой и Терезой-Батистой. Иначе как бы удалось так удивительно воплотить их на листе бумаги? Я его должник.
В своем доме на улице Ильеус учтиво принимает он поклонников своего дарования – платонических и тех, кто желает приобрести образцы его творчества. Ведет с ними задушевные беседы. Одна туристка-миллионерша, которой Лев Смарчевский порекомендовал купить картину Флориано, долго изучала творения и творца, а потом спросила:
– Скажите, сеньор Флориано, вы из Сан-Пауло?
– Я? Нет, сударыня. Я из штата Мараньян.
– Да? Отчего же вы так похожи на японца?
Мадрид, 1966
Я собираюсь в Европу, со всем семейством: Зелия, Жоан Жоржи, Палома. Мой первенец вернулся в отчизну в 1952 году, когда было ему пять лет от роду, и он говорил по-чешски с французским акцентом. Палома родилась в Праге. Мы хотели показать нашим уже почти взрослым детям Старый Свет, свозить их, пока идут летние школьные каникулы, на экскурсию, так сказать.
Получил я испанскую визу, в которой мне до тех пор упорно отказывали, но зато в очередной раз убедился, что ходу в Португалию мне нет, купил билеты на маленький пароход, отправлявшийся в Галисию, в порт Виго с заходами на Канарские острова и в Лиссабон. Пароход – этот и ему подобные – так и назывался «галисийский корабль», ибо перевозил баиянцев испанского происхождения из нашего славного Салвадора на историческую родину – в Понтеведру. Если отсутствие португальской визы томило и печалило меня, то невозможность завернуть во Францию, погулять по Буль-Мишу вместе с Жоаном, как когда-то, когда он был еще маленьким (а ведь именно в отеле «Сен-Мишель» отпраздновали мы первый его день рождения), показать Паломе красоты и достопримечательности этого волшебного города, Нотр-Дам и Лувр – меня просто под корень подрубила.
Но тут я вспомнил, что мои друзья, Анна Зегерс и Пьетро Ненни – в свое время высланные из Франции по тем же причинам, что и я, если им надо туда попасть на заседание Комитета защиты мира или на какой-нибудь конгресс, просят и получают визу – специальную, краткосрочную, предусматривающую ограничения во времени – не более двух недель – и, так сказать, в пространстве – туда вот нельзя, а сюда можно. Я вспомнил все это и написал письмо Гильерме Фигейредо, в ту пору работавшему в нашем посольстве культур-атташе. Странный это был дипломат: он не считал, что должность его создана лишь для приятного времяпрепровождения, усердно пропагандировал бразильскую культуру, продвигал для перевода и издания не собственные сочинения, а книги своих собратьев по ремеслу.
Мы с ним знаем друг друга чуть ли не всю жизнь, по крайней мере, с тех пор, как стали заниматься литературой, вместе боролись против «Нового государства», и борьба эта стоила отцу Гильерме, генералу Эуклидесу Фигейредо, многолетнего тюремного заключения; мы спорили на собраниях и съездах Ассоциации бразильских писателей, нами же и созданной в 1944 году. Я был коммунистом, он – демократом левого толка, но разница убеждений и взглядов не мешала нам дружить. Твердолобые ортодоксы из нашей компартии глядели на него косо, считали его недостаточно идеологически выдержанным, а пьесы Фигейредо – назову лишь «Лису и виноград», «В доме ночевал Бог» – с огромным успехом шли в театрах Москвы и Пекина, Софии и Праги, Варшавы и Бухареста, ни один из прочих бразильских драматургов и сравниться с ним не мог по известности.
Ну-с, так вот, я написал ему письмо, рассказал про наши с Зелией злоключения и спросил, что нужно сделать, чтобы получить эту пресловутую специальную визу. Фигейредо без промедления прислал в ответ подробную анкету, которую нам следовало заполнить, и заверил, что, по его мнению, французские власти разрешат нам эти самые две недели. Мы обрадовались, предвкушая прогулки по Люксембургскому саду, заполнили анкеты, приложили фотографии, сложили все это в конверт, отправили Гильерме. И спустя четыре дня отчалили, попросив его в случае благоприятного исхода нашего дела переправить визы в наше посольство в Мадриде.
Поплыли, жалея, что не сможем сойти в Лиссабоне, но лелея надежду на Францию – одно другого стоило. Однако в Лиссабоне мы узнали приятную новость: португальские власти разрешают сойти на берег с тем условием, что в газетах не появится об этом ни строчки. Это известие нас окрылило – неужели генерал де Голль окажется к нам суровей, чем доктор Салазар?!
Мы добрались до Галисии, а оттуда поездом – до Мадрида, и там, в посольстве нас ожидала телеграмма от Фигейредо: «Ни о чем не беспокойтесь, все улажено». Я чуть не лишился чувств от их наплыва. Еще две недели спустя мы были уже на испано-французской границе, дети – в полном восторге, мы с Зелией – в некоторой тревоге. Предъявили паспорта, страж границы изучил их, поставил штемпеля въездных виз. Въехали, стало быть. В Париже, в ресторанчике, расположенном рядом со знаменитым оптовым рынком, за ужином – седло косули и бутылка благородного красного – Гильерме рассказал нам, как развивались события.
Получив от меня все бумаги и документы, он лично отвез их в соответствующий отдел министерства внутренних дел и вручил чиновнику. Покуда тот их неторопливо оформлял и определял срок ответа, Фигейредо, человек по природе весьма импульсивный и горячий, накалялся все больше и больше, наливался яростью все сильней и сильней, так что, когда клерк протянул ему формуляр с номером, словно квитанцию из прачечной, наш драматург отказался взять ее и потребовал документы вернуть. По его словам, он был до того возмущен теми унижениями, которым подвергают меня и Зелию, что хотел порвать бумаги на мелкие кусочки и бросить их чиновнику в морду, и сдержался лишь потому, что вспомнил о своем дипломатическом статусе. Но я-то, хорошо зная Гильерме, сомневаюсь в его словах и полагаю, что бумажки были все же разорваны и брошены в соответствующее должностное лицо.
Воротившись в посольство, на улицу Тильзит, он, все еще кипя от негодования, пишет письмо самому Андре Мальро, бывшему в ту пору министром культуры, где излагает ему все, начиная с того дня, когда в декабре 1949 года правительство Жюля Мока решило выслать нас из страны, и кончая просьбой выдать нам специальную краткосрочную визу, ограничивающую наши передвижения по belle France. «Вы сами можете судить, дорогой господин министр, как обращаются в вашей стране с бразильским писателем».
Проходит три дня, Фигейредо приглашают в Министерство иностранных дел, где официально уведомляют, что все меры, принятые против нас шестнадцать лет назад и объяснявшиеся «политическим моментом», то есть, проще говоря, свистопляской холодной войны, подлежат отмене и забвению.
Не только нам с Зелией разрешено отныне любить Францию не на расстоянии, а наслаждаться истинной близостью. Нет, всех – человек, наверно, двадцать! – кому в сходных обстоятельствах запрещен был «въезд и пребывание», восстановили в правах, и среди «реабилитированных» Неруда, Скляр, Жак Данон и другие.
А Неруда однажды, не вынеся разлуки с милым Парижем, прикатил из Швейцарии без визы и паспорта, благо на границе проморгали «нежелательного иностранца», и, очень довольный собой, поселился у друзей в предместье, откуда его, впрочем, уже через два дня полиция выдворила на ту же швейцарскую границу. А Карлос Скляр, приглашенный на вернисаж своей приятельницы Виейры да Силвы, сел в самолет, полагая, что по прошествии стольких лет все уже давно позабылось, и спустя сколько-то часов оказался в аэропорту Орли. Он протянул свой паспорт, но полицейский сверился с какой-то книжечкой, и бедного художника едва не запихнули в первый же самолет на Рио – он еле упросил, чтобы ему разрешили улететь в Бельгию. Так что Гильерме Фигейредо и Андре Мальро вернули Францию многим достойным людям, и от них от всех им горячее мерси.
Сколько раз проходил я мимо дома Жака Превера[105]105
[cv] Жак Превер (1900–1977) – французский поэт и сценарист.
[Закрыть] в квартале Сите-Вернон, неподалеку от «Мулен-Руж», и как жалею сейчас, что не постучал в дверь: Жак, я из Бразилии, я знаю твои стихи наизусть, вот послушай-ка, а строчку из твоей «Барбары» – «quelle connerie, la guerre»[106]106
[cvi] Война – это такое паскудство!» – эпиграф к роману Амаду «Пальмовая ветвь, погоны и пеньюар». 110 Эрскин Колдуэлл (1903–1986) – американский писатель.
[Закрыть] – взял эпиграфом к своему роману. Мы с тобой одинаково ненавидим войну, одинаково любим тех, кого принято называть «простыми людьми». А я так и не набрался смелости прийти к тебе – побоялся показаться навязчивым, не хотел беспокоить…
…Хотелось мне познакомиться и с Эрскином Колдуэллом110, когда я узнал, что он в Париже и направляется в Болгарию. Я давно к тебе иду, сказал бы я ему, еще в 1937 году в Нью-Йорке я прочел «Табачную дорогу», а потом посмотрел фильм Джона Форда, и мне казалось, что при всей разнице масштабов дарования чем-то мы с тобой похожи, и что-то общее есть в наших взглядах на мир и в желании перекроить его и переустроить на более справедливый манер. Так же, как тебе, мне хотелось, чтобы вместо военного министерства, созданного людям и народам на беду, государства и правительства учредили бы министерства мира. Но я не решился – и помимо опасения показаться назойливым, не хотелось отнимать у тебя время: я уже тогда знал, как скупо отмерено его всем, а пишущим – в особенности.
…Я был в Москве, когда там отмечали юбилей Серафимовича – его 85-летие.
«Железный поток» был одним из первых советских романов, прочитанных мною. Какая книга!.. Я хотел присоединиться к делегации своих русских собратьев по ремеслу, которые шли поздравлять писателя с юбилеем, но что-то не сложилось, а являться «самому от себя» я счел неуместным – вот и пропустил возможность вживе и въяве увидеть человека, оказавшего на меня большое влияние.
До сих пор грызет меня досада, что от страха, от застенчивости, от какого-то ложного стыда я столько раз не выразил слова любви, уважения, восхищения людям, перед которыми преклонялся. Но когда я думаю об Андре Мальро, к досаде примешивается стыд – я в долгу перед ним и уже никогда не сумею поблагодарить его. Я любил его книги с юности, многие сцены из «Условий человеческого существования» навсегда запечатлены в моей памяти – вижу их, как на киноэкране, прочитал, кажется, все им написанное – от «Покорителей» до «Надежды».
Дважды Мальро решительно вмешивался в мою «французскую судьбу». Это он, насколько я знаю, убедил в 1938 году издательство «Галлимар» опубликовать перевод моего романа «Жубиаба», ибо переводчики Мишель Бервейе и Пьер Уркад ему отдали рукопись на прочтение, суд и отзыв. Это он добился отмены принятого в 1949-м запрета приезжать во Францию мне, Зелии, Неруде и многим другим жертвам холодной войны… Так отчего же я не пришел к нему, не поблагодарил? А ведь так хотел… Приезжая в Париж, я всякий раз думал: уж теперь-то пойду непременно, и тотчас говорил себе: а с какой стати, по какому праву и вообще кто ты такой, чтобы отвлекать от дела прославленного писателя, а теперь еще и министра Французской Республики? Не сумел я набраться отваги, не смог побороть страх, что окажусь не ко двору, не ко времени…
Не знаю, каков был Мальро в тесном общении, но в том, что масштаб личности не уступал дарованию, не сомневаюсь ни секунды. Когда я думаю о нем, то вижу его в кабине истребителя, в небе сражающейся Испании.