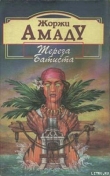Текст книги "Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
Франкфурт, 1976
На книжной ярмарке, проходящей в этом городе, на приеме, устроенном крупным немецким издателем, я, беседуя с Алфредо Машадо[26]26
[xxvi] Алфредо да Крус Машадо (1922–1991) – бразильский издатель.
[Закрыть] и Клаусом Пипером, вижу, что к нам приближается наш соотечественник, писатель Осман Линс.
– Вы знакомы? – спрашиваю Машадо.
– Лично – нет.
Я представляю их друг другу, и меня поражает реакция Линса: едва лишь звучат слова «Алфредо Машадо», пернамбуканец расплывается в улыбке:
– Так это вы? Я так хотел с вами познакомиться! Я стольким вам обязан! – восклицает он и, повернувшись ко мне, объясняет: – Жоржи, ведь это благодаря Алфредо меня стали переводить на немецкий! Ведь это он – не издатель, не брат и не сват! – человек, который меня вообще и в глаза-то не видел, взял да и отправил мои сочинения в одно западногерманское издательство, а те перевели и опубликовали! Он выступил как мой литературный агент, но с той лишь разницей, что не требовал комиссионных…
Да, таков был Алфредо Машадо: многие бразильские писатели именно ему, его благородной и бескорыстной инициативе, должны сказать спасибо за издание своих книг за границей. Я лично знаю нескольких человек, которым он помог, причем они и вправду не входили в круг издаваемых им авторов, не были связаны с ним личными отношениями. Для него значение имело лишь качество книги, лишь дарование автора.
Услышав стук в дверь, я неизменно отвечаю: «Если с добром – входи». И на этот раз с добром и с дружбой входит ко мне всебразильская знаменитость, теле– и кинозвезда, популярнейший актер Зе Триндаде, совершающий гастрольный тур по провинции, веселящий обитателей маленьких городков.
По тому, какой переполох начинается в доме среди прислуги, я могу судить об относительности собственной славы и известности и понимаю, что мне-то особенно тщеславиться нечего. Слышу, как кухарка Агрипина, узнав, кто пожаловал ко мне в гости, говорит Эунисе:
– Зе Триндаде?! Быть не может! Все-таки наш хозяин – человек не из последних, раз сам Зе Триндаде пришел к нему в гости!
И она права. Зе Триндаде – истинный народный кумир, хотят того или нет поборники элитарной культуры: дружба с ним и мой статус повышает, и мне весу придает. Агрипина, Эунисе, Детинья толпятся в коридоре, заглядывают в полуоткрытую дверь. Я приглашаю их в кабинет, и они, не сводя обожающих глаз со своего любимца, входят, робко протягивают ему руки, он поочередно обнимает их, корчит свою знаменитую, «фирменную» телегримасу, и дружный хохот поклонниц раскатывается по всему дому.
Прага, 1951
В одной из многочисленных статей, заметок, репортажей, которыми мировая печать откликнулась на кончину моего доброго друга, замечательного писателя Альберто Моравиа, упомянут и я – в довольно забавном контексте.
Обозреватель газеты «Република» с возмущением отметил вопиющую несправедливость: Моравиа умер, так и не удостоившись Нобелевской премии. А произошло это, пишет он, – вернее, не произошло – из-за упорного сопротивления члена Шведской академии Артура Лундквиста,[27]27
[xxvii] Нильс Артур Лундквист (1906–1981) – шведский писатель, критик, общественный деятель.
[Закрыть] одного из тех пятерых, кто ежегодно называет имя очередного лауреата. «Это тот самый Лундквист, – продолжает обозреватель, – кто добился, чтобы премию не получили ни Казандзакис, ни бразилец Жоржи Амаду». Боже, мое имя! Нобелевская премия… бальзам на душу… приятнейшая и очень лестная неожиданность, ибо я и не подозревал, что моя кандидатура когда-либо вообще рассматривалась. Мне даже и не обидно, что шведы меня оттерли.
Что же до этого случая, то мой друг и кум Пабло Неруда, друживший с Лундквистом, который переводил его стихи из «Всеобщей песни», сказал мне как-то: «Артур приходит в бешенство при одном упоминании твоего имени, не может простить тебе твоего вето – помнишь историю с Сибелиусом? Я пытался втолковать ему, что ты ни при чем, но куда там… Слышать ничего не желает». Год спустя другой мой кум, Мигель Анхель Астуриас – Нобелевский лауреат, между прочим, – в Париже, за ужином, тоже достойным какой-нибудь премии, спросил меня: «Кстати, Жоржи, что за история там вышла с Сибелиусом? Лундквист пышет на тебя злобой». Я утираю струящийся по подбородку соус – о, как готовят в этом ресторане седло барашка! – и говорю, что у шведа есть все основания негодовать. Расскажу без утайки отчего.
В том же 1949 году, когда организовали Комитет защиты мира, решили ежегодно присуждать и три международные премии «За укрепление мира между народами» – медаль, диплом и пятнадцать тысяч долларов – виднейшим деятелям науки, литературы и искусства. Создали комитет, призванный определять достойнейших. В это жюри вошли руководители борьбы за мир, председателем избрали Пьера Кота, секретарем – автора этих строк. В мои обязанности входил «первичный отбор» кандидатов на лавры и доллары, я же должен был знакомить с их досье прочих членов жюри, а главное – советских вождей, которые и держали в руках вожжи нашего комитета. Не скрою, должность эта давала мне известное пространство для маневра, не все, но кое-что от меня зависело: я мог влиять на принятие окончательного решения. А скандинавских борцов за мир представлял в комитете шведский академик Артур Лундквист.
Напоминаю, что Международную Сталинскую – после переименованную в Ленинскую – премию «За укрепление мира между народами», награду престижную и почетную, получили в разное время Пикассо, Чарли Чаплин, турецкий поэт Назым Хикмет, исландский прозаик (впоследствии – Нобелевский лауреат) Хальдоур Лакснесс, голландский кинематографист Йорис Ивенс, Ванда Василевская, Рафаэль Альберти, Шостакович, Леопольдо Мендес[28]28
[xxviii] Леопольдо Мендес (1902–1969) – мексиканский график и живописец.
[Закрыть] и бразилец Жозуэ да Кастро.[29]29
[xxix] Жозуэ Аполонио да Кастро (1908–1974) – бразильский ученый и общественный деятель.
[Закрыть]
В 1951 году Лундквист выдвинул кандидатуру финского композитора Яна Сибелиуса, но еще до того, как номинация прошла официально, меня призвал для доверительной беседы Александр Корнейчук, драматург – я видел в Москве спектакль по его пьесе, и это было ужасно, – вице-президент – или как это тогда называлось? – Украины, член ЦК КПСС. В миру, так сказать, в свободное от государственных забот и партийных обязанностей время это был вполне приятный человек, не дурак выпить, любитель и ценитель женского пола – отлично помню, как в 1952 году в Вене на Всемирном конгрессе в защиту мира я познакомил его с актрисой Марией делла Коста, членом нашей бразильской делегации, и Корнейчук влюбился в нее без памяти, потерял голову. Мне это его свойство весьма симпатично.
Однако в тот день, когда он пригласил меня к себе, мы говорили не о любви. Уперев палец в то место в списке, где значилось «Сибелиус Ян, Финляндия», Корнейчук категорично и безапелляционно заявил:
– Этот – никогда!
Сибелиус, знаменитый композитор и пламенный патриот, написал немало произведений, прославлявших мужество своих соотечественников, которые в 1939 году, во время советско-финской войны, героически сражались с Красной Армией, многократно превосходящей их численно и неизмеримо более мощной. Даром это ему не прошло – его внесли в некий индекс, то есть запретили исполнять его музыку, и вообще одно упоминание этого имени вызывало в Москве очень сильное раздражение. Корнейчук, женатый на Ванде Василевской, советской писательнице польского происхождения, советнице Сталина, даме сурового нрава и непривлекательной наружности, узнал от нее, что кандидатура Сибелиуса выдвинута на премию, еще прежде, чем я подал ему список претендентов. Без одобрения Кремля о премии нечего было даже и думать.
Я сказал Корнейчуку о том, что Пьер Кот, председатель жюри, поддерживает Сибелиуса, но это не произвело никакого впечатления: «Передайте Коту, что Сибелиус – это исключено». Пьер Кот, виднейший политик, депутат, бывший министр, один из самых верных союзников французских коммунистов, сильная личность, в полном сознании своей роли, своей значительности – и при этом в полном бешенстве: только что дым из ноздрей не шел – отправился к Корнейчуку, чтобы поставить вопрос ребром: «Кто в конце концов решает, кому дать премию?! Международный комитет или ЦК КПСС?» «Буду держать вас в курсе», – пообещал он мне, и я с почтительным восхищением поглядел вслед этому человеку, оценив его принципиальность и отвагу – вот, стало быть, из какого материала кроятся герои!
Он вернулся кроткий и тихий, вместе с Жолио-Кюри, нашим председателем, великим ученым, Нобелевским лауреатом и убежденным коммунистом. Можно было не сомневаться, что это он помог Коту стерпеть унижение и пережить несколько весьма неприятных минут, когда имя Сибелиуса было вычеркнуто из списка. Лундквист, Лундквист – вот кто оказался орешком покрепче, вот кто, по баиянскому присловью, жабу глотать не пожелал, на попятный не пошел, а, наоборот, – вышел и отошел: вышел из жюри, из Комитета и Совета, а отошел – от Движения сторонников мира. Вернулся в свою Шведскую академию. Не знаю, рассорился ли он с Корнейчуком и с Котом, – вряд ли. Что ж, я не снимаю с себя ответственности, доля вины лежит и на мне, хоть я и был всего лишь соучастником преступления, и не самым главным к тому же. Однако, как не раз уж бывало в моей жизни, целиком и полностью виноватым в глазах Лундквиста оказался я – именно при таких вот обстоятельствах случалось мне обзаводиться самыми искренними, самыми непримиримыми врагами.
Если Лундквист, так яро возражая против выдвижения моей кандидатуры на Нобелевскую премию, мстил за Сибелиуса, – он в своем праве. Если он отказывал мне в награде, исходя из того, что мои сочинения никуда не годятся, – тоже все резоны налицо. Я пишу не для премий, не в чаянии награды, у меня другие мотивы для творчества, другие источники вдохновения, и то, что я не получил «нобелевку», меня не слишком огорчает: мне всегда казалось, что я ее недостоин, я знаю свои возможности и свои слабости лучше всех критиков, шпыняющих меня и разбирающих по косточкам мои книги. Жалкий жребий – писать для премий, творить для награды, пусть даже самой высокой, самой почетной, и даже если кандидат в кандидаты стократ ее заслужил, все равно есть в этом что-то принижающее, что-то мелкое…
Я знаю таких, видал и в Португалии, и в Бразилии, как мечутся они и суетятся, как гложет их тревога, томит ревность. Глубина и сила их страсти вызывали бы уважение, не будь так комичен повод. Они несутся наперегонки, подстраивают соперникам всякие пакости, они не то что упиваются – захлебываются саморекламой… Грустное зрелище, жалкое зрелище. И для них Нобелевская премия – не сладкий сон, а тяжкий, повторяющийся кошмар.
Лиссабон, 1974
Мы въезжаем в Португалию через пограничный городок Элвас. Зелия ведет наш «Пежо-504», до отказа набитый багажом. Тогда мы возвращались домой морем, целую неделю плыли через Атлантику, предаваясь блаженному безделью, я вез с собой домой, в Баию, несколько ящиков книг и столь любимых мною кустарных изделий всякого рода. Это сейчас: одиннадцать часов лёту, лёту и ужаса, а в багаже – два тощих чемоданчика. Называется «прогресс».
– Пожалуйста, любовь моя, не гони: может быть, мы в последний раз в Португалии, дай рассмотреть все как следует, рассмотреть и запомнить, – прошу я.
На границе нас долго опрашивают люди в форме, проверяют документы, требуют открыть все ящики. Такого не было и в салазаровские времена. Терпение мое лопается, и когда таможенник осведомляется, а что это у вас вон в том ящике, похоже, вы специально спрятали его в машине, отвечаю: «Да так, оружия немножко, боеприпасы, бомбы…» По счастью, капитан оказывается поклонником «Габриэлы», просит автограф, не чинит препятствий машине, книгам, путешественникам.
Я ужасно люблю эти края, особенно летом – люблю здешние цветы, дома, людей. В одной из здешних деревушек родилась песня, давшая сигнал к восстанию, которое обернулось «революцией гвоздик»,[30]30
[xxx] 25 апреля 1974 г. восставшие войска под руководством Движения вооруженных сил свергли правительство и осуществили демократическую революцию.
[Закрыть] – «Грандула, моя смуглянка…» Поезжай потише, Зезинья, дай полюбоваться на эти горы и долы.
Португальская компартия рвется к власти, как голодный к хлебу, распихивает и отталкивает всех, кто станет на дороге. У премьер-министра Васко Гонсалвеса, может, и нет в кармане партбилета, но он – наверняка среди вернейших сторонников коммунистов, речи его мне до боли знакомы, так и хочется сказать: «Ох, ребята, я это кино уже смотрел!» Как будто мало образцового догматика-сектанта Алваро Куньяла[31]31
[xxxi] Алваро Куньял (р.1913) – с 1961 года генеральный секретарь португальской компартии.
[Закрыть] и других партий, как грибы после дождя возникших, тоже называющих себя пролетарскими, тоже возглавляемых интеллектуалоидами, с программами еще более узколобыми и косными, – выписали из Бразилии махрового сталиниста Арруду Камару, чтобы начал чистки… Издатель Шико Лион да Кастро рассказывает, что коммунисты уже попытались завладеть его компанией «Эуропа-Америка», первый натиск он отбил, но что будет дальше, одному Богу ведомо.
В отеле «Тиволи», где два или три этажа целиком заняты белыми и чернокожими беженцами из Анголы, Фернандо Намора[32]32
[xxxii] Фернандо Гонсалвес Намора (1919–1991) – португальский писатель.
[Закрыть] говорит мне о том, что страшит его больше всего:
– Придет диктатура, дорогой Жоржи, диктатура в наихудшем ее варианте – та, против которой нельзя будет бороться, которую нельзя даже слегка порицать. Только попробуй рот раскрыть – объявят, что ты продался с потрохами, что ты предатель и изменник, с грязью смешают. Тот, кто боролся с Салазаром, – патриот и храбрец, а тот, кто скажет слово против Куньяла, – распоследний фашист! Господи, спаси и сохрани нас от диктатуры левых!
Не знаю, Господь ли упас, разум ли возобладал, но этого не случилось. Из рук Рамальо Эанеша страну принял Марио Соареш – демократический корабль плывет и не тонет. Я никогда не сомневался в справедливости народной поговорки «Бог – бразилец», но у меня есть веские основания предполагать, что недавно он эмигрировал и обосновался в Португалии.
Париж, 1974
Моя страсть к футболу едва-едва не стоила мне дружбы с Франсуазой Ксенакис. Какое счастье, что у нее хватило юмора и снисходительности не обидеться на бразильского невежу, который, когда она учтиво осведомилась, удобно ли мне будет дать ей интервью тогда-то и тогда-то, заорал в ответ:
– Совершенно неудобно! Да вы с ума сошли! Наши с поляками играют!
Это случилось как раз во время первенства мира – оно сложилось для нас в высшей степени неудачно. А матч должен был решить судьбу бронзовых медалей, и мы его проиграли. Я уже после того, как упился горечью поражения, понял, какой промах допустил – рявкнул как самый оголтелый болельщик… Впрочем, все мы тогда стали болельщиками – Бразилия ведь некогда была трехкратным чемпионом мира… Это сейчас мы сникли, как тростник под ветром.
Сказать такое даме, француженке, интеллектуалке, которая намерена сочинить литературный репортаж о тебе, о твоем творчестве и о том, что вот вышел в свет перевод твоего нового романа, – это, пожалуй, не промах и даже не вопиющая бестактность, а непростительная ошибка. В книжные магазины только что поступила французская версия «Лавки Чудес», и верный друг Франсуаза, ведущая в «Матэн» колонку, посвященную литературе и книжным новинкам, предлагает встретиться и побеседовать – какая реклама роману! – дает тебе место на страницах своей респектабельной газеты, хочет взять интервью – а ты, недоумок, заявляешь, что нет, мол, занят, футбол буду по телевизору смотреть! Ну не идиот ли? Думаю и надеюсь, что Франсуаза таковым меня и сочла, а потому всерьез не приняла и не обиделась. На убогих не обижаются.
Мы давно дружим. Франсуаза считает, что это я вправил ей, как она выражается, мозги – еще в 1949-м, прочитав «Les chemins de la faim»[33]33
[xxxiii] «Дороги голода» (фр.).
[Закрыть] (так озаглавили переводчики мой роман «Красные всходы»), она увлеклась коммунистическими идеями – ненадолго, и литературой – на всю жизнь. В 60-е годы Франсуаза, вспоминая свои девические впечатления, написала мне, что целый год каждый день посылала бы по розе тому, кто решился бы переиздать «Всходы». Так и не вянут с тех пор эти розы – розы дружбы.
Фазенда «Ловера», Сан-Пауло, 1960
Нам с Зелией выпала честь сопровождать Симону де Бовуар и Жан-Поля Сартра по Бразилии. Путешествие вышло восхитительным и веселым. Наибольший успех выпал на долю писателя и философа в Араракаре, где он читал взбудораженным студентам лекцию об экзистенциализме. Это был настоящий триумф. Оттуда мы вернулись в столицу штата Сан-Пауло, собираясь переночевать в загородном имении Жулио де Мескита Фильо – на фазенде «Ловера».
Приютивший нас главный редактор газеты «Эстадо де Сан-Пауло» собрал в тот вечер многочисленное общество, благо повод был из ряда вон выходящий – не каждый день приезжают в Бразилию две, можно сказать, мировые знаменитости. Газета занялась «освещением пребывания» всерьез: приставила к Сартру и Симоне репортера, повсюду, по всей Бразилии сопровождавшего именитую чету; писала о каждом их шаге во всех подробностях; кроме того, дополняла эти репортажи и хронику серьезным критическим разбором всех лекций и высказываний, полемизируя с левацкими взглядами дорогих гостей. Сартр в ту пору жил одним – независимостью Алжира, был и знаменосцем, и рупором патриотов, сражавшихся с французскими колониальными войсками.
Газета писала о нем с должным уважением, не жалела восторженных отзывов и прочувствованных похвал в адрес виднейшего романиста-драматурга-эссеиста-философа, чьи книги оказали огромное влияние на образ мыслей интеллигенции в разных странах. И одновременно беспощадно критиковала его политические воззрения – именно с ними наперевес французское студенчество восемь лет спустя ринется на штурм Парижа. То есть «Эстадо де Сан-Пауло» вела себя как должно – и как обычно газеты себя не ведут.
…Ужин был грандиозный, не знаю, право, на сколько персон. Собралось все, что было в Сан-Пауло значительного и заметного: промышленные магнаты, финансовая знать, политические сливки, интеллектуальная элита. Роскошное угощение, разливанное море всевозможнейших напитков, знаменитые афро-бразильские сласти и лакомства, несравненные наши фрукты – и при этом никакой чопорности. За центральным столом сидели устроители пира и почетные гости. Я издали следил за их оживленной беседой, хотя говорил больше Жулио, блистая своим вывезенным из Сорбонны французским, а Сартр внимательно слушал.
– Могу себе представить, каких гадостей старик наговорит французу, – со смехом шепнул мне на ухо мой сосед по столу Карлан, сын Жулио.
Диалог французского философа и бразильского журналиста продолжался весь вечер, а мы с Карланом – какая жалость, что этот многообещающий парень так рано умер, до сих пор все скорблю об этой потере… – наблюдали за ним, придумывая, о чем именно идет сейчас речь: наверно, Жулио со свойственным ему красноречием убеждает пламенного революционера и отца экзистенциализма примкнуть к де Голлю. Жулио ораторствовал, Сартр помалкивал, мы помирали со смеху.
Когда же торжество наконец подошло к концу, мы проводили Сартра и Симону в отведенные им покои – другое слово было бы тут неуместно. И при виде ночной вазы из старинного фаянса из груди Сартра вырвалось восторженное «ах!», а Симона захлопала в ладоши. Перед тем как пожелать гостям доброй ночи, мы осведомились, понравился ли им ужин. Сартр, хоть и видал виды, привык к обществу знаменитостей, грандов политики и литературы и сильных мира сего, признался, что потрясен:
– Я в жизни своей не встречал никого, подобного месье Мескита, – он сделал ударение на последнем слоге. – Это поразительно! Мне никогда не приходилось видеть такого дремучего мракобеса, такое ископаемое. Вы представить себе не можете, что он говорил! Порой мне чудилось, что я перенесся в средневековье!
За поздним временем я не стал объяснять Сартру феномен Жулио Мескиты, решил, что сделаю это по дороге в Сан-Пауло. Однако мои комментарии не понадобились – наутро все разъяснилось само собой. Может, разъяснилось, а может, запуталось еще больше, не знаю.
После плотного завтрака на фазенде хозяин повел гостей на свои кофейные плантации, тянувшиеся до самого горизонта. Жулио шел впереди с Сартром и Симоной, говорил и объяснял, а мы, окруженные домочадцами, следовали в некотором отдалении, чистосердечно восхищаясь пышной блестящей листвой кофейных деревьев.
Потом, уже в автомобиле, мчавшем нас в столицу штата, я заметил, что Сартр находится в некотором смятении, пребывает в сомнениях и даже растерянности. Поколебались какие-то устои. Он сказал мне приблизительно следующее:
– Эта ваша Бразилия – абсурдная страна. Ты говорил, что тут царствует сюрреализм, но этим всего не объяснить… У вас нет логики, тут ни в чем нельзя быть уверенным непреложно. Только покажется, что понял, как тут же сознаешь – нет, ошибся! Истина опять уплывает куда-то, не дается в руки. – Он поглядел на Зелию и на меня и продолжал просительным тоном: – Объясните, как это может быть: такой зашоренный, узколобый ретроград, как месье Мескита, когда начинает говорить о кофе, вдруг в одно мгновенье превращается в истинного поэта, в человека с нежной и трепетной душой?! Да-да, он настоящий поэт, и то, что он говорил мне, чистейшая лирика… Я счастлив, что познакомился с ним.