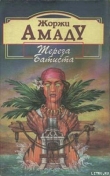Текст книги "Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Рио-де-Жанейро, 1970
По случаю приезда португальского издателя Франсишко Лиона де Кастро главный редактор газеты «Маншете» Адолфо Блох устраивает обед в его честь, созывает весь цвет нашей литературы и журналистики. Затеваются совместные проекты, запускаются новые серии.
За столом, после того, как отдана дань приличествующим случаю темам, живо интересующим гостя, – дела издательские, взаимоотношения с цензурой, которая не дает дыхнуть ни издателям, ни писателям, беседа плавно перетекает к вопросу, греющему душу хозяев, близкому им с юности, знакомому и теоретически, и – в большей или меньшей степени – практически. Речь заходит о таком животрепещущем предмете, как публичные дома – не какие-нибудь грошовые грязные притоны, нет, фешенебельные и уютные, закрытые для посторонних, гарантирующие, что никто без надежных рекомендаций туда не войдет и никто не потревожит клиента, баснословно дорогие, высшего разбора заведения, бордели для миллионеров и знаменитостей. Участники обсуждения наперебой демонстрируют искушенность и всеобъемлющую осведомленность: как поставлено дело в разных странах, какими фирменными блюдами угостят тут, что предложат там. Приводятся подробности и примеры, вспоминаются особо врезавшиеся в память эпизоды, называются имена и клички, адреса и пароли.
Раймундо Магальяэнс Жуниор, проживший много лет в Соединенных Штатах, широкими размашистыми мазками набрасывает панораму распутства североамериканского, и если собрать все его познания воедино, выйдет объемистый том. Наш хозяин Адолфо – человек всеядный, истый гражданин мира, globetrotter,[82]82
[lxxxii] Человек, много путешествующий по свету (англ.).
[Закрыть] исколесивший Европу и Азию. Фернандо Сабино уснащает свой рассказ подробностями столь живописными, что невольно закрадывается сомнение в правдивости его слов. Карлос Эйтор Кони проявил обширные познания относительно нашего, исконного, не заемного, бразильского товара.
Шико Лион слушал терпеливо, но мне показалось, что он чувствует себя неловко и не разделяет общего оживления, ибо потоки фривольностей уже начали переливаться через края, беседа же стала приобретать попросту скабрезный характер. В какой-то момент один из знатоков – кто именно: издатель? литератор? напрягусь, так вспомню, но стоит ли? – уставив вилку в грудь лузитанского гостя и продолжая жевать нежнейшее филе, произнес сурово и печально:
– А в вашей стране, друг мой, сложилась практика поистине нетерпимая… Это какой-то ужас…
– Что вы имеете в виду? – оживился Шико, явно обрадовавшись тому, что беседа приняла иной оборот и перешла на политику. – Преследование инакомыслящих, произвол, тюрьмы, цензуру?
– Нет-нет, есть кое-что похуже. Невыносимо, невыносимо, друг мой… Представьте, я вхожу в заведение, выбираю девицу, поднимаюсь с нею в комнату, и тут она спрашивает:
«Какие будут пожелания у вашего превосходительства?» И все! Это действует на меня оглушительно и мгновенно. Как только я слышу «ваше превосходительство», мне уже ничего от нее не надо, ничего не хочется, я становлюсь импотентом! И так – всякий раз!
Подождав, пока смолкнет дружный хохот, я спрашиваю португальца:
– Скажите, Шико, когда вы устраиваете обед с писателями и коллегами в своем издательстве «Эуропа – Америка», у вас за столом такие темы обсуждаются?
Там, за морем, на Пиренеях, люди ведут себя чопорно и сдержанно, их с детства приучают к притворству и скрытности, но португальский издатель, застигнутый врасплох, окончательно сбитый с толку, вздрагивает всем телом и отвечает как на духу:
– Никогда! Ни в издательстве, ни дома! У нас такие вещи обсуждать не принято.
– Ваше превосходительство… – бурчит один из бразильцев. – Такое обращение действует лучше брома.
Прага, 1950 – Вена, 1952
Мой парижский приятель, гаитянский поэт Рене Депестр, нынешняя знаменитость, тогда был еще совсем юным. Тот год принес ему череду неприятностей: с Гаити он, коммунист и активист, бежал, из Франции его выслали, и только что женившийся Рене надеялся обрести приют в братской Чехословакии, где власть в руках коммунистов. Он-то думал найти там тихую пристань – посвятить себя поэзии и борьбе за освобождение своей далекой и нищей отчизны.
Не тут-то было! Он в полном смысле слова угодил из огня да в полымя: Прага в ужасе и оцепенении, идет процесс Рудольфа Сланского и других видных коммунистов, страх и доносы, переполненные тюрьмы. Депестр больше всего боится за жену, очаровательную румынскую еврейку Эдит – над ее головой сгущаются тучи, ей грозит обвинение в шпионаже. Вздор и чушь, казалось бы, но страна больна манией преследования, и тучи все гуще. Круг людей, связанных с Рене, редеет, всяческие союзы и комитеты, обещавшие оказать ему гостеприимство, от обещаний своих отказываются. Ему уже некуда деться, и тут некий доброжелатель подсказывает выход, дает совет вполне в духе времени. Надо развестись с Эдит и «отмежеваться» – тогда все будет хорошо, его-то ведь никто ни в чем не подозревает. Рене отклоняет заманчивое предложение и делает это так грубо, кратко и резко, что оказывается со своим изгнанническим барахлишком и красавицей Эдит, внесенной в проскрипционные списки, на улице. Верней сказать, в глухом тупике. Им в буквальном смысле негде было голову приклонить.
Тут мы с ними и повстречались. И я пригласил его приехать в местечко Добрис, под Прагой, где стоял так называемый «Замок писателей» и где жили тогда мы с Зелией. Рене с радостью соглашается, но что скажут руководители Союза писателей? Обещаю потолковать с Яном Дрдой, генеральным секретарем этого учреждения, членом ЦК, героем Сопротивления, автором книги «Немая баррикада» и моим другом. Дрда погружается в размышления: он человек безупречной порядочности, но жуткий политический климат страны воздействует и на него, он и в своем-то завтрашнем дне не слишком уверен… Пригласить Рене Депестра с его Эдит стать гостем Союза – это, пожалуй, чересчур… И тут меня осеняет: я найму Рене себе в секретари, и вся ответственность – на мне! И это позволит чете Депестров жить в Добрисе!
Вот как вышло, что виднейший франкоязычный поэт и прозаик, лауреат премии Ренодо, одной из самых престижных, стал, ненадолго, правда, моим секретарем. Все это было синекурой или, если угодно, липой: обязанностей у Рене не было, как, впрочем, и жалованья. Зато он мог творить в свое удовольствие, покуда жены чехословацких писателей ревниво и злобно косились на скульптурные формы полуобнаженной Эдит, загоравшей в парке. В самом деле, подозрительная личность – больно уж хороша.
Минуло два года, и мы встретились с ними вновь – теперь уже в Вене, где они блуждали, как в дремучем лесу, на Конгрессе сторонников мира. Рене в очередной раз попросили покинуть пределы Франции, и снова, как он поэтически выражался, некуда было ему «поставить свой маленький светильник гаитянский». И снова я расстарался и отыскал ему прибежище.
На Венском конгрессе было решено созвать Всеамериканский съезд деятелей культуры и провести его в Чили, в Сантьяго. Во-первых, это отчизна Пабло Неруды, во-вторых, демократическая страна с сильной и легально действующей компартией. Ответственным за организацию и ходатаем перед вышестоящим руководством назначили меня. Я же первым делом ввел Рене в состав секретариата, где ему надлежало представлять страны Центральной Америки и Антильские острова. Даром, что ли, он родился на Гаити? Таким образом они с Эдит могли за счет Движения сторонников мира отплыть из Марселя в Вальпараисо. Мы – Неруда, Володя Тейтельбойм, Диего Ривера и еще несколько человек – работали дружно, веселились до упаду.
Из Чили Депестр переселился в Бразилию, жил некоторое время то в Рио, то в Сан-Пауло. Потом снова стал кочевать по белу свету, перемежая надежду с разочарованием. Пожил немного на Гаити – там как раз в это время основал свою династию Папа Док Дювалье, товарищ по парижскому изгнанию и партнер по картам. Подольше – на Кубе, родине всех изгнанников, но и там первоначальное очарование вскоре рассеялось. Потом – журналистика и Москва, череда жен, пока Рене наконец не обрел желанный покой в объятиях Нелли.
Я старался не терять его из виду, следил за его перемещениями в пространстве, за появлявшимися в печати стихами и новеллами, иногда встречал то тут, то там. Но вот он осел во Франции, разбил свой бедуинский шатер в провинции – и не утерял ни душевной щедрости, ни веселого нрава. «Маленький гаитянский светильник» ярок по-прежнему.
А в начале 1953-го мы с ним в условиях строжайшей конспирации – с завязанными глазами вывозили куда-то за город, можете себе представить?! – прошли курс обучения теории и практике революционной борьбы в так называемой «Школе Сталина». Целый месяц продолжались эти лекции и семинары, на которые обязаны мы были ходить в порядке партийной дисциплины. Но к тому времени и Депестра, и меня уже сильно и всерьез одолевали сомнения. А кое-что из того, что вещали нам преподаватели, вызывало оторопь и отвращение.
Как сейчас помню, занятие посвящено было китайской революции, и лектор поведал о директиве китайского ЦК: говорилось там, что дети, во исполнение революционного долга и для искоренения буржуазных предрассудков должны сообщать куда следует о настроениях и высказываниях своих родителей. Ничего нового председатель Мао тут не придумал, в СССР давным-давно уже поставили памятник мальчику, именно так и поступившему. Он следил за родителями, донес на них, засадил в тюрьму и стал героем…
Рене, сидя рядом со мною в первом ряду, толкает меня локтем в бок. Не усваиваются у нас эти уроки, не обогащают нас эти моральные ценности, мы стали плохими коммунистами – непоследовательными, половинчатыми, не умеющими отрешиться от гнилой буржуазной морали, предписывающей любить папу с мамой…
– Доносить на родителей!.. Да я бы скорей умер! – говорит Рене в перерыве и добавляет по-французски: – Quelle connerie![83]83
[lxxxiii] Какое паскудство! (Фр.).
[Закрыть]
Сплюнув, он растирает плевок подошвой.
– Да уж… – бормочу я.
В смятении глядим мы друг на друга – зыбкие, хлипкие людишки, не то перерожденцы, не то двурушники. Гнать таких надо из партшколы.
Варшава, 1953
Польская столица занесена снегом, насквозь продута ледяным арктическим ветром. Войдя в вестибюль полуразрушенного отеля «Бристоль», я встречаю скорчившегося у калорифера Жозе Гильерме Мендеса, и здесь, на чужбине, давний знакомец переходит в статус близкого друга. Он – журналист, пишет о строительстве социализма в Польше и в равной степени очарован и социализмом и Польшей, предрекает полный успех всем начинаниям правительства.
За ужином, заходясь и захлебываясь от восторга, он повествует о незабываемых впечатлениях, полученных в сельхозкооперативе «Красная Заря». Картофельное поле – под снегом, но зато ему удалось посетить птицефабрику, где разводят кур и уток для московских гастрономов. Он ел и пил за одним столом с героями труда в доме председателя кооператива, произносились речи и провозглашались тосты за процветание и укрепление крестьянского интернационализма. Польские товарищи на пальцах показывали ему все преимущества социалистического способа производства, земледелия и птицеводства, приводили радужную статистику, ели с аппетитом, пили умело и вволю. Зе Гильерме, отличный оратор, поведал им об ужасах бразильских латифундий, о бесправных рабах и полновластных хозяевах, о засухе и голоде, о коррупции – и сам чуть не прослезился, и слушателей опечалил. Он блистал красноречием, цитировал Престеса. И пил при этом польскую водку. Под вечер решили поразмяться, устроили в честь бразильского гостя танцы в клубе, созвали белокурых темпераментных работниц, Зе и здесь лицом в грязь не ударил… Он заливается, а мы с Войцехом Грудой, который переводит мои книги на польский, внимаем.
Сейчас самое время рассказать об этом человеке. Я, кстати, не знаю, как сложилась его судьба впоследствии, когда началась в Польше смута. Он еще мальчиком вместе с родителями эмигрировал в Бразилию, начал торговать в захолустье штата Парана, процвел. Тут война, оккупация Польши, очередной – который по счету? – раздел страны между Сталиным и Гитлером. Юный Войцех был патриотом, ликвидировал свое дело, на каком-то сухогрузе, уворачиваясь от германских субмарин, доплыл до Лондона и там записался в польскую армию, которую формировал в Англии, генерал… Как его звали, не помню. А вся армия была – несколько сот человек.
В первый же день новобранца Груду – его, как и всех остальных готовили к заброске на территорию Польши – стали учить прыгать с парашютом. Пока с вышки. Прыгнуть-то он прыгнул, но парашют не раскрылся, и будущий десантник брякнулся оземь с приличной высоты, переломал себе кости, а из госпиталя вышел хромым и негодным к строевой. Его демобилизовали. Тут и война кончилась, и англичане поспешили выпихнуть поляков, солдат и штатских, домой, на родину, освобожденную от немцев (но не от русских) и провозглашенную последними народной республикой, строящей социализм.
До тех пор Груда был просто патриотом, а оказавшись в Варшаве, быстро сделался активным и рьяным коммунистом, и хромота, полученная, можно сказать, в битве с фашизмом, помогла ему получить в Совете профсоюзов скромную должность с еще более скромной зарплатой. Сводить концы с концами помогали ему гонорары за переводы моих книг. Меня в ту пору широко издавали в Польше: «Вы были единственным коммунистическим писателем, которого читала молодежь», – сказал мне много лет спустя Роман Поланский, посетивший Баию. Так что не успел я появиться в Варшаве, как Войцех, отпросившись у начальства, которому сообщил о моем приезде и о том, что без него я пропаду, получил отпуск с сохранением содержания и, как писали в прошлом веке в романах, сделался со мною неразлучен. Лауреат Сталинской премии требовал его постоянного присутствия рядом, а потому Войцех не расставался с ним, завтракал, обедал и ужинал. И этот бразильский пройдоха, заброшенный судьбой в польскую стужу строить социализм, в самом деле мне пригодился – он мне не давал скучать, развлекал и смешил. Ну, а меня ему просто Бог послал.
На следующий день Зе Гильерме, утеплившись как мог – шапка, шуба, шарф, рукавицы, – отправился осматривать новостройки, вернуться должен был лишь вечером, и мы условились, что в таком-то часу поужинаем вместе. Я же решил сыграть с ним шутку – никто из моих друзей не спасся от розыгрышей, – посвятил в свой замысел Войцеха, тот пришел в восторг. Мы отправились на рынок, купили четырех живых кур и петуха – надо признаться, что в те далекие годы польские издатели неукоснительно выплачивали мне деньги за право перевода и издания, так что злотые у меня были в немалом количестве, – привезли несчастных в отель. Я заговорил зубы портье, получил ключ от номера Зе, открыл дверь и запустил птичек внутрь. Последнее, что я видел, – петух взлетел на кровать.
Войцех притащил бумагу с грифом Совета профсоюзов, так как у него дома были залежи фирменных бланков и конвертов, которые он использовал для личных надобностей, и в ожидании Зе я продиктовал ему, а он перевел на польский письмо, подписанное председателем мифического профсоюза польских куроводов. Те, прослышав о том, в каких жутких условиях живут бразильские крестьяне, решили послать им петуха-производителя и четырех лучших несушек в качестве безвозмездного дара и в доказательство неоспоримого превосходства социалистических методов хозяйствования. Предназначаются они беднейшим крестьянам, коих, быть может, сумеют вырвать из нищеты, ибо улучшат породу бразильских кур. Подпись дарителя была неразборчива, но письмо производило сильное впечатление.
Зе Гильерме все не было, а кушать между тем хотелось сильней и сильней, и мы отправились в ресторан. Ужин наш подходил к концу, когда появился журналист.
– Ну что, как фабрики?
– Я потрясен, – сказал он, раскрывая меню. – Прежде чем рассказать вам о фабриках, хочу с вами поделиться. У меня тут возникла проблема, – он вытащил из кармана письмо и протянул его Войцеху. – Переведи, а?
Тот перевел и, видимо тронутый, сказал:
– Вот она, революционная-то солидарность. Как поляк и коммунист я испытываю гордость.
– С этими словами он поднялся и пожал Зе руку. Я чуть не расхохотался. Войцех сложил письмо, сунул его в конверт и вернул адресату:
– Надо ответить.
Журналист, казалось, был чем-то смущен:
– Да, конечно, это великолепный пример интернационализма… Подарок щедрый, но, видишь ли… несколько обременительный, – с заминкой сказал он.
– Это куры, что ли? – спросил я.
– Ну да! Ты бы видел, на что похож мой номер!.. Закакали его весь, к кровати не подойти…
Невероятным усилием воли я сдержал смех. Зе Гильерме просил посоветовать, как ему избавиться от кур. Я принял вид суровый и несколько сумрачный. Ни в коем случае нельзя вернуть подарок – это оскорбление для сельских тружеников и для всей народной Польши. Будем искать иное решение.
И Зе для начала сочинил письмо председателю профсоюза польских куроводов, где от имени бразильского крестьянства благодарил его за великодушие и щедрость. Войцех забрал письмо домой, чтобы перевести.
Потом мы стали размышлять, что же нам делать с курами (и с петухом). Было выпито много водки. Груда, увидев, что друг оказался в безвыходной ситуации, вызвался забрать их на ночь к себе, в свою маленькую квартирку, и лично переловил кур, проявив при этом неожиданную умелость и сноровку, связал им ноги и увез на такси, очень довольный собой. Зе дал ему денег на проезд и на чаевые таксисту, который сперва отказывался везти кудахчущий груз. Прощаясь, Груда пообещал завтра же утром отправить письмо. Я же помог Зе снять с кровати вонючие, сплошь покрытые пометом простыни, предложил одолжить ему собственное постельное белье, но он отказался, свернулся на голом – по счастью, оставшемся чистым – матраце и уснул.
Наутро я поведал ему всю правду, поскольку от перспективы путешествия с курами из Восточной Европы в Южную Америку у него ум заходил за разум. На радостях он даже не рассердился на меня, простил мою жестокую шутку, а Войцеху дал еще денег, чтобы тот купил пряности, коренья и приправы для… ну, понятно, для чего. Груда потом жаловался:
«Петух был такой старый и жилистый – пять часов варю, а он все как подошва».
Баия, 1985
Обед у Калазансов. Парадный обед в честь двух новых почетных граждан Баии, посетивших город, – американки-дипломатки Френсис Суитт и бельгийца Мишеля Шоуянса, священника и профессора университета. Множество гостей, роскошное угощение, где первым номером идет великолепный сарапател[84]84
[lxxxiv] Блюдо баиянской кухни из свиной крови и ливера.
[Закрыть]… Пожалуй, только покойная матушка книгоиздателя Дмевала Шавеса, царствие ей небесное, готовила нечто подобное, но рецепт унесла с собой в могилу. Коньяки, виски, вина всех сортов – от эльзасского «Либфраумильх» до нашего «Капелиньо» из штата Рио-Гранде-до-Сул. Это – для веселья, а для утоления моей жажды – кокосовый сок, знак внимания со стороны друзей.
Френсис поместили на втором этаже, а бельгийского кюре, рьяно изучающего все без изъятия народные баиянские празднества, – на первом, у него комната с отдельным входом. Я разглядываю почетных гостей, смеющихся и ведущих оживленную беседу, и спрашиваю, так просто, в шутку:
– Кто к кому шастает по ночам: он к ней поднимается или же она до него снисходит? Хозяйка, Аута-Роза, обижается:
– Мишель – настоящий священник, он дал обет целомудрия и свято соблюдает его. Это столп веры, кладезь премудрости, образец нравственности. Насчет американки не поручусь, но за нашего кюре руку дам на отсечение, да не одну, а обе.
Подобная убежденность пробивает брешь в стене моего цинизма, заявляю, что сам был свидетелем безупречного поведения бельгийца: он любит жизнь, как немногие миряне, он уважает свой сан, как мало кто из лиц духовного звания. После чего, уже не отвлекаясь, приступаю к сарапателу, но занесенная уж было вилка застывает в воздухе, ибо Аута-Роза вдруг во всеуслышание делает следующее заявление:
– Порог этого дома вовеки не переступит рогоносец, будь он хоть миллиардер или всесветная знаменитость! Не допущу!
Ладно, в безгрешность кюре я поверил и даже присоединился к хозяйке, но последнее ее утверждение не смогу проглотить даже с помощью сока незрелого кокоса:
– Не смею возражать, но позволю себе заметить, что мне случалось видеть, как этот самый порог переступают… Нет-нет, я так просто, к слову…
Я ж не сумасшедший и не о двух головах, чтобы спорить с Аутой-Розой. А она, проследив направление моего взгляда, сообщает шепотом:
– Тот, о ком ты говоришь, – не в счет, он – рогоносец наследственный, тут уж ничего не поделаешь, не он виноват, вся порода такая.
И, поскольку училась когда-то в городке Ильеусе в колледже при обители сестер-урсулинок, с ходу начинает отрясать листву и плоды с генеалогического древа ничего не подозревающего гостя:
– …еще прадед его, основатель рода, с большим достоинством носил рога, знаменит этим на всю страну был и дед его, а об отце и говорить-то нечего, он ему и не отец вовсе, жена чуть ли не в открытую жила с соседом, от него и родила…
История захватывающая, но – грешный человек! – я с большим вниманием слежу не за перипетиями сюжета, а за действиями жены героя – последнего барона де Что-то Там: воспользовавшись тем, что американка, позабыв на этот вечер о диете, удалилась попробовать очередное диво баиянской кулинарии, она занимает ее место рядом с кюре. Тот, увлеченно толкуя о синкретизме с достойными собеседниками, поначалу не обращает внимания на Марию-Патоку – как же еще нам обозначить сахарозаводчицу?! – и на ее высоко оголеные бедра. Но как же их не заметить? И вот один просвещенный собеседник устремляет на них взгляд, сладко жмурится второй, и только Мишелю, по-прежнему захваченному разговором, ни до чего нет дела. Мария-Патока со смехом начинает кружить у стула святого отца, желая отвлечь его и привлечь. Дотрагивается до плеча, прикасается к колену, я опасаюсь, что в следующее мгновенье примется расстегивать ему ширинку, благо Мишель не в сутане, а в мирском платье, снабженном этим приспособлением… но, на его счастье, дипломатка Френсис возвращается с полной тарелкой баиянской снеди. Кюре с новым жаром заводит речь о метисации и культурном феномене негритюда. Атака Марии-Патоки захлебывается.
…Когда она проходит мимо меня, я останавливаю ее – мы с ней друзья, она охотно поверяет мне свои тайны – и спрашиваю, чем вызван такой интерес, мне ли не знать, что больше всего на свете ей нравятся мальчики, только-только перешагнувшие порог отрочества. А кюре – крепкий пятидесятилетний дядя… Так в чем же дело? Откуда такой напор? Мария-Патока, потупившись, отвечает:
– Никогда не пробовала с падре… Хотелось узнать, как это на вкус…
А ничего не подозревающий Мишель, сияя от радости – он так любит Баию и баиянцев! – со своего места обводит зал взглядом, улыбается тому и этому, дружески кивает мне и, в невинности своей не подозревая подвоха, приветливо улыбается баронессе.
– Влип! – торжествующе объявляет мне Мария-Патока.