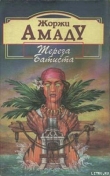Текст книги "Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Рио, 1946
Только-только приехав в столицу с депутатским мандатом, я обнаружил в палате письмецо на свое имя.
Жду тебя к девяти вечера. Собираемся снимать фильм о Кастро Алвесе – супербоевик, ставит Марио Пейшото, сценарий – твой. В девять вечера без опоздания.
«Сегодня познакомлю тебя с Кармен Сантос, – обещаю я Зелии, – это моя закадычная подруга, прекрасный человек и кинодива». Я еще долго расписываю красоту, изящество, несравненный шарм и талант этой чудной актрисы и владелицы студии на «Бразил-Вита-филмс». В 1934-м она приобрела права на экранизацию «Какао», в 1938-м – на «Мертвое Море», а в 1943-м – на «АВС Кастро Алвеса». Ни один из замыслов так и не был осуществлен, но денежки все три раза приходили ко мне необыкновенно вовремя – трудно жить одной литературой.
И вот мы подъезжаем, я высаживаю разодетую Зелию из такси. Пара на загляденье, кавалер – воплощенная элегантность, а дама – просто мадонна. Входим, и я представляю:
– Зелия, моя жена.
– Ой!
Зелия улыбается. Кармен в некотором замешательстве прикрывает грудь. Она не то чтобы нагишом, но вроде того: в прозрачной блузке, не скрывающей ничего, чем одарила ее природа, в легких брючках, обрисовывающих все ее пленительно-женственные обводы и изгибы, никаких тебе комбинаций, лифчиков, поясов с подвязками и прочей отвратительной дамской сбруи.
– Простите, ради Бога, я в такой затрапезе – думала, Жоржи придет один, да я и не знала, что он женился!..
Зелия не теряет самообладания:
– Пожалуйста, не беспокойтесь, вы очаровательны… А с Жоржи мы познакомились в Сан-Пауло, когда объявили амнистию…
Кармен, предложив нам выпить, исчезает из комнаты:
– Пойду позвоню Марио, скажу, что вы пришли!
Через минуту она возвращается в уже совсем ином обличье – в элегантнейшем костюме, черном и строгом. Вскоре приезжает и знаменитый режиссер Марио Пейшото.
Нью-Дели, 1957
Пабло Неруда с видом жертвы злосчастного стечения обстоятельств появляется в моем номере, тыча пальцем в какую-то газетную статейку на английском языке:
– Немыслимо, невозможно! Эти советские – просто несерьезные люди! Ну что ты будешь с ними делать, кум?!
А на фотоснимке над статьей Хрущев в белградском аэропорту целуется с Тито.
После громового успеха «Всеобщей песни», главной книги Неруды, поставившей его в первый ряд современных поэтов, он выпустил «Виноградники и ветры» 80 – сборник политических стихотворений, гневно бичующих американский империализм, который несет народам мира войну и нищету, воспевающих героизм советского народа и новорожденных стран народной демократии, обязанных своим появлением на свет победам Красной Армии. Есть среди этих стихотворений получше, есть похуже, но ни одно из них, хоть они и не идут ни в какое сравнение с «Песнью», нельзя счесть бездарным – в каждом есть, пусть одна, талантливая строчка, Пабло всегда и всюду остается поэтом. Ну так вот, самое, пожалуй, яркое во всем сборнике – это похвальное слово Иосипу Броз Тито, вождю народов Югославии, отцу отечества, чье величие, того и гляди, затмит величие его кремлевского тезки. Стихотворение немедленно было переведено на все языки СФРЮ.
Аргентинское издательство «Лосада» уже объявило о выходе второго издания «Виноградников и ветров», как вдруг распространилось известие о том, что два Иосифа рассорились насмерть. Неруда, осердясь на отступника и предателя Тито, заменил уже сверстанный и набранный панегирик спешно сочиненной яростной диатрибой, где к вящему восторгу советских – и нас всех – сорвал маску народного героя с цепного пса американского империализма.
Немало воды утекло с тех пор – на ХХ съезде КПСС разоблачили культ личности, поведали о преступлениях Сталина, реабилитировали Тито, Хрущев с пальмовой ветвью слетал в Белград, а чилийское издательство «Насимьенто» подготовило к печати «Виноградники…» И вот теперь Пабло показывает мне речь, которую произнес Никита, когда вылез из самолета и упал в объятия югославского маршала – дорогого товарища Тито.
– Нет, ты послушай, – горячится бедный поэт, окончательно запутавшийся в хитросплетениях политики, виноград его стихов осыпается под ветром, непредсказуемо меняющим курс. – «Дорогой товарищ Тито»?! Посоветуй, что мне теперь печатать в сборнике? Похвальное слово или брань? Я, конечно, ангажирован, но это уж слишком! Разве можно так?
Я советую Пабло вообще, раз и навсегда, выкинуть Тито из сборника, чтоб не зависеть больше от колебаний генеральной линии. А главное – не торопись сочинять оду Хрущеву: мало ли как дело обернется?!
Прага, 1950
Проездом из Софии в Париж у нас в Праге оказывается Мария-Баиянка – назовeм ее так, потому что в нашей общей с нею отчизне она жила в квартале Кампо-Гранде на улице Корредор-да-Витория.
Она на голубом, что называется, глазy представляется крестницей Грасилиано Рамоса на том лишь основании, что, как и он, родилась в штате Алагоас, в Палмейра-дос-Индиос, объявляет себя моей родственницей – «Ты разве не знаешь, что лейтенант путался с моей сестрой?» Лейтенант – прозвище моего брата, Жамеса Амаду, в ту пору главного редактора «Моменто», баиянского органа бразильской компартии. Что ж, это и в самом деле родство, хоть и не кровное, но близкое, и я с удовольствием слушаю ее душевные излияния, касающиеся сердечных бурь и плотских утех.
Благодаря своему статусу специальной корреспондентки «Моменто» и активистки компартии, благодаря рекомендательным письмам, которыми снабдил ее Лежебока (чертовка! знает даже, как Жамеса дразнили в детстве), но главным образом благодаря смуглой гладкой коже, отличной фигуре и огненному темпераменту, Мария колесит по странам народной демократии, а там уж и не знают, куда ее усадить, чем угостить, какие дива показать. Какие ложа стелили ей в Будапеште и Бухаресте, в Восточном Берлине, в Варшаве и Вроцлаве, в Братиславе и Софии! Год назад она по секрету шепнула мне, что судьба занесла ее даже в президентскую опочивальню Иосипа Броз Тито, маршала Югославии и народного героя, – правда, нет ли, судить не берусь. Для полного комплекта не хватает лишь Москвы: Эренбург пообещал устроить ей приглашение от Союза писателей СССР, но обещания пока не сдержал. И вот сейчас она в Праге, где ее принимают руководители Союза журналистов Чехословакии, а попала она сюда из Софии, где гостила у родственника самого Димитрова – с ним, с родственником то есть, она познакомилась в Париже, в болгарском посольстве. Мария-Баиянка – свой человек при дворах социалистических государей.
В баре пражского отеля мы чокаемся сливовицей за скорейшее возвращение бразильской журналистки в родные пенаты. Мария-Баиянка ждет не дождется этой минуты, она ужасно тоскует по отчизне, и я удивляюсь – не замечалось за ней раньше такого пламенного патриотизма.
– Больше не могу слышать в постели венгерскую или словацкую речь, – объясняет она. – Хочу, чтобы меня называли тем словом, которое в ходу у нас дома, хочу слышать его, понимать, что оно значит, только тогда я получаю наслаждение. А этих социалистических языков я не знаю, а потому пропадает какая-то самая главная изюминка.
Она устремляет на меня мечтательный взгляд непорочной барышни, допивает свою рюмку и идет к выходу. У подъезда отеля в длинной черной «татре», которая полагается только высокому начальству, ждет ее генеральный секретарь Союза журналистов Чехословакии.
Я выбегаю следом – но поздно: лимузин скрывается в надвигающихся сумерках. А выбежал я затем, чтобы помочь Марии-Баиянке вновь найти изюминку, без которой любовь делается пресной и не завершается победным оргазмом, я вспомнил, что по-чешски ее любимое слово звучит очень красиво и совсем на наш манер – курва![78]78
[lxxviii] От исп., португ. curva – изгиб, поворот.
[Закрыть] Может быть, оно пригодилось бы ей сейчас?
Сан-Пауло, 1945
– Уверяю тебя, друг мой, это сущее чудовище, форменный бандит…
С этими словами появляется в моей квартире на авениде Сан-Жоан художник Лазарь Сегал. Он предупреждает, что пришел вовсе не ко мне, а к своей картине, которую подарил мне в 1944-м, а отдал – лишь год спустя, да и то с неимоверным трудом, не то что «скрепя сердце», а набив на него стальные обручи. Он рассказывает мне о страшной угрозе, нависшей над ним в облике некоего американского миллиардера.
Сегал, еврей из России, впервые приехал в Бразилию в 1912-м, в год своего рождения. В 1939-м вернулся и тут уж обосновался навсегда. Вторая мировая вдохновила его на создание трех грандиозных, прекрасных и страшных полотен – «Погром», «Эмигрантский корабль», «Война», причем первая картина, даром что меньше других по размеру, мне лично кажется самой выразительной и удачной.
Тут из Соединенных Штатов приехал миллиардер еврейского происхождения, король уж не помню чего – мешки с долларами катили за ним, наверно, на тележках, – и, остолбенев при виде «Погрома», решил во что бы то ни стало купить картину. Спросил, сколько стоит, услышал в ответ не продается, и тогда его, что называется, заело. Продается или не продается, но картину он увезет, сказал он и сам предложил цену – немыслимую. Сегал отказывается. Американец ежедневно, как на службу, является к нему в мастерскую, усаживается в кресло перед подрамником, на котором стоит «Погром», и предлагает все больше и больше. Расплата не сходя с места, наличными – деньги у него с собой в портфеле, доллары. И он садистски шуршит пригоршнями зеленых бумажек. Сегал сидит, как в окопе под жестоким артогнем, но держится, держится из последних сил, отвергая баснословные суммы, ибо решил оставить «Погром» у себя.
– Друг мой, – говорит он мне, и голос его дрожит, – это не человек, а сатана в образе человеческом, змий-искуситель, он каждый день повышает цену, я таких денег в жизни своей не то что в руках не держал, а вообще не видал. Боюсь, что не выдержу и сдамся.
Однако не сдался. Сегал любил деньги, но еще больше – свои картины. Он выстоял под долларовой лавиной, совладал с искушением. Драгоценное полотно осталось национальным достоянием Бразилии.
Париж, 1991
За столиком бистро на берегу Сены Кристина Хёринг рассказывает сюрреалистическую историю – удивительную даже по нашим временам, когда невозможное стало повседневной реальностью.
– Я была уверена, что сошла с ума.
Кристина переводит с французского, испанского и португальского (у нее безупречное «коимбрское» произношение) на свой родной немецкий и теперь приехала в Париж познакомиться со своими авторами. Ей и самой еще не больно-то верится, что можно купить двухдневный тур, в Берлине сесть в автобус, а вылезти из него – у Нотр-Дам.
Чтобы понять толком историю Кристины, надо принять к сведению вот что: во-первых, до воссоединения Германии она была гражданкой ГДР, жила в Восточном Берлине со всеми вытекающими из этого обстоятельства ограничениями. Во-вторых, в Советском Союзе и в странах социалистического блока существовала такая практика – раз в год переводчиков, достойных этой высокой чести, посылали на месяц в страну, литературу которой они переводили. Им оплачивали билеты туда и обратно и выдавали некую мизерную сумму на личные расходы – так называемые карманные деньги.
Ровно пятнадцать лет Кристина была кандидаткой на поездку в одну из тех стран, где говорят по-французски, по-испански, по-португальски. Первой в списке приоритетов значилась Франция, за нею следом шли Испания и Бразилия. Пятнадцать лет Кристина ждала – и вот наконец, на шестом десятке, дождалась, удостоилась месячной стажировки на Кубе. Куба ей была вроде бы ни к чему, ибо тамошних писателей она не переводила, однако загранпоездками не бросаются, и Кристина собрала чемодан и села на самолет Берлин – Гавана.
Остров Свободы она облазила из конца в конец, пришла от него в полный восторг, завела полезные и приятные знакомства, кое с кем просто подружилась, возникли у нее, стало быть, плодотворные творческие связи, а когда минул срок стажировки, полетела домой, в Восточную Германию. Тут надо сказать, что хоть Куба и ГДР и принадлежат к одному содружеству развитого социализма, есть между ними значительные различия. Куба – это все же тропики. Родственники, встречавшие Кристину в берлинском аэропорту, первым делом с волнением осведомились, как восприняла она ошеломительное известие.
– Какое?
– Насчет стены.
– Да какой еще стены?
– Да нашей же! Берлинской стены!
А до ее отъезда полиция стреляла в тех, кто пытался перебраться в Западный Берлин. Десятки убитых, сотни арестованных.
– Ну, так что же там случилось? Я ничего не знаю. – Она понизила голос. – Скольких застрелили за этот месяц?
Тут и выяснилось, что за месяц, проведенный ею на Кубе, стена, рассекавшая Берлин надвое, отделявшая одну Германию от другой, рухнула, перестала существовать. Кристина же и понятия ни о чем не имела. Если в кубинских газетках и появилось что-то по этому поводу, то она пропустила заметку, а те, с кем она общалась, ни словом об этом не обмолвились – падение стены было на Кубе табу. Подробности ей стали рассказывать там же, в аэропорту, но только она отказывалась верить. Даже когда ее усадили в машину, повезли туда, где на месте стены лежала груда развалин, перевели через границу, на ту сторону, Кристина все равно не верила.
– Я смотрела, бродила вдоль руин и все равно поверить не могла. Мне казалось, что я уже умерла, что я на том свете и попала в рай. Потом подумала, что сошла с ума, и с большим трудом убедила себя в том, что не спятила, что у меня нет галлюцинаций, что я и в самом деле расшвыриваю носком башмака камни Берлинской стены.
Она полной грудью вдыхает парижский воздух – воздух свободы.
– И все же порой мне по-прежнему кажется, что я грежу и брежу, а вот очнусь – и увижу перед собой стену и услышу пулеметные очереди. Я не хочу становиться нормальной, пусть лучше это сладкое помрачение рассудка длится вечно.
Гамбург, 1968
С хмурого германского неба падает снег. Промозгло. Холодно. Однако ярчайшая пышногрудая – во вкусе янки – блондинка, намалеванная на афише у входа в кинотеатр, вовсе не зябнет и не унывает: рот до ушей, заливается хохотом, прижимая к упругому, торчком стоящему соску пластинку с портретом Жоржа Мустаки на обложке. Девица близка к оргазму – вот какое действие производит даже виртуальный образ этого человека, вот какую страсть вселяет он. «Страсть» – одно из двух любимых его слов. А второе – «свобода».
Когда я бываю в Париже, а это происходит регулярно, мы с Жоржем почти не расстаемся, вместе ходим по любимым им и нами ресторанчикам, отдавая предпочтение марокканскому, китайскому, итальянскому, греческому, который содержит некий Юра и где подают после обеда удивительное vin de paille[79]79
[lxxix] Десертное белое вино (фр.).
[Закрыть] – по французским бистро: это он открыл для нас волшебное заведение «О пон Мари». Его друзья стали нашими, наши всей душой прикипели к нему, и число общих друзей растет год от году. Мы поднимаемся – Зелия вспархивает как газель, я карабкаюсь, одолевая одышку, – на шестой этаж в его двухуровневую квартиру на улице Сен-Луи-ан-л’Илль, где этот греческий пастырь пестует свою юную и многочисленную паству – ударение на «юная». Самой старшей из этих его овечек и козочек только что исполнилось восемнадцать.
Александрийский грек, Вечный Жид, бедуин-кочевник, ставший благодаря Эдит Пиаф оседлым парижанином, соленый морячина, избороздивший Средиземноморье, Жорж Мустаки ошвартовался однажды в порту Сальвадора, главной столицы африканского побережья и Карибского архипелага, сошел на берег, окутанный тайной, исполненный мудрости, посетил Баию – сестру-двойняшку Александрии. Он приплыл к нам в 60-е годы, по приглашению поэта Винисиуса де Мораиса, который попросил актрис Александру Стюарт и Сузану Виейра встретить гостя в аэропорту.
…Они искали такси, когда сидевший за рулем «Мерседеса» незнакомец предложил их подвезти. Артистки рассказали, кого они едут встречать, и любезный водитель, оказавшийся еще и поклонником Александры, почитателем Сузаны, отдал себя в полное их распоряжение – ему, дескать, все равно нечего делать, он просто так катался по Ипуане, а потому отвезет в аэропорт, подождет и доставит, куда будет сказано, вместе с композитором, коего он, кстати, тоже очень любит. И в доказательство засвистал последний шлягер Мустаки «Метек».[80]80
[lxxx] Метек (meteque) – презрительное прозвище иностранца (фр.).
[Закрыть] Девушки доверчиво погрузились в машину, а водитель спросил Сузану, не узнает ли она его.
«Нет, – отвечала та, – а кто вы?»
Незнакомец, чье самолюбие явно было задето, представился: «Мариэл Марискот». Александре это имя ничего не говорило, Сузане же говорило, и очень много, но она не поверила, решила, что он ее разыгрывает, хотя теперь припомнила, что видела его фотографию в газетах. Дабы развеять последние сомнения, водитель откинул коврик под правым сидением и предъявил своим пассажиркам автомат, лежавший так, чтобы до него легко и быстро можно было дотянуться. Тут она все поняла и по-французски объяснила подруге, тоже слегка удивленной видом оружия, что господин, столь любезно вызвавшийся подвезти их, «самый знаменитый бразильский бандит, главарь шайки, осужденный на тридцать лет тюрьмы и бежавший из заключения». Беспечная французская кинозвезда только расхохоталась: «Ну и страна эта ваша Бразилия, другой такой нет, хоть весь атлас перерой!»
Мариэл Марискот – воплощенная любезность – доставил Мустаки до самого дома Винисиуса, но уклонился от приглашения посетить шоу с участием композитора, имевшее быть через два дня в театре «Кастро Алвес». Он очень благодарен, но просит извинить: не может злоупотреблять снисходительностью полиции. Вот каким манером прибыл Жорж Мустаки в нашу сюрреалистическую отчизну – как же было не полюбить ее, как не признать своей?! Именно так и случилось: он стал бразильским композитором, и когда Жак Шансель снимал здесь, в Баии, свою программу «Le Grand Echiquier»,[81]81
[lxxxi] «Большая шахматная доска» (фр.).
[Закрыть] он выступал рядом с Каймми, Каэтано, Жилем. Здесь черпал он вдохновение, здесь сочинил две песни, облетевшие мир. Сколько раз приезжал он сюда, сколько раз приедет?!
Он появляется всюду, где надо защитить и поддержать свободу, он поет для палестницев, для курдов, для ливанцев, для Нельсона Манделы – для всех, кто этого заслуживает и в этом нуждается. Страсть и свобода – вот краеугольные камни его философии, вот вечный источник его творчества. Я мог бы рассказать о нем десятки историй (иные я наблюдал собственными глазами), но ограничусь лишь одной: довольно будет, чтобы вы поняли, кто таков мой друг Жорж Мустаки.
Случилась у него как-то раз скоропалительная любовь с одной арабской девушкой. Она провела у него пять дней, сказала «Пока!» и удалилась, не оставив адреса. Однако через несколько дней Жорж узнал о ней из газет: девушку арестовали в аэропорту Тель-Авива, ибо обширный ее багаж состоял, главным образом, из взрывчатки, которая, будучи приведена в действие, разнесла бы в клочья пол-Израиля. На допросе террористка заявила, что она – жена всемирно известного композитора Жоржа Мустаки.
Прочитав об этом, он удивился, но не смутился. Да, они прожили с ней неполную неделю, не обвенчались ни в церкви, ни в синагоге, ни в мечети, и в книге не записались, и кольцами не обменялись – была только взаимная страсть, взаимное обладание, но наш композитор (всемирно известный) не считал, что этого мало. Он не стал разоблачать самозванку, назвавшую его мужем, а принялся помогать ей.
Ее приговорили к длительной отсидке, и несколько раз появлялся в тюрьме Жорж, устраивал концерты для нее и для других арестанток и даже подружился с директрисой этого исправительного заведения. Он нанял адвокатов, он хлопотал, чтобы ей скостили срок, и добился своего. Через три года ее выпустили. Он снял ей квартирку неподалеку от собственной. Она пожила там некоторое время и отправилась навстречу своей судьбе.
Баия, 1965
В те времена излюбленным моим развлечением было дарить на память о Баии кустарные глиняные кувшины для воды – самые огромные и самые уродливые из всех, какие только можно было отыскать на рынке. Я держал дома не менее десятка этих чудищ, чтобы в час проводов не оказаться с пустыми руками.
Тогда, в 60-е годы был у нас в городе единственный приличный отель, располагавшийся на Кампо-Гранде, – там и только там останавливались знатные чужестранцы. И когда подходил к концу срок пребывания в нашем волшебном городе, и гость собирался уже ехать в аэропорт, ему приносили исполинских размеров глиняное корявое страшилище, художественной ценности не представлявшее, но завернутое в нарядную бумагу, перехваченное ленточкой с подсунутой под нее визитной карточкой – я пошел и на этот расход, где было написано: «Примите, любезный друг, на добрую память о путешествии и пребывании в Баии эту амфору – творение народных умельцев». Вручался дар в самую последнюю минуту, и любезному другу ничего не оставалось, как кротко и смиренно присовокупить его к прочему багажу. Иным изменяла выдержка: я своими ушами – ибо почитал своей непременной обязанностью присутствовать при этой сцене – слышал, например, как Афранио Коутиньо, заскрипев зубами, пробормотал: «Могло бы быть поменьше и полегче…» Но дальше сдавленных проклятий дело не шло. Забыл вам сказать: на визитных карточках стояли имена наших баиянских грандов – губернатора штата, префекта, редактора крупнейшей газеты, директора музея, банкира… У кого же хватит духу оставить в холле такой трогательный знак внимания со стороны столь видных лиц, тем паче, что уж они-то дрянь какую-нибудь не подсунут…