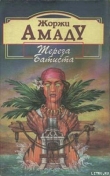Текст книги "Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
Баия, 1973
Из Каракаса звонит Матильда, вдова Пабло Неруды: она прилетит к нам на несколько дней, хочет со мной поговорить о чем-то. Всего два или три месяца – точно не помню – минуло со дня смерти Пабло, скончавшегося сразу же вслед за падением Альенде. Матильде удалось спасти от Пиночета книгу воспоминаний – последнее, что создал Пабло, и по дипломатическим каналам переправить ее в Венесуэлу, Мигелю Отеро Сильве. Оттуда, из его дома, она и звонит мне. Мы с Зелией встречаем ее в аэропорту. Никто не знает, кто она: в паспорте на имя Матильды Уррутиа фамилия Неруда не значится.
Вместе с Мигелем Отеро она подготовила к печати рукопись Пабло «Признаюсь: я жил», но прежде чем передать ее издателям, хочет посоветоваться со мной насчет кое-каких мест, касающихся Кубы и Китая: «Пабло доверял тебе, и я хочу знать твое мнение».
Мы показываем ей нашу Баию, и волшебный город, который раньше видела она только мельком, очаровывает ее. Минет несколько лет, и она, зная, что жить ей остается совсем недолго, побывает здесь еще раз – попрощается. Она подарит Зелии старинный серебряный пояс, поцелует меня, и больше мы уже не увидимся.
А в Китае мы были в 1957-м, когда после фарса с расцветанием тысячи цветов – Боже, сколько надежд породила тогда эта кампания! – уже тлело и занималось то, что вскоре стало называться «культурной революцией». Мы видели, как встревожены наши друзья – Дин Лин, Эми Сяо, Ай Цин. Потом они исчезли один за другим, сгинули бесследно еще раньше, чем мы покинули Поднебесную Народную Республику. Пабло от всего этого напрочь лишился обычного снисходительного благодушия. На прощальном банкета, когда товарищ из правительства предложил тост за «Пабло Неруду, величайшего поэта обеих Америк, и Мао Цзедуна, величайшего поэта Азии», он послал подальше учтивость с благоразумием и тягучим своим голосом ответил, что вряд ли можно считать таковым человека, написавшего всего-навсего шестнадцать стихотворений – именно тогда я и узнал, каков полный и точный объем поэтической продукции «великого кормчего».
И кубинская история известна мне была во всех подробностях. Знал я, кто сочинил и кто подписал гнусное заявление «творческой интеллигенции», знал и то, что изгнанник Рене Депестр, нашедший приют на «острове Свободы», свою подпись отказался поставить наотрез, как ни уговаривали его, как ни стращали…
Внимательно прочитав вместе с Матильдой эти главы, изучив каждый абзац, взвесив каждое слово, я высказал ей свое мнение. Из Барселоны звонила Кармен Бальсельс, просила поскорее прислать рукопись, советовалась насчет того, какому издательству предложить последнюю, посмертную книгу Пабло. Матильда выбрала «Галлимар» – так поступил бы и сам Неруда.
Мы сразу условились, что сохраним ее пребывание в Бразилии в тайне, но накануне отлета у нас в Рио-Вермельо побывала наша приятельница, журналистка Жюли, и Матильда дала ей интервью – с тем условием, что опубликуют его, когда она уже будет в Сантьяго.
После ее отлета и до того, как газета «Тарде» напечатала интервью, появились в моем доме «трое в штатском». Не предложив им присесть, я осведомился, чем обязан вниманию федеральной полиции. Они, как выяснилось, хотели всего лишь удостовериться, что чилийская гражданка сеньора Матильда Уррутиа, неделю гостившая у вас, сеньор Амаду, – это вдова Пабло Неруды. «Она самая», – отвечаю неприязненно.
Потом сообразил: они хотели дать мне понять, что были в полном курсе дела, ушами не хлопали, а беспокоить ее сочли излишним. Я принял все это к сведению, оценил деликатность спецслужбы, и троица удалилась.
Гояния, 1954
Время беспощадно – забвение коснулось и такой неординарной фигуры как Габриель д’Арбуссье, мой друг, которого я всегда помню и часто вспоминаю. В нем гармонично сочетались изысканность французского интеллектуала и могучая жизненная сила африканца, и соединение это произвело огромное влияние на всю чернокожую интеллигенцию послевоенной поры. О том, какое воздействие оказывал он на женщин, выстраивавшихся в очередь к его постели, я лучше умолчу. Мне очень хочется знать, какая судьба постигла начерченную им карту новой Африки и где рукопись его воспоминаний.
Он представлял Сенегал на Ассамблее франкоязычных народов, был ее вице-президентом и генеральным секретарем Африканского демократического движения – партии, боровшейся за независимость стран Западной Африки, входил в бюро Всемирного совета мира, обладал исключительным ораторским дарованием. В какой-то момент начались у него серьезные расхождения с бонзами французской компартии – те выдвинули программу, с которой никак не могли согласиться африканские лидеры: речь шла о том, что как только коммунисты захватят власть во Франции, национально-освободительная борьба в колониях не только потеряет всякий смысл, но и будет движением вспять, ибо после вселения коммунистов в Елисейский дворец колонии начнут пользоваться всеми благами социализма. Габриель д’Арбуссье резко возражал против такого подхода, считал, что это колониализм в чистом виде. И его отношения с Морисом Торезом и Лоран Казанова испортились вконец. Вожди ФКП постарались окольными путями отрешить мятежного сенегальца от политики. Черная полоса настала тогда в его жизни, и я с гордостью вспоминаю, что пришел на помощь затравленному – пригласил его приехать в Бразилию, в Гоянию, где под эгидой нашей компартии затевался Национальный конгресс деятелей культуры. Во главе оргкомитета стоял романист Миэсьо Тати, я же был «серым кардиналом» и диктовал ему волю партии.
И вот там, в Гоянии, разговорившись о будущем Африки, Габриель рассказал мне, что занят сейчас созданием новой политической карты черного континента. Я увидел почти завершенную работу. Идея была в полном смысле слова революционная. Но, наверно, именно поэтому, когда страны Африки одна за другой освободились от колониальной зависимости, обрели независимость, идею эту и похоронили. И карта исчезла бесследно, ни разу больше не слышал я о ней даже упоминания. А между тем придумано все было очень просто и дерзко и основывалось на неопровержимых доказательствах. Покуда существуют прежние границы, независимость останется пустым звуком, а власть метрополий – неприкосновенной: они будут использовать этническую рознь, племенную вражду. Габриель д’Арбуссье предлагал перекроить карту, прочертить между странами новые границы, которые соответствовали бы расовой и социальной реальности, а каждая из стран, обретя единство, смогла бы добиться и демократического устройства и экономического процветания. Габриель отдался этой идее всем сердцем.
И все получилось так, как он предсказывал: независимость, пришедшая на континент, прочерченный старыми, колониальными границами, не принесла ни демократии, ни процветания, не разжала стальные тиски угнетения. Новорожденные государства начали братоубийственные войны, пошла межэтническая резня – вспомните хоть «республику Биафра». Едва ли не везде установились чудовищные диктатуры, ухватила власть единственная правящая партия – левая ли, правая, это уж неважно: одно другого стоит, и Африка стала тем, чем стала, и действительность превзошла самые мрачные ожидания: это уж не третий, а какой-то четвертый мир… А новым лидерам негритюда удалось то, с чем не справилось в свое время руководство ФКП – мало-помалу Габриель д’Арбуссье оказался вытеснен из политической жизни. Был министром юстиции Сенегала, а окончил свои дни послом.
В 1966-м он – в ту пору заместитель генерального секретаря ООН – прилетел в столицу Бразилии на конференцию, посвященную борьбе с апартеидом. Уик-энд провел у нас, в Баии, немного развеялся, мы снова услышали его неповторимый смех, еще раз обсудили проблемы, не дававшие ему покоя – проблемы Бразилии под гнетом военной хунты, проблемы Африки, те самые, которые предвидел и предсказал. Именно тогда он дал мне прочесть рукопись – первую часть своей книги воспоминаний.
…Французский генерал, командующий войсками метрополии, губернатор Западной Африки, полюбил красавицу-негритянку, и от любви этой родились двое детей, мальчик и девочка. Они учились и воспитывались во Франции, под присмотром сестры генерала, оказавшегося для своих чернокожих детей отцом не номинальным, а настоящим. Девочка выросла, постриглась в монахини, стала аббатисой монастыря на Корсике. Габриель изучал право, занялся политикой, и в борьбе за независимость континента ни один африканский лидер не сыграл роли столь значительной.
Не знаю, довел ли он до конца свои воспоминания. В первой части было ровно девяносто страниц на машинке. Габриель не послушал меня, не опубликовал их, – хотел издать всю книгу целиком: о политике, о борьбе в парламенте и в прессе, о том, как в союзе с генералом де Голлем отстаивал независимость Алжира, о страсти к свободе, о битве за демократию, за соблюдение исконных человеческих прав. Да, такая книга могла бы многое объяснить, о многом заставила бы задуматься, стала бы настоящим событием. Первая же часть рассказывает о детстве африканского мальчика.
Но этот рассказ привел меня в восторг. Дом генерал-губернатора, роскошный и примитивный, где на свободе разгуливают тигры и летают птицы… Мать, в которой таится столько нежности и столько силы… Дядюшка, чувствующий себя своим среди духов-ориша… Явь, больше похожая на сон, и действительность, напоминающая сказку. Смешиваются воедино кровь, культуры, цивилизации, проникают друг в друга религии. Это гимн синкретизму, это блистательная апология метисации.
Какая судьба постигла рукописи Габриеля д’Арбуссье? Где они и сохранились ли? Увидят ли когда-нибудь типографский станок? Да и сам их автор, в ту пору посол Сенегала в немецкоязычных странах – обеих Германиях, Швейцарии и Австрии, окончил жизнь при загадочных, до сих пор невыясненных обстоятельствах.
Дня не проходит, чтобы я с тоской не вспоминал этого человека, его неповторимую улыбку, его вкус к жизни, воспринимаемой как бесконечная череда приключений, открывающей все новые и новые возможности… Дня не проходит, чтобы я со светлой грустью не подумал об этом человеке. Габриель д’Арбуссье был много крупнее, чем роль, которую довелось ему исполнить на этом свете.
Самарканд, 1951
Мы в гостях у Шахерезады, в царстве «Тысячи и одной ночи», в городе, где высятся дворцы и минареты, живут султаны и одалиски. Я брожу по их следам, я вижу, как мелькают на узеньких улочках смутные тени: где-то здесь, в предместье, родился, говорят, Тамерлан, этот город брали когда-то приступом воины Александра Македонского. Я – в Самарканде.
Происходило бы все это в «мире капитализма», на каждом углу зазывали бы нас отведать экзотического восточного разврата, и бесчисленные шахерезады демонстрировали бы стриптиз, но, по воле Аллаха всемилостивого и милосердного, мы – в Узбекистане советском и социалистическом. Нравы здесь строгие, сказал бы даже – пуританские, хотя пуритан сроду в Азии не бывало. Разврат – привилегия руководителей, а простой народ пусть обходится подручными средствами. И вместо «танца живота» или «семи покрывал» нам покажут самого знаменитого в республике певца, верней, народного сказителя.
Для демонстрации братской дружбы, объединяющей народы СССР, для доказательства того, как расцвела культура на некогда отсталых окраинах империи, никого нет лучше этих акынов и ашугов – узбекских, туркменских, азербайджанских, таджикских, киргизских бардов. Обставляется все это пышно и торжественно: они приезжают в столицы соседних республик, выходят на сцену и, сами себе аккомпанируя на каких-то диковинных, неведомых мне инструментах, похожих на арабские гитары, речитативом исполняют свои бесконечные произведения. Мне они живо напоминают наших бродячих певцов с Северо-Востока, только эти – старики с длинными седыми бородами: чем старше, тем, значит, славней и уважаемей. Барду, доставшемуся на нашу долю, скоро сто лет, но выглядит он моложе, и я говорю нашей переводчице Марине Кострицыной, что он, наверно, просто цену себе набивает. Зелия дергает меня за рукав, призывая к порядку, сказитель уже настраивает инструмент, звучащий еле слышно, и затягивает нараспев некое песнопение, которое сопровождающий нас молоденький беленький толмач с таким живым и лукавым взглядом, словно он не из Москвы, а из Рио, переводит на русский, а уж Марина Кострицына – на португальский.
Первые две-три… – ну, ей-богу, я не знаю, как их назвать: баллады, что ли – воспевают красоты природы и самоотверженный труд колхозного крестьянства на благо отчизны. Потом следует гвоздь программы, фирменное блюдо – гомерическая по размерам и по количеству превосходных степеней поэма в честь товарища Сталина, отца народов, творца Вселенной. Восхваления нарастают, идет бурное крещендо, дальше вроде бы уж и некуда. Надтреснутый старческий голос негромок и монотонен, но зато переводчик по-русски излагает содержание звонко и весело. Марина переводит, сохраняя ритм, который он задает.
Но вот голос певца крепнет, и пройдоха-переводчик тоже прибавляет громкости. «Сталин – полководец Победы, рядом с ним Александр Великий – не более чем рядовой копейщик… Сталин – солнце… Сталин – столп мироздания…» Сказитель вдруг роняет свой инструмент, очень живо жестикулирует, он уже кричит. Кричит и переводчик, в точности копируя его движения, которыми тот сопровождает новый залп славословий: «Сталин освободил народы из неволи… Сталин спас человечество…»
И тут сидящий в первом ряду неподалеку от нас худощавый, с реденькой бородкой престарелый узбек вдруг вскакивает на ноги и что-то возмущенно вопит. В голубых славянских глазах растерявшейся Марины – изумление. Громовой хохот зала. Марина, задыхаясь от смеха, переводит:
– Сказитель говорит, что больше не может терпеть – ему нужно пи-пи.
Тбилиси, 1948
Где пьют больше всего – в Москве, в Киеве, в Тбилиси? Много наслушался я грузинских тостов и застольных историй, кое-какие запомнил, а одну хочу поведать вам. Я неизменно пользуюсь ею, когда речь заходит о дружбе, но от длительного употребления она не сносилась нисколько.
Итак, рассказывают, что в один прекрасный зимний день гостивший в Грузии видный советский археолог, член Академии наук, гулял по старому городскому кладбищу, держа в одной руке блокнот, куда заносил свои ученые заметки и наблюдения, а в другой – карандаш. Он переходил от склепа к склепу, от надгробия к надгробию, от одного обелиска к другому и все чего-то записывал в блокнот, ибо готовил фундаментальную научную работу об этом городе мертвых.
И вот заметил он некую странность, присущую надписям на каждом могильном камне, на каждом надгробии. На склепе, где упокоился первый тифлисский богач, выбито было: здесь лежит такой-то, родился, скажем, в 1834 году, отошел в лучший мир в 1904, всей жизни его было семь лет. «Ошибка!» – смекнул наш ученый, тут же, благо карандаш и бумага были под рукой, проделал несложные вычисления и получил результат: не семь, а семьдесят! И у следующей мраморной плиты, под которой спала вечным сном баронесса Ирина Москович Калининова,[94]94
[xciv] Так у автора.
[Закрыть] пришедшая на этот свет в 1812 году, а покинувшая его глубокой старухой, в 1906-м, заметил археолог ошибку: надпись гласила, что лишь двадцать вёсен отпустил баронессе Всевышний. Снова ученый в столбик вычел из одной даты другую и установил, что Калининова прожила девяносто четыре года. Опять ошибка! И так повторялось чуть ли не на каждом надгробии: срок пребывания в сей юдоли у всех был указан меньший, чем на самом деле провел в ней усопший. И исключения коснулись лишь двух могил – и обе были бедные, даже убогие. В одной лежала швея Катя Такая-То, в другой – почтальон Алексей Игнатьев. Тут все совпало почти что год в год.
Наш академик в негодовании отправился к смотрителю кладбища, забытому властями старику без возраста, и потребовал объяснений: отчего это в общественном месте без конца повторяются такие вопиющие ошибки? Что за недосмотр? Старик прокашлялся, вперил в вопрошавшего пристальный взгляд и сказал:
– Разве не знаете, что в зачет идут лишь годы, отданные и посвященные дружбе? Все прочее – время, потраченное впустую, убитое без проку и смысла. Это вообще не жизнь, а чистилище, а может быть, и преисподняя.
По завершении рассказа сдвигаются бокалы, и присутствующие пьют за дружбу, истинную соль жизни.
Нью-Йорк, 1937
На некоем действе, устроенном для того, чтобы собрать деньги для испанских республиканцев, меня представили Джону Дос Пассосу: он только что с фронта и вскоре возвращается под Гвадалахару. Он рассказывает, как трудно законному правительству Испании противостоять напору франкистских мятежников, которых щедро поддерживают Гитлер и Муссолини.
Прочитав роман Дос Пассоса «Манхеттен», я стал горячим поклонником писателя и сейчас, чтобы найти какие-то точки соприкосновения со своим идолом и кумиром, я спрашиваю о его португальском происхождении – язык Камоэнса, единственное, пожалуй, что нас сближает. Нет, затронуть эту струнку в его душе мне не удается, он отвечает мне готовой и затверженной фразой:
– Португальцем был мой дед, по-португальски говорил мой отец, а я – американец из Чикаго.
Он произносит эти слова по-испански, с сильным американским акцентом, и первая попытка сближения не удается. А других мне судьба не послала – я никогда больше его не встречал, хоть был и остаюсь восторженным почитателем романиста, открывшего новые горизонты в литературе ХХ века.
Приходит минута, когда понимаешь, что большая часть тех, кого ты любил, с кем дружил, уже там, а ты по недоразумению – все еще здесь.
Париж, 1948
Одно-единственное недоразумение не могло испортить сердечных и уважительных отношений, сложившихся у нас с мадам Мадлен Сальваж, владелицей «Гранд-Отеля Сен-Мишель», помещавшегося в 5-м округе города Парижа, в доме № 19 по улице Кюжа.
Коса нашла на камень в тот миг, когда я, прибыв в Париж, обнаружил, что единственная на весь шестиэтажный отель ванная превращена в подобие камеры хранения. Когда я пригрозил, что тотчас уеду, Мадлен согласилась вернуть ванную в первоначальное состояние. Она любила литературу, а мой приятель, художник Карлос Скляр, преподнес ей экземпляр «Бескрайних земель» (в переводе на французский «Terre Violente») и сказал, что я – писатель, а писателей мадам Сальваж уважала. И тем не менее чисто бразильская проблема ежедневного мытья была решена не полностью: в самый ответственный миг густо намыленный жилец обнаруживал, что горячая вода из крана не идет, ибо перекрыта рачительной и экономной хозяйкой гостиницы.
«Гранд-Отель Сен-Мишель» был пристанищем и оплотом португальских и латиноамериканских коммунистов, в основном – художников и писателей, всех не упомнишь и не перечислишь, список постояльцев будет слишком длинным. Николас Гильен и Жустино Мартинс, испытанные и удачливые волокиты, каждый день притаскивавшие в свои логова новую добычу – лифта в отеле не было, и бедные девушки должны были карабкаться по крутым ступеням под испытующим взглядом мадам, пользовались ее особой благосклонностью. После победы барбудос Николас пригласил ее на Кубу, и все на чудном острове привело Мадлен в восхищение, все, за исключением речи Фиделя, длившейся шесть часов. Надо признать, это и вправду чересчур, но мадам Сальваж осталась пылкой поклонницей кубинской революции.
Нравом она отличалась необузданным и вспыльчивым и, как базарная торговка, орала на постояльцев, не плативших в срок, грозя выкинуть их со всем барахлом на улицу. Дальше угроз дело не шло – была мадам крута да отходчива. Послушав однажды ее бешеные вопли и брань, я осведомился, в чем причина такой неистовой злости, и услышал в ответ, что она еще не получила в этот день своей порции сперматозоидов. Настоящий же роман, исторгавший у меня слезы умиления, на моей памяти был у нее только с уругвайским писателем Франсиско Спинолой, который жил в «Сен-Мишеле» годами, оплачивая счета исключительно любовью – мадам очень высоко оценивала и то, чем наделила его природа, и то, как умело он этим пользовался.
Когда же минуло целых шестнадцать лет с того дня, как нас попросили покинуть пределы Французской Республики, и мы с Зелией вновь оказались в Париже, она приняла нас как родных и не взяла за постой ни сантима: это ли не лучшее доказательство того, сколь святы были для мадам узы дружбы?! Наезжая в Париж, мы неизменно навещаем ее.
«Гранд-Отель Сен-Мишель» процветает, душ теперь есть в каждом номере, лифт приделали. Мадлен потащила Зелию по всему своему заведению, все ей показала, вламываясь в комнаты к постояльцам без стука, и Зелия только хлопала глазами при виде того, какие картины глазам ее представали. В один из таких вот визитов я рассказал Мадлен об одном из ее давних постояльцев, о Роберто Гусмане, некогда – юном коммунисте и одном из лидеров левого бразильского студенчества.
– Помните Роберто? Он теперь министр торговли.
– Подумаешь, важная птица – министр торговли! Вон Марио Соареш – президент Португалии, а еще не было случая, чтобы он, бывая в Париже, не навестил меня.
Марио был одним из многих нищих изгнанников, обретавшихся под кровом «Сен-Мишеля» и впоследствии узнавших громкую славу и мировую известность. Какая там гостиница – храм науки, обитель муз, Парнас и Олимп!
…Помню китайца Лю – он был в гостинице одновременно и портье, и боем, и коридорным, и вообще всем, что вам будет угодно. Жил на площадке лестницы и долгими алчными взорами провожал дам, под руку с постояльцами поднимавшихся в номера, мысленно обладая каждой. Днем он сидел за стойкой и отвечал на телефонные звонки, передавая messages и подзывая постояльцев. Зелия уличила его: если мне звонил мужчина, Лю, хорошо ко мне относившийся, вопил на всю гостиницу: «Сеньор Жоржи, вас к телефону!», если же в трубке звучал женский голос, поднимался в номер и сообщал о звонке потихоньку, таинственным шепотом. Зелия не раз клялась задушить его собственными руками.
Узнав, что нас высылают из Франции, мадам Сальваж разрыдалась на груди Зелии, причем так бурно, что потревожила младенческий сон Жоана Жоржи. Предложила нам денег – все свои сбережения… Изгнание, чужбина, нужда – а вот поди ж ты: нам было хорошо тогда в «Сен-Мишеле», мы были молоды, были счастливы…