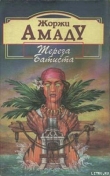Текст книги "Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Испано-Португальская граница, 1976
Лето. Солнце. Всем семейством катим по направлению к Испании. Обсуждаем различия в характере и обычаях двух народов, населяющих Иберийский полуостров, португальскую меланхоличность, испанский драматизм.
На стенах читаем лозунги и призывы – все еще многочисленные следы свободы слова, которую обрушила на страну Апрельская революция, «революция гвоздик». После стольких лет молчания португальцы все никак не наговорятся всласть. «Солнце будет сиять всем!» – вывел кто-то на стене, но рядом, чуть пониже, некий скептик с помощью баллончика с краской усомнился в этом: «А если дождь?» Мы смеемся – как учтиво ведут полемику кроткие лузитане!
И вот мы пересекаем границу и сразу же, в первом же испанском городке, видим: во всю ширь каменного забора, которым огорожены чьи-то грядки с овощами, сообщается:
«Ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя!» Кому же это адресована троекратная ненависть, снабженная еще и восклицательным знаком? Теперь уж ясно – мы в другой стране, здесь чувства яростны, кипят и хлещут через край, на место сдержанной умеренности португальцев приходит бешеная необузданность.
Париж, 1992
Опаздывая, мчусь на свидание с Эрнесто Сабато[91]91
[xci] Эрнесто Сабато (р. 1911) – аргентинский писатель.
[Закрыть] – мы договорились вместе пообедать в итальянском бистро. Он прилетел в Париж на открытие своей выставки. Знаменитый аргентинский прозаик увлекся живописью и очень доволен одобрительными отзывами французских критиков и искусствоведов. Еще два года назад в Центре Помпиду состоялась первая выставка его работ, я, разумеется, был на ней и повстречал там Жоржа Райяра, критика строгого и взыскательного. Тот дал очень высокую оценку творчеству Сабато: живописец не уступает романисту.
Эрнесто выскакивает из такси, я бегу к нему навстречу, и посреди улицы, под визг тормозов и рев клаксонов мы обнимаемся.
– Если бы нас задавили, разом кончилась бы латиноамериканская литература, – восклицает Эрнесто.
Мы смеемся. В нашем возрасте уже можно себе позволить трунить над славой, тщеславием и прочей суетой сует. Ему в прошлом июне восемьдесят уже стукнуло, мне – исполнится в нынешнем августе. Мы с ним – очень разные: он, драматически воспринимая действительность, все же не стал пессимистом, ну, а для меня бытие по-прежнему праздник. Мы совсем по-разному видим жизнь, но в жизни нашей было множество совпадений.
За столиком бистро мы вспоминаем прошлое и обсуждаем настоящее – ошеломительные, невероятные перемены в мире… Война в Персидском заливе, Босния, Ельцин… Анализируем ситуации, строим прогнозы, хоть достаточно долго живем на свете, чтобы понимать, какое это бездарное занятие. От войны на Ближнем Востоке незаметно переехали на общие рассуждения. Эрнесто с восхищением говорит об арабской культуре – что было бы с Испанией, если бы не мавры? Но способен ли современный мир понять таинственную реальность мусульманской цивилизации? Раз упомянули про арабов, я по ассоциации вспоминаю, как поэт и журналист Уолли Саломан, бразилец арабского происхождения, в октябре прошлого года брал у меня интервью и заявил тогда, что, по сведениям из надежнейших источников – из дипломатических кругов! – совершенно точно известно, уже решено: Нобелевская премия по литературе будет присуждена аргентинскому писателю Эрнесто Сабато. С тем он и удалился, оставив меня радоваться за собрата по перу.
«Нобель», однако, уплыл в Южную Африку, достался Надин Гордимер – думаю, скорей из соображений политических, чем как признание ее вклада в мировую литературу. Эрнесто на это сообщает, что его пять раз выдвигали на рассмотрение Шведской академии, но он всегда знал, что ничего не получит. «Это почему же, – спрашиваю я. – Ты достоин, как мало кто иной». Прихлебнув сицилийского винца, Эрнесто отвечает:
– А вот Артур в интервью заявил, что нет, дескать, не достоин я такой награды.
– Какой Артур?
– Артур Лундквист, это он раздает премии.
Услышав это имя, Зелия начинает хохотать. Эрнесто добавляет, что с тех пор, как съездил в Стокгольм на презентацию шведского издания своего романа «Ангел тьмы», он туда больше ни ногой, чтобы не говорили, будто выхлопатывает себе «нобелевку». Зелия заливается еще пуще. Эрнесто спрашивает, что же это ее так развеселило.
– Совпадения! – говорит моя жена. – Все тот же Лундквист заставил нас исключить Стокгольм из наших маршрутов. Мы с Жоржи не были там Бог знает сколько лет. В последний раз наш родственник Луис, в ту пору второй секретарь посольства – сейчас он посол – прочел в какой-то газетке, что, мол, Амаду приехал в Стокгольм добывать «Нобеля». Ну и в результате мы зареклись ездить в Швецию.
Помимо этих мелких совпадений – ничего себе, мелкие: Нобелевская премия, целый мешок долларов! – были в нашей с Эрнесто жизни и другие, странные и многозначительные «сближения», как сказал кто-то из великих. Ну вот, скажем, Эрнесто живет в Сантос-Лугаресе, очаровательном предместье аргентинской столицы. Да, но и я в 1941-м снимал там домик у одного итальянца, писал биографию Престеса «Рыцарь надежды». Я был удивлен, когда узнал о том, что мы были соседями. А потом увидел одно интервью: журналист спрашивал Сабато, правда ли, что и он живет в том же городке, где жил когда-то автор жизнеописания Луиса Карлоса. И удивление мое сменилось ошеломлением, когда я прочел ответ: не просто в одном городке, а в том же самом доме.
Ладно, положим, это тоже мелочь и случайность. Но не случайно то отвращение, которое испытываем мы оба к военщине. Не случайно, что отвращение перерастает в ужас, когда военщина захватывает власть. Аргентинский президент Рауль Альфонсин не мог бы выбрать на должность председателя комиссии по расследованию злодеяний хунты более достойного гражданина, чем Эрнесто Сабато. Его дом в Сантос-Лугаресе стал оплотом истины и правосудия, сюда стекались показания тех, кто сам стал жертвой диктатуры «горилл», тех, чьи близкие были убиты, замучены или пропали без вести.
От Сантос-Лугареса, свершая наше мысленное кругосветное путешествие в прошлое, переходим к Буэнос-Айресу, вспоминаем дорогого моему сердцу Родольфо Гиольди.[92]92
[xcii] Родольфо Гиольди (1897–1985) – один из основателей и руководителей коммунистической партии Аргентины.
[Закрыть] И для Эрнесто это имя значит немало. Я познакомился с ним в Бразилии, в 1935-м, а потом, после провалившейся попытки поднять в Рио мятеж, он долго сидел в тюрьме. Это был человек достойный, человек порядочный и преданный идее, но и не скованный догмой, свободный от ее нищенски убогих ограничений. Когда и мне пришлось бежать в Аргентину, Родольфо и его жена Кармен стали мне родными людьми, а их дом – моим. Эрнесто тоже знавал его, а сблизился с ним в ту пору, когда вступил в компартию…
– Вот не знал, Эрнесто, что ты был коммунистом.
– Скажи мне лучше, Жоржи, кто не был?
И в самом деле – почти не найдется в Латинской Америке более-менее известных интеллигентов, писателей, художников, политиков левых взглядов, кто в свое время не пошел бы добровольцем в эту армию. В определенный момент каждому из нас казалось, что бороться за счастье народа можно и должно именно и только в ее рядах. Самые лучшие и самые скверные люди из всех, с кем сводила меня моя долгая жизнь, самые достойные и самые гнусные были коммунистами.
Обед наш подходит к концу, незаметно усидели бутылку благородного «Корво». Эрнесто, как человек объективный, не оспаривает превосходства вин итальянских над аргентинскими.
– Matilde y yo les esperamos, a vos, Zelia, a vos, Jorge, en nuestra casa, en vuestra casa de Santos Lugares,[93]93
[xciii] Мы с Матильдой ждем вас – тебя, Зелия, и тебя, Жоржи, у себя – у вас! – в Сантос-Лугаресе (исп.).
[Закрыть] – произносит он на прощанье, употребив местоимение «vos», что для аргентинца больше, чем простое «ты», и означает особую близость, приязнь, нежность.
В число тех, кого я люблю всем сердцем, кто иногда снится мне по ночам, чью смерть я не устаю оплакивать, входят собаки и кошки, попугай, птичка софре.
Чету мопсов я вывез из Англии: оба носили чрезвычайно длинные и сложные имена, указывавшие на то, что в жилах этих собачек течет по-настоящему благородная, голубая кровь аристократов в пятнадцатом поколении. Но кобелька я перекрестил в Мистера Пиквика, отдавая дань уважения Диккенсу, а сучку назвал Капиту (в память одной из героинь славного романиста Машадо де Ассиза), хотя она не в пример тезке отличалась поразительной верностью своему супругу, да и глаза у нее были не миндалевидные, а, как и положено мопсу, вытаращенные и круглые.
На протяжении девятнадцати лет Пиквик и Капиту следовали за мной как тень, не отходили ни на шаг, лежали у моих ног, если я был дома, рвясь за мною следом, если я выходил, и умирая от истинно собачьей тоски, если мы с Зелией уезжали за границу. Как ни пытались мы скрыть от них наши сборы и приготовления, они не давали себя обмануть, задолго предчувствуя разлуку и впадая в глубокую печаль. Домашние рассказывали, что уже за несколько дней до нашего возвращения супруги вдруг отрешались от черной меланхолии, принимались играть и веселиться, безошибочно предчувствуя, что мы скоро приедем. Где еще найдешь таких верных, таких преданных друзей?
Художник Карибе, обладатель вывезенной из Моравии легкомысленной красавицы овчарки, жестоко страдал от зависти и всячески старался очернить моих англосаксов. Иллюстрируя «Историю любви Полосатого Кота и сеньориты Ласточки», он изобразил не мопсов, а каких-то монстров, нечто среднее между летучей мышью и телефонным аппаратом, свою же проститутку сделал голубоглазой принцессой. Зависть застит взор и портит нрав.
Капиту, столько лет прожив в Бразилии, потеряла британскую сдержанность и покачивала бедрами на ходу, как истая баиянка. Пиквик, переживший супругу на несколько месяцев, до конца дней своих и при любых обстоятельствах сохранял флегматичную надменность лорда. У него было многочисленное потомство – дети и внуки его стяжали себе славу и золотые медали чемпионов породы. Ослепший и оглохший от старости, он благодарно вилял обрубком хвоста, когда я почесывал его за ухом, и до смертного часа сохранил прекрасный аппетит, неизменно пуская слюни, когда приближался к своей миске, – потому я не внял добрым советам и не дал усыпить его. Он умер своей смертью, когда мы с Зелией были в отъезде. Долго еще мне чудилось, что Пик скребет когтями мою ногу, просясь на колени, и слышалось похрапывание Капиту…
В доме у нас, указуя на вкус хозяев, нежно привязанных к этим загадочным тварям, всегда жило несколько кошек. Одну – даму необузданного темперамента и непокорного нрава, помесь перса с сиамкой, – звали Саша. Она начала шляться по крышам в весьма нежном возрасте, когда же неизбежное случилось и пробил час произвести потомство, вспрыгнула на наше супружеское ложе, прямо на живот доне Зелии, и никакими силами согнать ее не удавалось. Пришлось подстелить клеенку и газеты, и Саша родила на животе у моей супруги восьмерых котят.
Она вообще питала к Зелии страсть пламенную и ревнивую: ходила за ней неотступно, что свойственно скорее собакам, а та любила брать ее на руки и подолгу беседовать с нею, задавая нескромные вопросы о Сашиных кавалерах, оравой толпившихся у дверей. Саша отвечала мелодичным, разного тона, мяуканьем – Зелия, судя по всему, сносно владеет кошачьим языком. Сашин отец, гигантский перс, носил имя Дона Флор, ибо по родословной значился кошкой. Когда же выяснилось, что это не кошка, а совсем, совсем наоборот, наш садовник Зука стал называть его Дон Флором. Нетрудно догадаться, что его сиамку-жену звали Габриэла, а первого ее мужа – Насиб.
Он был одним из самых верных моих друзей и предан был не меньше, чем Саша – Зелии, и проводил со мной все время, что отведено у него было для двуногих. Видя, что я сижу на веранде нашего дома в Рио-Вермельо и стучу на машинке, Насиб неизменно взлетал на шаткий столик и укладывался на груду отпечатанных листков, тихо мурлыча и полагая, очевидно, что помогает мне творить. Если звонил телефон и я вставал из-за стола, Насиб приоткрывал глаза и ждал, когда я вернусь, а не дождавшись, шел на поиски, понимая, что с творчеством на время покончено. Погиб он, подавившись рыбьей костью. Кормили его до отвала, но он не мог отказать себе в удовольствии пошарить по мусорным свалкам, что и привело однажды к такому вот печальному финалу.
А Саша прожила около двадцати лет: для кошки это – возраст Мафусаила, и всегда была окружена свитой поклонников, с которыми обращалась весьма сурово, ибо нравом отличалась, повторяю, крутым, чтобы не сказать бешеным. Однажды мы привезли из Англии кота и кошку с острова Мэн, передвигающихся скачками, как кролики. Саша мрачно наблюдала, как мы возимся с чужестранцами, расточая им ласки и заботы, а потом, ополоумев от ревности, бросилась на англичанина, которого беспечная Зелия опустила наземь, и в один миг перебила ему спинной хребет. Потом взглянула на остолбеневшую хозяйку, громко мяукнула и взвилась по столбу на крышу. Не прошло и суток, как за первым убийством последовало второе. Я всерьез опасался, что она, ревнуя к Зелии, когда-нибудь кинется и на меня, но Саша, судя по тому, что этого не случилось, кое-какие права за мной все же признавала.
Были у нас и две ручные цапли, приходившие на зов, и здоровенная жаба-каруру, жившая в саду и являвшаяся на веранду в гости. Когда Зелия гладила ее по спинке, она раздувалась, вдвое увеличиваясь в размерах. Была и глуповатая, но добрая боксериха Вентания, обожавшая спать в гостиной, что ей в видах сохранения чистоты и порядка было строго-настрого запрещено. Вентания все равно проникала в запретную зону и пряталась на диване у меня за спиной. Когда мы надолго уехали в Европу, она затосковала, стала отказываться от еды и вскоре умерла, не вынеся разлуки.
Были и два руанских селезня, звавшиеся Братья Карамазовы и отличавшиеся, помимо красоты, редкостной похотливостью: они все время пытались овладеть местными гусынями, которые были гораздо крупнее французских волокит. Братья-разбойники, завидев жертву, налетали на нее, зажимали, и покуда один держал, второй делал свое черное дело. Почему-то мой селезень всегда оказывался проворнее и успевал раньше, что приводило Зелию в бешенство.
Наш друг Уго дель Карриль, отправляясь в путешествие, оставил нам – мы тогда жили в Рио – прелестную, совсем ручную и безумно дорогую птичку софре. Она не признавала клеток, сидела у меня на пальце, на лбу у Пабло Неруды, щипала за руку Симону де Бовуар, подпевала Жоану Жилберто. Иногда вылетала через открытое окно и подолгу порхала над пляжем Копакабаны, но неизменно возвращалась. Приехав, Уго прислал за нею и получил отказ: мы уже так привыкли к софре, что жизни без нее не представляли. Я, сделав скорбное лицо, наврал, что она улетела, и потом увез ее с собой в Баию, где она, насвистывая босанову, прожила еще лет двадцать.
А красно-зелено-золотой попугай по имени Флоро был со мной еще дольше. Он, конечно, был самкой, если судить по тому, как глубоко, страстно, ревниво он – она? – меня любил и какую лютую злобу вызывали у нее – у попугая? – милые девицы, приходившие скрасить мое одиночество и согреть мою холостяцкую постель. Когда же Зелия переехала ко мне на авениду Сан-Жоан, неистовая Флоро преследовала ее по всей квартире, норовя клюнуть побольней, а в перспективе – изгнать из нашего дома навсегда. Походка у попугая была вразвалочку, как у подгулявшего боцмана, но двигался он стремительно, и Зелия в страхе забиралась на стулья. В конце концов он смилостивился и смирился с ее присутствием, но никогда не позволял Зелии фамильярничать, тогда как я мог делать с ним – с нею? – все что угодно. Я брал Флоро в руки, совал его голову себе в рот, гладил и почесывал брюшко в поисках несуществующих блох – он все сносил. В клетку он уходил только на ночлег, а весь день без устали носился по квартире или перепархивал с пальца на палец.
Попугай вообще – национальная бразильская птица, персонаж бесчисленных сказок и легенд, мудрец и озорник. У меня перебывали и амазонская парочка Титио и Тития, и красавец из штата Маракана, болтавший без умолку, но Флоро был и остался самым любимым. Он попал ко мне из дома терпимости, и этим, надо полагать, объясняется его ревнивая нежность.
…Полковник Жоан Амаду, приехавший со своей фазенды, прогуливался в «квартале красных фонарей» и вдруг услышал, как сидящий в клетке попугай гнусаво и пронзительно отпускает забористые многоэтажные ругательства, распевает совершенно непристойные песенки и рекламирует «фирменные блюда» заведения – вроде таких, например:
«Тер-р-реза станет р-раком! Р-раком!» Полковник пришел в восторг, решив, что лучшего подарка для Жоржи не придумать, и спросил, сколько стоит чудесная птица. Мадам сообщила, что всего золота мира не хватит, чтобы купить попугая, но при виде пятисотенной мнение свое переменила, сказав: «Еще одну такую же – и можете забирать бедняжку». – «Как его зовут?» – осведомился мой отец и услышал, что имен у него множество – Шестьдесят Девять, Минет, Стальной Зад – словом, девицы-бесстыдницы изощрялись как могли.
Так вот, по прихоти полковника Амаду, очарованного тем, как виртуозно сквернословит попугай, он и вошел в мою жизнь – бурную и сумбурную. Мы жили с ним душа в душу, он в буквальном смысле все хватал на лету, обнаруживая поразительные способности. Вскоре он вместо непристойностей уже выкрикивал политические лозунги не хуже заправского агитатора-активиста и призывал голосовать за коммунистов.
У нас в доме он мастерски свистал собакам, говорил «кис-кис-кис» кошкам и «цып-цып-цып» – курам и вел себя, в общем, вполне прилично. Лишь изредка при слове, например, «кабаре» вспоминалась ему прошлая жизнь, и тогда он нес такое, что волосы вставали дыбом: орал, матерился, горланил похабные песни, хрипло сообщал, что «Гр-р-расинду вчера тр-р-рахнули в кор-р-рале», звал какую-то Лауру, а поскольку та не появлялась, сердился и кричал: «Лаур-ра, где ты, б… позор-рная?!»
После того как не стало Пиквика и Капиту, я решил больше не заводить в доме никаких зверей. Слишком больно и трудно расставаться с ними навсегда, слишком мучительно терять. Лучше уж вовсе их не иметь.
Рио-де-Жанейро, 1930
Как и у каждого, наверно, случались, и не раз, в моей любовной практике осечки – большего унижения не припомню. Бывало, виной всему становилась нестерпимость вожделения. В таких случаях почти всегда удавалось справиться с собой, доказать свою состоятельность, показать класс, подтвердить звание мужчины. Случалось, однако, что меня постигало полное фиаско: поникшие паруса не желали наполняться ветром, болтались бессильно и бесполезно, и горькую чашу позора приходилось испивать до дна.
Одну такую неудачу не забуду никогда. До сих пор у меня в ушах звучит голосок проснувшегося посреди ночи ребенка… С Марией из Монтевидео я познакомился на пляже Копакабаны. Она неукоснительно появлялась там каждое утро, в девять утра, в целомудренном – закрытом, с юбочкой! – купальном костюме, ведя за руку мальчика лет трех. Покуда он носился по пляжу, строил из песка замки и рыл тоннели, Мария принимала мои ухаживания и кокетничала – другого времени у нее для этого не было, да и места тоже: муж ее, представитель какой-то уругвайской фирмы, работал дома, превратив гостиную в кабинет. Ее нельзя было назвать красавицей, но она так мило смеялась, показывая ровные белые зубки, и распевала танго: «Танго родилось в Уругвае, аргентинцы его у нас украли».
Я лежал с нею рядом на песке, улучив минутку, когда сына не было поблизости, пожимал ей ручку, срывал поцелуи. Все авансы мои встречали благосклонный отклик, но дальше дело не шло, свидания она так и не назначала. Мария из Монтевидео боялась мужа, ревнивого, как сатана: он закатывал скандалы, стоило ей кому-нибудь улыбнуться на улице, грозил плеткой. Помимо плетки, он, как и всякий гаучо, не расставался с восьмизарядным револьвером и обещал: «Убью в случае чего как собаку и сам застрелюсь».
Но вот в один прекрасный – действительно прекрасный – день она сообщила мне добрую весть: уругвайского Отелло вызывают в Монтевидео, она проводит его на пароход, помашет платочком с пирса, убедится, что швартовы отданы, и на две недели станет свободна, как птица. Она сообщила мне адрес. В девять вечера я должен быть у нее, дверь будет не заперта, а лишь притворена. Толкнуть и войти на цыпочках, чтобы не разбудить сына, который спит в столовой.
Я отыскал скромный дом в тупике, открыл дверь, вздохнул с облегчением – муж уплыл, все идет как намечено – оказался в маленьком коридорчике и тотчас попал в объятия Марии. Под тонкой тканью ночной сорочки ощутил ее прильнувшее ко мне тело, и мы впервые поцеловались по-настоящему. Это произвело на меня впечатление столь ошеломляющее, что я позабыл про ее наставления, от неосторожного шага половица заскрипела, и сейчас же раздался голос мальчика: «Папа! Папа!» Я похолодел. Мария втолкнула меня в спальню, а сама пошла успокоить сына. Поняв, что папа не вернулся, он расплакался, горько и безутешно. Мать склонилась над ним, заворковала по-испански, стала баюкать его, запела колыбельную – и от ее простеньких слов и незамысловатой мелодии на меня повеяло теплом, которое таинственным образом сковало полярным льдом главный орган.
В спальню она вошла уже голая – рубашку сорвала с себя в коридоре, а я, как был, в пиджаке и при галстке, присел на край кровати. Мария стала помогать мне разоблачиться, потом протянула руку и с изумлением обнаружила – ничего хорошего она не обнаружила, так, лоскутки и тряпочки, ветошь да рухлядь. Любовник ее был к любви не готов. Выказывая немалый опыт, она пришла ко мне на помощь, пустила в ход самые испытанные, самые безотказные средства. Ничего, ровным счетом ничего, никакого эффекта.
Ни волшебная ручка, ни уста царицы Савской покойника оживить не смогли. Боже милостивый, что это была за мучительная ночь. Женщина, распалясь, как кошка в течке, дойдя до крайней и грозной степени возбуждения, впивалась в меня поцелуями, царапалась, кусалась – не могла поверить, что здоровый восемнадцатилетний малый остается безответным, бесчувственным, бессильным, но чем больше она старалась, тем глубже делался напавший на меня столбняк. Так ничего и не добившись, она принялась мастурбировать передо мной, оцепенелым и оледенелым, и, воспользовавшись этим, я поспешно, как попало, напялил на себя одежду и выметнулся прочь, а вслед мне донесся тихий стон. От моих шагов мальчик снова проснулся и позвал: «Папа! Папа!»
Да, мне было восемнадцать лет, я хотел всегда и всегда был готов, и вечно был на полувзводе, парень был хоть куда – лишь бы было куда – и вот так осрамился. Я и сейчас слышу, как плачет этот мальчик оттого, что папа не приехал. Хорошим отцом, наверно, был тот уругваец, любящим и заботливым. Сволочь такая.