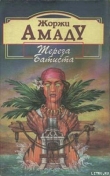Текст книги "Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Рио-де-Жанейро, 1960
Время к полуночи, в нашей гостиной Антонио-Мария, композитор и журналист, перебирает струны гитары, исполняя только что сочиненную пьесу. Обрывая назойливую и такую неуместную трель телефона, хватаю трубку, и женщина на том конце провода осведомляется: имеет ли она честь говорить с Жоржи Амаду. Да! Да! Он самый! В чем дело?
– Я ваша читательница, у меня есть все ваши книги… Сейчас я читаю «Старых моряков» и вот бросила буквально на полуслове… Решила позвонить вам…
Издатель объединил под одной обложкой и под названием «Старые моряки» две мои повести: одну про таинственную кончину Кинкаса-Сгинь-Вода, другую про капитана Васко Москозо де Арагана. Книжка только вышла из печати.
– …позвонить, – бьется в трубке взволнованный голос, – чтобы узнать… Я остановилась на той странице, где ваш капитан напивается в каком-то убогом притоне… Теряет мужество и уже готов все бросить… Так вот, я вас предупреждаю: если вы не вернете ему достоинство, не вытащите из грязи, не заставите вновь обрести радость жизни, я в руки больше не возьму ни одну из ваших книг! Так и знайте! – и бряк трубку.
Возвращаюсь к гостям, рассказываю об этом странном требовании. Композитор хохочет и делает мне такое признание:
– Не поверишь, но я тоже остановился на этой странице… Целых два дня не мог заставить себя вновь взяться за чтение. Боялся, что капитан покончит с собой.
Рио-де-Жанейро, 1953
Я получил письмо от Говарда Фаста: речь в нем идет об авторских правах, за которые якобы я ему не плачу.
Мы познакомились с ним в 1949-м, в Париже, на Конгрессе в защиту мира. Он и Поль Робсон были звездами американской делегации. Великий певец стал и до самой смерти оставался моим другом, с Говардом Фастом я имел мало дела, хоть и распускал восторженные слюни по поводу «Спартака» и «Дорог свободы». В 1956-м, когда Хрущев разоблачил сталинизм, появился среди прочих и роман Фаста «Голый бог» – роман выстраданный, нервный, очень мне пришедшийся по душе.
А за три года до этого я затеял в партийном издательстве, которое тогда возглавлял Алберто Пассос Гимараэнс, серию «Народный роман», сам отбирал для нее книги, подыскивал переводчиков. Опубликовали мы немало хороших произведений, и в том числе фастовских «Спартака» и «Сакко и Ванцетти».
И вот письмо от Фаста: его литературный агент обнаружил пиратские издания его романов – двух, по крайней мере, – держал в руках эти экземпляры, выпущенные в свет жульнически, «Спартак» же сейчас, по его сведениям, выходит вторым изданием. Агент приводит название издательства, фамилию директора, собирается подавать в суд, от которого нам не приходится ждать ничего хорошего, но он, Говард Фаст, увидев мое имя, попросил подождать с иском, покуда он не напишет мне и не получит ответ с объяснениями.
Вот я и отвечаю: отвечаю, что отвечаю только за выбор книг и переводчиков, а прочее – договоры, покупка прав, условия издания, сумма вознаграждения – не моя печаль. Обращаться следует не ко мне, а в издательство «Витория», а оно, честно уведомляю я, принадлежит бразильской компартии, и потому у меня к Фасту покорнейшая просьба – уведомить меня срочной телеграммой, буде ему или его агенту удастся слупить с издательства хотя бы ломаный грошик. Лично мне оно должно весьма и весьма значительные суммы, ибо мой «Мирный мир» выходил у них пять раз, «Рыцарь надежды» – вообще без счета. И все за «спасибо».
Нет для меня ничего более изнурительного, раздражающего, тягостного и бессмысленного, чем так называемое вращение в обществе: приемы, коктейли, званые ужины, официальные обеды, презентации и тому подобная мура.
Надо быть умным – присутствующие ждут от тебя звонких фраз, метких слов, глубоких мыслей и блеска. Если не удается отговориться, я впадаю в глубокую панику. Попробуй-ка быть умным в час, когда все добрые люди предаются сиесте, а ты как дурак, в пиджаке и при галстуке, преешь за столом! В такие минуты я тупею до такой степени, что меня можно счесть слабоумным, теряю дар речи, словом, становлюсь еще большим дурнем, чем обычно.
Пекин, 1986
Алфредо Машадо стало известно, что я написал президенту Сарнею, отказываясь занять пост посла Бразилии во Франции. В ту пору я был в Пекине, и Жозе Сарней позвонил мне туда с этим лестным предложением: друга я поблагодарил, главе государства – отказал. Я считаю, что не гожусь на эту должность, несведущ и некомпетентен, а в экономике вообще полный ноль, а ведь это – всего лишь одна из сфер, в которых послу надлежит разбираться. Сарней не сразу принял мой отказ: он продолжал уговаривать меня еще целый месяц с лишним, но я был неколебимо тверд, и он сдался.
– Только ты мог отказаться от такого. Подумать только – посол во Франции! Ты спятил, Жоржи! – говорит мне Машадо.
– Подумаешь, посол! Случались в моей жизни виражи и покруче. Забыл, как в 1950-м я порвал с издательством «Галлимар»?
Да, это было решение куда более серьезное, и отказ дался мне куда тяжелей. Когда в 1938 году меня, безвестного бразильского писателя, перевели на французский язык, и крупнейшее парижское издательство выпустило мою книгу, я чуть не лопнул от гордости, я был на седьмом небе от счастья, я считал себя богачом и знаменитостью. После войны, в 1949-м, «Галлимар» переиздало «Жубиабу» и купило права на французские издания «Капитанов песка». Покуда книгу переводили, Роже Кайуа[68]68
[lxviii] Роже Кайуа (1913–1978) – французский писатель, журналист.
[Закрыть] затеял серию под названием «Южный Крест» – в ней должны были печататься произведения писателей Латинской Америки.
А я перед самым отъездом в Чехословакию разыскал Клода Галлимара и попросил не включать перевод «Капитанов» в новую серию. И объяснил, почему. Дело тут было не в Кайуа – я был с ним в превосходных отношениях, – а в моей неприязни ко всяческим гетто. «Южный Крест» же, по моему мнению, был самым настоящим гетто, куда писателей загоняли по территориальному признаку. Галлимар счел мои резоны убедительными, пообещал просьбу мою исполнить. Однако не исполнил. Я уже был в Праге, когда под маркой «Croix du Sud» («Южный Крест») вышли «Capitaines de Sable». Клод явно забыл о своем обещании. И тотчас же в этой серии выпустили очередное издание «Жубиабы». Вот тогда я прекратил сотрудничество с крупнейшим французским издательством, и минуло немало лет, прежде чем возобновились наши отношения.
Алфредо Машадо – сам издатель, а потому не может не признать, что это был шаг куда более рискованный, чем отказ от посольской должности. Это уж, пожалуй, не сумасбродство, а сумасшествие.
– Ты не забудь – я был тогда молод, мне было тридцать с чем-то, а теперь – семьдесят пять. Не знаю, не знаю, хватило бы у меня сейчас духу рассориться с «Галлимаром».
Баия, 1980 – Париж, 1990
Парижский романист и критик Тони Картано всегда относился к моим творениям, вышедшим во французском переводе, с великодушной снисходительностью и не раз печатал в газетах лестные для меня рецензии. Однако в помещенной в «Магазин Литтерер» статье по поводу приснопамятного «Подполья свободы» он вдруг показал зубки и, что называется, раздраконил эпопею – обвинил автора в том, что тот рабски следует канонам социалистического реализма, установленным товарищем Ждановым. Тони недавно рассказал мне, как удивило его мое письмо, в котором я полностью признавал его правоту.
Через десять лет Доминик Фернандес посвятила целую полосу в «Нувель Обсерватёр» одобрительному разбору моих романов. Поводом для этого послужил выход книги Алисы Райяр «Разговоры», где немало страниц посвящено мне. Помимо превосходных переводов «Лавки Чудес» и «Терезы Батисты», я благодарен Алисе, дружбой с которой так дорожу, и за эту книгу.
Однако Доминик высказалась весьма нелицеприятно по поводу моей «Страны карнавала», появившейся в Париже ровно через шестьдесят лет после того, как я ее сочинил. Доминик упрекала меня в подражании европейским образцам, в том, что я слишком подвержен чужим влияниям, а от этого недалеко и до эпигонства. Я и ей написал письмо, признавая столь строгую критику вполне справедливой, а упреки – заслуженными. В оправдание свое сказал лишь, что «Страна карнавала» – мой литературный дебют, и спустя два года появился роман «Какао», уже вполне свободный от заимствований.
С Тони мы уже были друзьями, когда я написал ему, кротко признавая его правоту по поводу «Подполья». С Доминик мы подружились после того, как она получила мое письмо.
Франкфурт, 1970
Где только не сводила меня судьба с Габриэлем Гарсия Маркесом, на каких только мировых перекрестках не сталкивались мы с ним! Скажем, в Барселоне он встречал нас в аэропорту вместе с Кармен Бальсельс, своим литературным агентом, чей непреклонный нрав хорошо известен издателям всего мира – она горой стоит за права своих авторов, в обиду их не даст никому… Был и другой случай: приплыв в Картахену, мы с Зелией известили об этом Габо, и, сойдя на берег, пили несравненный колумбийский кофе в доме его родителей. А в Гаване ужинали с ним и с Фиделем Кастро.
Мы познакомились лично лет двадцать с лишним назад – на франкфуртской книжной ярмарке, в рамках которой устроена была встреча латиноамериканских писателей. Германские литературоведы и университетские профессора проявили тогда завидную осведомленность – здесь отлично знали наше творчество, хотя большей части испаноамериканцев нужен был не анализ, а издатель. Они беззастенчиво пристраивали свои рукописи и книги… Недавно мы с Эдуардо Портеллой вспоминали, как кипел тогда от негодования наш соотечественник Адониас Фильо, возмущенный тем, какие бои развернулись за место под солнцем, за расширение жизненного литературного пространства.
«Я не за этим сюда приехал!» – сказал он Портелле и мне. Три бразильца были инородными телами в сообществе испаноязычных коллег, устроивших неслыханную свистопляску. Я обратил тогда внимание на Гарсия Маркеса, молча пристроившегося в уголке и не принимавшего участия в этой книжной ярмарке тщеславия.
…Приехав из Москвы в Париж, он звонит мне. Я спрашиваю, в каком отеле он остановился, и слышу в ответ смех:
– Жоржи, латиноамериканский писатель, если он дожил до определенного возраста и не полный олух, должен последовать твоему примеру и купить себе квартиру в Париже, – и он диктует мне свой адрес и телефон.
Рио, 1946
Новоизбранные члены палаты депутатов и сената образовали конституционную комиссию, и, покуда налаживалась ее работа, в течение целой недели всходили на трибуну представители разных фракций и партий, произносили речи во славу демократии. Всех уже не помню, но выступление Отавио Мангабейры врезалось мне в память. Это было истинное произведение ораторского искусства, каскад блестящих импровизаций, исполненных с подлинным артистизмом и мастерством. Впрочем, вскоре выяснилось, что Отавио свои речи сначала пишет, потом правит и шлифует, потом учит наизусть и произносит перед зеркалом, отрабатывая жестикуляцию и модуляцию. И только потом дарит восхищенным парламентариям очередной экспромт.
Говорить от имени коммунистической фракции на этом пиру парламентской риторики доверено было Клаудино Жозе да Силве – первому настоящему чернокожему, ставшему депутатом Федерального собрания. Это был человек малограмотный, читал по складам, и при этом он, как бывает с самородками, обладал настоящей интеллигентностью, видимо, врожденной. У него был один-единственный костюм, одна рубашка, но он слыл чуть ли не самым элегантным парламентарием, а по просвещенному мнению Иветты Варгас, не «чуть ли», а самым элегантным.
Мне и Маригеле – исходя, очевидно, из нашего с ним баиянского происхождения – поручили писать речи для наших товарищей, не вполне владевших литературным языком. Мы дебютировали на выступлении Клаудино, и его речь вошла в анналы бразильского парламентаризма, на пять корпусов обойдя все прочие речи, ибо была невероятно пространной. Мы разделили предполагаемый текст на четыре равные части: две взялся писать Маригела, две – я. Принялись за работу, довели ее до конца, а когда уже вместе начали сводить концы с концами, дописывая то, что Маригела назвал «стыками», количество страниц удвоилось. Речь вышла пламенная, патетическая и – длины нечеловеческой.
Результатом нашей самоотверженной и довольно занятной работы, итогом плодотворного сотрудничества явилась не речь, но речуга, речище: славный Клаудио произносил ее на совместном заседании обеих палат – мы засекли время – четыре часа двадцать пять минут. Парламентарии, получившие свои мандаты после восьмилетней диктатуры «Нового государства», еще пребывали в послевоенной эйфории и потому пленарные заседания посещали исправно, отсиживали зады на скамьях, носом не клевали, не кашляли, слушали ораторов со всем вниманием, рукоплескали громко и дружно. Клаудио же удостоился особого отношения – он был представителем коммунистической фракции, да еще и негром: не прийти на его выступление значило расписаться в своей реакционности, сильно сдобренной расизмом.
Покуда он с запинкой читал свою эпопею, Маригела, в качестве четвертого секретаря редакционной комиссии оказавшийся в президиуме – правда, с краешку, – кивал мне, подмигивал, радуясь, как мы с ним умыли социал-демократов и демократических националистов. Мы первыми, с двух концов зала, принимались аплодировать, и коллеги-депутаты единодушно подхватывали. Когда же наконец Клаудио завершил выступление и, сойдя с трибуны, упал в объятия товарищей, спешивших поздравить его, Нестор Дуарте, который любил называть вещи своими именами, шепнул мне на ухо:
– Ну и х… же вы состряпали!
Баия, 1985
Вместе с Жаком Шанселем, который снимает для французского телевидения фильм о Баии, мы идем вниз по Ладейра-до-Пелоуриньо. Беспризорные мальчишки – «капитаны песка» – в обмен на мелкую монетку сообщают туристам всякие исторические сведения, показывают достопримечательности, окружают нас плотным кольцом, тычат пальцами в сторону особнячка, где ныне отель, а в 1927 году мне какое-то время пришлось жить, и говорят хором:
– В этом доме в 1500 году родился Жоржи Амаду. Можно не переводить. Жак Шансель и так все уже понял:
– Оказывается, твоя слава гремит здесь уже пятое столетие! – хохочет он.
Но тут один из «капитанов» узнает меня и шипит остальным: «Прикусись, пацаны, это ж папаша Профессора!» Профессором они давно прозвали известного социолога, заметного человека в Фонде культурного наследия – моего сына Жоана Жоржи. Он много занимался проблемами этого и прилегающих кварталов, населенных в основном бродягами, проститутками и прочим маргинальем. Главной же его заботой были дети – вместе с актрисой Айдил Линьярес он даже создал для них театр, кажется, он и сейчас еще существует.
Очень довольный такой популярностью своего сына, я веду Жака Шанселя дальше – на площадь Пелоуриньо, где он будет снимать парад карнавальных групп-афоше. А на площади – толпа французских туристов. Они узнают именитого земляка, обступают его плотным кольцом и радостно приветствуют: вы подумайте только, прилететь за столько тысяч километров, чтобы увидеть вживе и въяве телерадиозвезду. Жак раздает автографы.
– Так вот, оказывается, где она – главная баиянская достопримечательность! – говорю я.
На площадь, слепя смуглой наготой и буйством красок, со штандартом и змеей, вступает афоше «Дети Ганди». Гремит музыка. Шансель отдает распоряжения своей группе. Начинается съемка.
Рио, 1960
Сознавая свою популярность, ощущая любовь народа, благодарного за прогрессивный, демократический курс правительства, за то, что появилась в стране автомобильная промышленность и воздвиглась на пустом месте новая столица Бразилиа, президент наш Жуселино Кубичек, когда приблизился срок уйти с поста, стал подумывать о переизбрании. Дело было непростое, конституция не позволяла, но… Кубичек вопросил оракула, и тот – звали его Отто Лара Резенде – ответил: «Может быть, если видные деятели культуры подпишут воззвание по сему поводу, то, как знать, глядишь, это даст толчок общенациональной кампании за перевыборы…»
Перво-наперво мы с Эдуардо Портеллой составили список самых необходимых и безотлагательных шагов во внешней и внутренней политике, перечислили все, чего требовали и интеллигенция, и народ. Если Жуселино эти шаги сделает, может быть, мы и запустим кампанию за переизбрание его на второй срок. Получилось у нас не то пятнадцать, не то двадцать пунктов, точно не помню. Президент ознакомился с нашими условиями и согласился выполнить все – все, кроме одного. А это было требование, чтобы Бразилия заняла иную позицию по отношению к национально-освободительной войне, которая все жарче разгоралась на португальских «заморских территориях» – в Анголе, Мозамбике, Гвинее-Бисау, чтобы мы прекратили поддерживать салазаровский режим, перестали раболепствовать и объявили о своем нейтралитете. Жуселино, с большим воодушевлением принимавший нашу программу, дошел до этого пункта и сказал «тпр-р-ру»:
– На это я пойти не могу. Не могу подложить такую свинью доктору Антонио.
Доктору Антонио, как почтительно называли бразильские политики, даже мнившие себя прогрессистами, португальского диктатора Антонио де Оливейру Салазара, они лизали сапоги. Первым, кто отказался от этого исторически сложившегося, но от того не менее унизительного занятия, кто сделал внешнюю политику нашей страны более или менее независимой, был Жанио Куадрос.
Вена, 1956
Мой старый друг, композитор и активист парагвайской компартии Хосе Асонсьён Флорес[69]69
[lxix] Хосе Асонсьён Флорес (1904–1972) – парагвайский композитор; автор лирических песен, балетов, хоровых и оркестровых сочинений.
[Закрыть] пролетом в Москву оказался в Вене, где я тогда жил: он хотел есть и – женщину, о чем объявил с порога. В Москву же он направлялся по приглашению советских товарищей, благосклонно отнесшихся к его творчеству и к его политической деятельности. Они выправили ему все документы, прислали билет на самолет Буэнос-Айрес – Лондон – Вена – Москва, а больше у него для межконтинентального вояжа ничего с собой и не было: композитор был беден, как настоящий индеец гуарани, чья нищета вошла в поговорку, а те жалкие песо, что вручил ему перед отлетом товарищ Эльвио Ромеро,[70]70
[lxx] Эльвио Ромеро (р. 1926) – парагвайский поэт.
[Закрыть] он истратил прямо в Буэнос-Айресе на какие-то конфеты, бутерброды и фрукты, поскольку был обжорой и сластеной. Его ничуть не смущало, что в кармане – ни гроша: он приглашен Союзом композиторов СССР, а это страна могущественная и богатая, стоит ему лишь ступить на ее территорию, и он ни в чем не будет знать отказа и недостатка. Как видим, Хосе Асонсьён Флорес доверял первому в мире государству рабочих и крестьян беспредельно.
Однако человек предполагает, а Бог располагает. Неприятности начались уже в Лондоне, куда он прибыл около полудня после утомительнейшего перелета, занимавшего в те времена часов тридцать, если не больше. Опытный путешественник Эльвио Ромеро наставлял его:
– Как приземлитесь, отведут тебя в зал для транзитных пассажиров, самолет на Вену будет через час. Сиди и слушай, а услышишь, что посадку объявили, – иди в самолет. В Вене тебя встретят, так что ни о чем не волнуйся.
Как бы не так. Хосе Асонсьён понимал на гуарани и по-испански: он прилетел, сел и стал ждать, когда объявят рейс на Вену, что должно было произойти примерно через час. Но не произошло. Кто ж мог знать, что пригласят на посадку пассажиров, вылетающих в какую-то загадочную «Вин», а о Вене не обмолвятся и словечком. Поди-ка догадайся, что это она и есть. Композитор, прижимая к груди папку со своими опусами, сидел и внимательно слушал, но заветного слова так и не дождался. Сел он в кресло около полудня, а в шесть, томимый голодом и нестерпимым желанием опорожнить мочевой пузырь, наконец не выдержал и пошел выяснять что к чему.
Эльвио рекомендовал ему не покидать транзитного зала, но Флоресу ничего другого не оставалось, как открыть дверь, подойти к стойке с надписью «INFORMATION» и обратиться к сидевшей за ней юной леди. Он объяснил ей свои проблемы, но та не понимала по-испански, и композитор, еле-еле сдерживаясь, чтобы не намочить штаны, перешел на звучный язык индейцев гуарани. И плохо было бы его дело, если бы проходивший мимо элегантный господин, привлеченный истошными криками «Я – композитор Хосе Асонсьён Флорес», не приблизился и не осведомился бы, что происходит. Флоресу сказочно повезло: господин оказался аргентинским послом, только что прилетевшим из Манчестера. Он принял в нашем герое живейшее участие: выслушал его и первым делом указал, где находится туалет.
Дождавшись возвращения повеселевшего Флореса, посол отрекомендовался ценителем его дарования и вообще парагвайской музыки, сообщил, что жена всегда напевает его мелодии, когда стоит под душем, попросил автограф и мгновенно решил все проблемы: выправил въездную визу сроком на сутки, зарезервировал билет на завтрашний самолет в Вену, отвез композитора в ближайший отель, снял ему номер, заказал ужин, обещал утром прислать шофера – словом, облагодетельствовал.
В результате Флорес прилетел в Австрию с опозданием на двадцать четыре часа. Никто его, разумеется, не встречал. Но по адресу на конверте переданного для меня письма он разыскал местное отделение Комитета защиты мира, приехал туда на такси и, когда я уплатил водителю, упал в мои объятия.
Он умирал от голода – это случалось с ним ровно через пять минут после любой трапезы, – и я повел его в ресторан. С нами была сотрудница комитета, приставленная ко мне в качестве переводчицы, – толстенькая, кругленькая, веснушчатая венка. Хосе Асонсьён, отрываясь на секунду от гуляша, посматривал на нее с вожделением, ибо прежде всего успел сообщить мне, что смертельно хочет есть и переспать с кем-нибудь. Он надеялся, что я помогу ему исполнить оба желания, ибо принадлежал к тем, кто считает меня всемогущим. Было заявлено, что парагваец, на четыре дня оставшийся без бабы, уже не принимает в расчет ни возраст, ни внешность, ни даже пол, а он, Хосе Асонсьён, пребывает в столь бедственном положении пятые сутки.
Переводчица, увидав его выразительную жестикуляцию, пожелала узнать, о чем идет речь и чем так озабочен парагвайский товарищ. Я честно довел до ее сведения смысл последнего высказывания – парагваец… четыре дня… и т. д., – а потом спросил, не расположена ли она споспешествовать решению этой проблемы, ибо представляется редкая возможность применить в действии принцип пролетарского интернационализма.
Толстушка выслушала меня с интересом, потом внимательно оглядела тучного композитора, чей лысый череп поразительно напоминал головку швейцарского сыра, и осведомилась:
– А он правда такой знаменитый?
– Правда-правда! В Буэнос-Айресе женщины дерутся за право отдаться ему, – наша беседа шла по-французски.
Она снова стала изучать его внешность и, судя по вопросу, пришла к неутешительным выводам:
– Но знают его только в Южной Америке, да?
Увидев, что парагвайцу, кажется, не обломится, я воззвал к ее сознательности:
– Ты не забудь, что его музыку будут исполнять в Москве, а это – мировая слава. Она заколебалась, и я добавил:
– Считай это партийным поручением.
Аргумент подействовал, венка улыбнулась лысому полуиндейцу. Я уплатил по счету и незаметно удалился, оставив их тет-а-тет. В конце концов Флорес считал меня человеком, чьи возможности безграничны. Мог ли я разочаровать его?