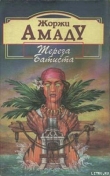Текст книги "Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Тайпа, 1970
В это волшебное лето Феррейра да Кастро[50]50
[l] Жозе Мария Феррейра да Кастро (1898–1974) – португальский писатель.
[Закрыть] обучает нас интереснейшему предмету под названием «север Португалии», он знает этот край как свои пять пальцев, возит из города в город, из деревни в деревню, из Оливейры-дос-Аземеис, где родился, до самой испанской границы – и о каждом местечке находится у него своя история. Несмотря на июльский зной, он не позволяет себе никаких летних вольностей – всегда в тяжелой тройке и шляпа на голове. Ни один француз не боится сквозняков и простуды до такой степени, как боялся их португальский романист.
Неподалеку от Гимарайнса, в местечке Тайпа, благодарные соотечественники воздвигли бюст в честь знаменитого писателя, чьи книги переведены на все языки, увенчанного разнообразными премиями – последнюю, «Золотого орла», ему только что присудило в Ницце международное жюри под председательством Мигеля Анхеля Астуриаса. Поставили бюст в парке этого маленького городка, в тени деревьев, рядом со скамейками, где по воскресеньям любят собираться местные жители. Я расточаю хвалы благородному деянию муниципалитета, но автор «Сельвы» не разделяет моего воодушевления:
– Да нет, они лишили меня летнего отдыха. Много-много лет подряд я приезжаю сюда хоть на несколько дней. Каждый день перед заходом солнца сижу на этой вот – он показывает – лавочке, разговариваю о всякой всячине, о жизни и смерти со стариками, и они мне рассказывают тьму интереснейших историй про людей и про обычаи, сообщают всякие мелочи и подробности, а из всего этого и складываются мои книги. Ты, Жоржи, сам знаешь, как это происходит.
Задувает легкий ветерок, Феррейра да Кастро зябко поправляет фуляр на шее.
– Они меня знали как «человека в шляпе», потому что я боюсь сквозняков и с непокрытой головой не хожу. А кто я таков, им было невдомек, и они меня не стеснялись, говорили со мной свободно – я был такой же, как они. Теперь с этим покончено – не сяду же я напротив собственного бюста, это было бы нелепо и смешно. Мне уже ничего не рассказывают, а только скажут: «Добрый вечер, ваше превосходительство» – и мимо. Это очень грустно. Жоржи, Зелия, пойдемте-ка отсюда, а то еще подумают, что я привез вас показать свой бюст, покрасоваться перед вами. Идем!
Рио-де-Жанейро, 1970
Мой двоюродный брат Жилберто Амаду, вернувшись из Европы, приглашает меня на ужин, чтобы передать письмо от советского юриста, вместе с которым заседает в Международном суде. Жилберто, мулат из штата Сержипи, высоко поднялся по служебной лестнице – был депутатом, сенатором, послом в Чили и в Финляндии. Он видный юрист и литератор с именем и вообще – заметное явление в жизни нашего бразильского общества. Где бы ни появился он, вокруг него всегда вьются почитатели и поклонники.
Пока не собрались другие гости, Жилберто ведет меня в свой кабинет, разворачивает на письменном столе бесценную диковину, полученную в подарок в Амстердаме, – это начерченная на старинном пергаменте карта, относящаяся ко временам победы над голландцами, когда окончательно провалилась их попытка колонизовать наш Северо-Запад. На карте показаны те места в штатах Пернамбуко, Алагоас, Сержипи, Баия, в которых осели голландцы, не пожелавшие покидать Бразилию. И вот там, в Сержипи, а точнее в Эстансии, расположены земли нашего с Жилберто деда – полковника Жамеса Амаду. Кузен показывает пальцем и восклицает, дивясь и ликуя от неожиданного открытия:
– Мы с тобой голландцы!
– Ну да? – удивляюсь я и тотчас изъясняю свои сомнения: – Не забудь, что в свите принца Нассау прибыли в эту голландскую колонию и евреи, бежавшие от инквизиции из Испании и Португалии и получившие приют в веротерпимых Нидерландах. Принц привез их в Бразилию, многие тут остались. Не забудь, кроме того, что людей по фамилии Амаду в изобилии и на Пиренеях, и на Ближнем Востоке. Как знать, может, и наши предки, эти самые Амаду из Эстансии, были иудеи-сефарды? Голландцы ли, евреи – хорошие были люди.
Жилберто, поглядев на меня довольно неприязненно, сворачивает пергамент трубкой и бережно прячет в ящик стола. Насколько я знаю, больше он никогда никому карту эту не показывал.
Не было, нет и наверняка никогда не будет войны более нелепой, чудовищной и братоубийственной, чем та, которую ведут между собой евреи и арабы, – когда во множестве гибнут мирные жители, торжествуют терроризм, предрассудок, мракобесие, расизм. Нет ничего страшнее и бессмысленней войны между братьями, войны, лишенной всякого смысла, развязанной «торговцами смертью» – фабрикантами и поставщиками оружия. Их бы за решетку, а они во дворцах живут! Это они вертят правительствами и отдают приказы генералам. На Ближнем Востоке, где с обеих сторон воюют семиты, кровные и близкие родственники, евреи и арабы убивают и умирают в интересах третьих лиц, делая «холодную войну» горячей, и война эта, как никакая другая, есть отрицание гуманизма, раковая опухоль расизма, проказа нетерпимости, СПИД фанатизма. Одна сторона освящена моисеевыми скрижалями, другая – Меккой и Мединой, но на самом деле обе несовместимы с верой и культурой.
Ох, война между братьями, ночь средневековья, вдруг сгустившаяся на заре нового тысячелетия, – ее надо прекратить, и как можно скорей. Пусть живут рядом свободное Государство Израиль, отчизна иудеев, и свободное Государство Палестина, родина арабов, «Песнь Песней» и волшебные сказки Шехерезады. И Моисей, и Магомет рождены женщиной в одной и той же пустыне.
Когда разразилась Шестидневная война, на улицы Сан-Пауло вышли евреи и арабы – граждане Бразилии, где смешалась кровь многих рас, – устроили общую манифестацию во имя мира и гуманизма, вместе потребовали прекратить кровопролитие. И в тот час сердце мое наполнилось гордостью за то, что я бразилец. Потом, разумеется, вмешались посольства – израильское, египетское, сирийское, – делая все возможное и невозможное для того, чтобы примеру Бразилии не последовали другие страны. А я, старый бразилец, а значит, метис, в чьих жилах течет и арабская, и еврейская кровь, заявляю: покуда длится гнусное противостояние, я не приму приглашения ни от Израиля, ни от стран арабского мира. Я, кровный брат евреев и арабов, пересеку границу двух палестинских государств не раньше, чем воцарятся в них согласие и мир, не раньше, чем сядет племя семитов за один стол и преломит хлеб.
Вроцлав, Польша, 1948
Своего давнего приятеля, уругвайского писателя Энрике Аморима, автора романа «Конь и его тень», я встретил в очередной раз здесь, во Вроцлаве, где проходит Всемирный конгресс деятелей культуры в защиту мира. Он приглашает меня на просмотр документального фильма на волнующую тему – разведение лошадей на просторах пампы, а точнее – на бескрайнем пространстве его имения. Аморим – крупный латифундист, что не мешает ему при этом быть коммунистом.
У нас, в Латинской Америке, случаются и не такие чудеса: я вам назову десятки богатейших землевладельцев, которые придерживаются крайне левых, радикально-левых политических взглядов. Мой незабвенный друг Джованни Гимараэнс по секрету поведал мне: чем больше мое состояние, тем круче влево должен я «забирать», показывая, что фазендейро, достигнув зрелых лет и преуспевания, не отрекается от своих убеждений. Произнеся эту тираду, латифундист-маоист расхохотался своим неповторимым смехом – он и сегодня звучит у меня в ушах… Ах, Джованни, какая невосполнимая потеря…
В маленьком зале кинотеатра я с завистью гляжу на целый выводок юных дам, представительниц разных женских и феминистских организаций – они вьются вокруг нашего уругвайца, рослого, плечистого, сияющего красавца, истинного мачо, настоящего «латинского любовника», миллионера и коммуниста, словом, bel’uomo,[51]51
[li] Красавец-мужчина (итал.)
[Закрыть] как сформулировал хрустальный голосок Марии… э-э… Марии-Флорентийки, которая и сама чудо как хороша. На экране – кровные жеребцы и кобылы, воплощение силы и изящества, выведенная порода, плод вдумчивой селекции: они носятся по необозримой равнине, простирающейся куда-то за горизонт, вольно резвятся на пастбищах, раздувают ноздри, топорщат гривы… И в живописном одеянии гаучо, во главе верных пеонов скачет романист Аморим по высокой зеленой траве, копытами своего скакуна топчет пампу и сердца приглашенных на просмотр дам.
Но вот стихает вольный галоп, жеребцов и кобылиц на лассо влекут на случку – улучшаем породу, искусственный отбор, поясняет не без лукавства высокий специалист Энрике. Процесс, заснятый во всех деталях крупным планом, приковывает внимание аудитории, с уст которой время от времени срываются то нервный смешок, то невольный негромкий вскрик, то истомный вздох. Мария-Пражанка, представляющая на конгрессе женщин Чехословакии, не может сдержать восторженного вопля, когда весь экран заполняет необыкновенных размеров член лоснящегося вороного коня, покрывающего припавшую на передние ноги кобылу. Энрике не упускает возможности докторальным тоном сообщить, что подобные анатомические особенности вообще присущи уругвайцам – и коням, и людям. Мария-Баиянка, самозванная корреспондентка неведомого бразильского издания, чувствует, как увлажнились ее кружевные трусики, прерывисто вздыхает и рукоплещет.
Просмотр окончен, Энрике Аморим триумфатором выходит из зала. Любопытно, которую из Марий изберет он своей первой жертвой?
– Хорошо снято, жизненно, – объясняет он, – но совсем другое дело – увидеть все это вживе, на фазенде, не хватает пьянящего аромата трав и конского пота.
Сан-Пауло, 1944
После ужина Лазарь Сегал ведет меня к себе в мастерскую.
С этим художником меня связывает крепкая дружба, возникшая из моего давнего и искреннего восхищения его творчеством. Со щенячьим нахальством я берусь судить об искусстве, и в писаниях моих, наверно, немало чуши, но чутье меня не подводит – я превозношу этого мастера, я утверждаю, что ему нет равных, и признание льстит Сегалу – бразильцу, попавшему к нам из русских степей с заездом в Германию.
И безмерно мое изумление, когда Сегал царским жестом раскладывает на полу четыре или пять своих гуашей – одну другой прекрасней: «Выбирай любую! Хочу сделать тебе подарок!» – и качает головой, сам поражаясь собственному безрассудству. У меня глаза разбегаются, но вот наконец я останавливаюсь на картине, изображающей девушку в гамаке на фоне тропического пейзажа. Моделью для нее, несомненно, послужила Люси – ученица и натурщица.
Я протягиваю руку к новообретенному сокровищу, однако автор оказывается проворней – он снова прячет гуашь: «Не сейчас, сначала надо сделать для нее паспарту». Ладно. Я возвращаюсь в Баию с пустыми руками.
Переехав в начале 1945-го в Сан-Пауло, я снял квартиру на авениде Сан-Жоан, развесил по стенам нового жилища картины, рисунки с дарственными надписями друзей-художников. Я часто ужинаю в доме Сегала и вот однажды, победив робость, одолев неловкость, прошу вручить долгожданный подарок – уже год как он обещан да все не получен. «Конечно-конечно, ты прав, дружище, – говорит Сегал. – Я ведь не забыл: мне предлагали за него немалые деньги, но я не продал». После таких слов я надеюсь наконец унести гуашь, но надежды не сбываются и на этот раз. Потребовать понастойчивей решимости не хватает.
Еще через несколько дней Сегал звонит мне, договаривается о встрече и в назначенный час приходит в сопровождении работяги с молотком, гвоздями и еще какими-то причиндалами. Под мышкой у него картина в белой раме – с тех пор я несколько раз окантовывал ее заново, но цвет этот сохранял. Сегал выбирает для картины место – в самом центре, для чего требует снять оттуда мой портрет кисти Кирино де Силвы, производит с помощью своего спутника сложные замеры и собственноручно вгоняет в стену костыль – и от присутствия раскинувшейся в гамаке девицы комната моя становится светлее и просторней. Художник отступает, приближается, всматривается в свое произведение, поправляет, чтоб ровно висела, снова отходит на несколько шагов.
– Поздравляю, дружище, у тебя есть вкус. Ты выбрал лучшую. От сердца отрываю.
…Время от времени он появлялся у меня, и я всякий раз бывал польщен и тронут такой честью: «Благодарю, маэстро, что зашли ко мне…»
– Да не к тебе, – отвечал он. – Я к ней. Соскучился. Пришел навестить, – садился напротив и замирал в восхищении.
Москва, 1954
Анна Зегерс звонит мне из гостиницы «Националь», что стоит неподалеку от Красной площади, в гостиницу «Метрополь», расположенную напротив Большого театра, – там остановились мы с Зелией, Пабло Неруда и Николас Гильен. Я только что приехала, взволнованно сообщает она, и мне надо немедленно с тобой увидеться, дело не терпит отлагательств. Анна, как и я, и многие другие со всех пяти континентов – гости Второго съезда советских писателей, его созыв – эпохальное событие для левой интеллигенции всего мира.
Но помимо этого, Анна должна принять участие в заседании Комитета по присуждению Международных Сталинских премий, членом коего является. А я, между прочим, лауреат этой самой премии, более высокой награды у меня до той поры не было, и меня благодаря ей принимают в СССР как «персону грата», как важную шишку. Вот насчет этой премии Анна и желает со мной говорить. Есть на нашей планете несколько человек, которые неизвестно почему свято верят в меня, считают меня значительным лицом, способным запросто решить любую проблему, в их глазах я всемогущ. В число их входит и Анна Зегерс.
А проблема, которой она так озабочена и по поводу которой ей требуется мой совет, оказывается весьма важной. Речь идет о Бертольте Брехте. Мы как-то ужинали с ним у Анны – они живут в одном доме в Восточном Берлине, если не ошибаюсь, он – на втором этаже, она – на четвертом. Анна дружит с его женой, Еленой Вайль,[52]52
[lii] Речь идет о Елене Вайгель (1900–1971), ведущей актрисе театра «Берлинер ансамбль».
[Закрыть] они с ней вместе заседают в Комитете по присуждению Сталинских премий. С самим же Брехтом я познакомился ближе, когда режиссер Альберто Кавальканти снимал в Вене фильм по его пьесе «Господин Пунтила и его слуга Матти», и, кажется, я внес свой вклад в то, чтобы драматург и режиссер лучше понимали друг друга.
Вышло так, что руководители германской компартии – не помню, как она называлась: социалистическая или единая, суть дела от этого не меняется, чья твердолобая, сектантская ортодоксальность превзошла все мыслимые ожидания, стали поглядывать на Брехта косо – недоверчиво и неприязненно. Не беря в расчет то, что всю жизнь свою он посвятил торжеству идей социализма, этого удивительного писателя принялись обвинять в формализме, ибо творчество его никогда не укладывалось в прокрустово ложе ждановских понятий о соцреализме. И для начала порешили они, как шепнула мне Анна, лишить Брехта его театра, который оставили ему русские, когда покинули Берлин. В этом театре Брехт и его труппа ставили спектакли, прогремевшие на весь мир.
Анна Зегерс не могла оставить друга в беде – она тут же вступила в борьбу и сплела заговор. Они сделают его жизнь невыносимой, шепчет она мне, отравят ему существование, они затравят его, ты сам знаешь, какие они мастера на это. Есть только один-единственный способ положить этому конец, гарантировать ему спокойную жизнь, возможность работать, писать, ставить спектакли. Что же это за способ? Надо выхлопотать ему Сталинскую премию – если он станет лауреатом, никто не осмелится тронуть его и «Берлинер ансамбль», понимаешь? Ты должен мне помочь, Жоржи! Жюри соберется через четыре дня!
Времени в обрез, начинаются гонка и спешка. Загибаем пальцы, считая сторонников и союзников, тех, кто проголосует за Брехта: Неруда – раз, сама Анна – два, Эренбург – три, Арагон – под вопросом… Но тут Илья резко обрывает наши выкладки:
– Все это чепуха! Не тратьте время впустую. Нужно заручиться поддержкой Саши, – имеется в виду Фадеев, представляющий в Комитете по присуждению силу грозную и необоримую, ЦК КПСС. – Как он скажет, так и будет, наперекор его воле никто не пойдет. Надо лишь, чтобы он согласился помочь.
Он снимает трубку, набирает номер, договаривается о встрече и советует Анне: «Возьми с собой Жоржи, Саша его любит». Это правда: Фадеев относился ко мне тепло и уважительно, считал правильным товарищем, который не подведет и заслуживает доверия. И вот мы с Анной отправляемся к генеральному секретарю Союза советских писателей, чтобы уловить его в тенета нашей интриги.
Все оказалось проще, чем мы думали. Выслушав нас, автор «Молодой гвардии» без малейших колебаний обещает нам свою поддержку. Он включит Брехта в список «выдвинутых на соискание» и со своими рекомендациями подаст на рассмотрение политбюро – последнее слово за ним. Неужели это правда? Не знаю, трудно было сказать, где правда, а где игра интересов. Так или иначе, Брехт стал лауреатом, и партийные бонзы ГДР оставили его в покое, отвязались от него, перестали докучать. «Докучать»? Пожалуй, это не совсем то слово – оно далеко-далеко не исчерпывает унижения, которым бы его подвергли, хулу и брань, которые бы на него обрушились.
Баия, 1970
В газетах напечатан проект введения предварительной цензуры на книги – плод раздумий и трудов профессора Алфредо Бузайды, министра юстиции в нынешнем правительстве. Мы переживаем самые черные дни: в стране установлена военная диктатура, пытки – хлеб насущный этого режима, кольцо вокруг демократов стягивается все туже, тюрьмы переполнены, идут повальные аресты, облавы, людей убивают без суда и следствия. Каждый день появляются новые декреты, указы и законы, от гражданских прав не осталось уже ничего. Сегодня опубликован новый законопроект – вводится предварительная цензура художественной литературы: рукопись обязательно должна быть направлена в соответствующее ведомство, а уж оно разрешит печатать полностью, либо с купюрами, либо вообще не разрешит.
Я звоню Эрико Вериссимо в Порто-Алегре:
– Читал?
– Читал. Какой ужас! Надо что-то делать!
– Я с тем тебе и звоню. Мы с тобой – самые популярные в Бразилии писатели, у нас огромная аудитория. Пришло время показать, что у нас тоже есть власть – власть над умами и душами.
И мы с Эрико сочиняем и подписываем заявление, где сказано, что никогда, ни при каких обстоятельствах не согласимся на предварительную цензуру наших сочинений, даже если из-за этого и придется отказаться от издания книг в Бразилии. Тут же, по телефону, редактируем это заявление, придавая ему стиль максимально энергический и категорический. Придумываем, как бы исхитриться и опубликовать эту декларацию. Решаем, что – Эрико в Порто-Алегре, я в Баии – разошлем ее во все местные газеты и в отделения газет Рио и Сан-Пауло. Кто-нибудь да рискнет. И быть по сему.
Затем я отправляюсь к Жоржи Кальмону, главному редактору «Тарде». Ознакомившись с нашим заявлением, он обещает сделать все, что будет в его силах. Заручившись его поддержкой, продолжаю обход всех баиянских газет и корпунктов. И вот итог – заявление Амаду и Вериссимо появляется чуть ли не во всех утренних газетах Рио, Сан-Пауло, Порто-Алегре, Баии. И на редакции обрушивается шквал телеграмм, звонков, писем: писатели выражают нам солидарность, а первым, если память мне не изменяет, поддерживает наше «благородное начинание» поэт Ледо Иво. Все больше подписей, все громче негодование, и наш протест становится чем-то вроде общенациональной кампании.
Министр печатает ответ, полный экивоков и недомолвок, обещает пересмотреть свой проект. В конце концов его положили под сукно. Власти, получив такой дружный отпор, решили не связываться с писателями, не вводить предварительную цензуру. Оказывается, читательская любовь, читательская аудитория – не столь уж эфемерны. Кое-чего стоят они, раз даже «гориллы» вынуждены с этим считаться.
Париж, 1991
С утра пораньше звонит мне Жозе Гильерме Меркиор. Это одно из парижских удовольствий – потрепаться обо всем на свете с Зе. Дело в том, что он необыкновенно сведущ в бесчисленном множестве вопросов, где я полнейший профан, и подобный контраст придает нашим беседам особую пикантность, тем более что он никогда не высмеивает мое невежество, не разговаривает со мной с высоты своей образованности, не тычет мне в нос свою ученость.
Наша дружба знавала трудные времена, ибо некогда Зе Гильерме раздраконил, уж не помню точно, какой именно из моих романов или все разом и чохом. Газетные вырезки, содержавшие суровую критику мне, разумеется, прислали: свет, говорят, не без добрых людей, для которых нет удовольствия выше и наслаждения слаще, чем доставить ближнему какую-нибудь гадость, соболезнуя на словах и ликуя в душе, и как же упустить возможность сообщить собрату, что его обругали в печати, и прислать ему бранную статью о его творчестве – на лестную рецензию никто из этих доброхотов не станет тратить ни времени, ни почтовой марки. Я, однако, не принадлежу к тем, для кого человек, без восторга относящийся к моему творчеству, немедленно переходит в разряд злейших врагов, и потому продолжал читать юного эрудита и даже восхищаться им.
Но мы отвлеклись. Зе Гильерме живо и язвительно повествует мне, как недавно побывал на бракосочетании двух отпрысков старинных французских родов. Свадьбу играли в средневековом замке, и присутствовали там сплошь миллионеры да высшая аристократия. Рассказ уморительно смешной, но позвонил мне злоязычный Зе не затем, чтобы высмеять нравы, нет, его соседом по столу оказался Морис Дрюон, и вот от него он узнал, что…
Но прежде чем он успевает поведать мне, что же он узнал, я перебиваю его и начинаю говорить о Дрюоне. Не всем известно, что бывает не только любовь, но и дружба с первого взгляда – именно так подружились мы с французским романистом, и сразу показалось нам обоим, что мы знакомы с пеленок и что очень много общего у члена Французской академии и бедного полуграмотного баиянского сочинителя. Я ценю его виртуозный слог, восхищаюсь отточенным стилем, но милее всех иных регалий – его широкая популярность. Его любят, его читают – есть ли награда выше?!
Зе Гильерме, как природный дипломат, не перебивает меня, терпеливо дает высказаться до конца, а когда у меня истощается запас восторженных эпитетов, сообщает, что и Дрюон лестно отзывался обо мне и от него-то он узнал то, что мне, должно быть, давно известно… Да о чем речь, Зе? Как о чем? О премии, Жоржи! И, убедившись, что я и в самом деле ничего не знаю, сетует, что выболтал тайну, переводит разговор на другую тему, благо тем этих ему не занимать. Нахохотавшись вдосталь, я прощаюсь – ничего нет лучше с утра, чем поболтать с Зе Гильерме: заряжает бодростью на целый день. О вскользь упомянутой премии я забыл.
Но дня через три-четыре на коктейле в издательстве «Галлимар» Жан д’Ормессон,[53]53
[liii] Жан д’Ормессон (р. 1925) – французский журналист и писатель, член Французской академии.
[Закрыть] еще один мой друг, еще один владетельный герцог французской словесности, человек, чьим творчеством я восхищаюсь – и не со вчерашнего дня, поздравляет меня с только что присужденной мне премией Чино дель Дука. Д’Ормессон был членом жюри, возглавляемого Дрюоном, и отдал свой голос за меня. Зе радостно тормошит меня – об этой самой премии он и проговорился накануне по телефону.
…На вручении диплома и чека в конверте он тоже присутствовал – сидел в первом ряду, бессильно подперев голову рукой, неузнаваемо изменившийся, исхудалый, бледный, с запавшими глазами, изглоданный страшной болезнью. Я видел его тогда в последний раз. Смертельно больной, обреченный, он все равно пришел поздравить и обнять собрата по перу. Из всего того, что происходило на этом торжестве, ничто не растрогало меня сильнее, чем появление Зе Гильерме, – жить ему оставалось тогда меньше месяца. Какая жестокая несправедливость судьбы: он ушел в полном расцвете сил, в пору наивысшей своей творческой зрелости…