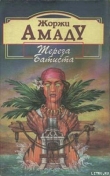Текст книги "Каботажное плаванье
Наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
Сан-Пауло, 1988
Зелия отправилась проведать Луиса Карлоса, своего сына от первого брака, а ко мне в отель пришел мой брат Жоэлсон. За обедом он сообщает, что берет уроки рисования.
– Рисования? – с улыбкой и уже ничему не удивляясь, переспрашиваю я.
– Да. И делаю успехи, – вполне серьезно отвечает он.
Доктор Жоэлсон, средний брат, лучший из троих сыновей, которых произвели на свет дона Эулалия и полковник[34]34
[xxxiv] В Бразилии крупным помещикам формально присваивался чин полковника национальной гвардии.
[Закрыть] Жоан Амаду де Фариа. Многие годы он заведовал отделением нейропедиатрии в госпитале штата Сан-Пауло, вел обширную частную практику, лечил от колик и насморка детей и внуков миллионеров и знаменитостей. Все члены регионального комитета компартии приводили к нему своих отпрысков – с единомышленников он денег не брал. Клиника его занимала целый этаж в медицинском комплексе, выстроенном в центре города.
В ту пору у него положительно не было свободной минутки, ибо он должен был не только руководить клиникой и практиковать, но и вести светскую жизнь – бывать на приемах, на коктейлях и званых вечерах. В семь утра Жоэлсон уже приезжал на работу, обедал на бегу, а у тарелки, отбивая аппетит, лежал пейджер. Он недосыпал, и ему ни на что не хватало времени – ни на прогулки, ни на путешествия, ни на развлечения, ни тем более на блаженную и плодотворную праздность. Жизнь его смело уподоблю бегу белки в колесе. Затурканный и загнанный, смертельно усталый, он становился все более замкнутым, все сильнее погружался в себя, все реже улыбался, все чаще раздражался по пустякам. Я стал о нем тревожиться.
Не было бы счастья, да несчастье помогло: начались у него серьезные неполадки с глазами, грозила слепота, пришлось бросить клинику и лечь на операцию. Светило нашей офтальмологии доктор Хилтон Роша спас ему остатки зрения. Так что Жоэлсон поневоле оказался не у дел, появился у него досуг – и тогда он принялся лихорадочно наверстывать упущенное, начал, одним словом, жить. Появилось, как по волшебству, множество новых и самых разнообразных увлечений и интересов, о которых он прежде и не подозревал. Брат мой преобразился неузнаваемо. Веселый, словоохотливый, душа нараспашку – экстраверт, по-ученому говоря, счастливейший из смертных.
Он играет в любительских спектаклях, танцует танго, декламирует стихи, занимается гимнастикой и плаваньем, а теперь еще, словно мало всего вышеперечисленного, вздумал брать уроки рисования. Он колесит по свету, разгуливает по улицам, всегда окружен сыновьями, невестками и внуками, племянниками и крестниками, готов принять участие в любых увеселениях и забавах или же дать добрый и дельный совет каждому из своей многочисленной родни.
Жамес, самый младший из троих братьев Амаду, как-то раз увидел Жоэлсона в любительском спектакле – уж не помню, поднос ли он там выносил или стучал алебардой, – и игра произвела на него сильное впечатление, которое он облек в несколько загадочную словесную форму:
– Умереть не встать!
Я не спортсмен, никаких рекордов за мной не числится, никаких решительно. Впрочем, вру. Один все же есть, и я его вам предъявляю. Я пересек всю Бразилию из конца в конец, будучи политзаключенным. Может, и не я один, но все же в этом чемпионате я принимал участие.
В самом начале 1937 года, накануне переворота, провозгласившего страну «Новым государством»,[35]35
[xxxv] В 1937 г. бразильский диктатор Ж. Д. Варгас провозгласил Бразилию «Новым государством». Это стало официальным названием страны до 1945 г.
[Закрыть] меня арестовали в Манаусе по обвинению в том, что, вступив в преступный сговор с фольклористом Нунесом Перейрой, я готовил вооруженный мятеж амазонских индейцев, – ни больше ни меньше. Отсидел два месяца за решеткой, и меня отправили на корабль «Педро Первый» и отдали под присмотр шпика, приехавшего под Новый год навестить родню. Дней этак через двадцать я вновь ступил на твердую землю – высадился в порту Рио-де-Жанейро, проплыв таким образом вдоль всего бразильского побережья. В Белене полиция устроила пьянку, а меня, чтоб не мешался, заперла в трюме. На прочих стоянках я пользовался относительной – в пределах корабля – свободой. В Рио меня отвезли в полицию, и ночью я вышел на свободу.
А вернувшись в августе 1942 года из Уругвая, обосновался в Порто-Алегре и каждый вечер приходил в редакцию газетки «Коррейо ду пово» читать последние телеграммы с театров военных действий и болтать о всякой всячине с журналистом Раулем Риффом. Мы как раз ужинали с ним в ресторанчике напротив, когда в полночь меня снова загребла полиция, продержала до утра в участке, а потом посадила в поезд, дав в попутчики инспектора. Путешествие из Порто-Алегре до Рио длилось четыре дня, там мы пересели в другой поезд, добрались до Сан-Пауло. В тамошней тюрьме провел я несколько месяцев, но выпустили меня очень вовремя – я как раз поспел к Рождеству на фазенду полковника Амаду и супруги его доны Эулалии.
Баия, 1967
В пять утра телефонный звонок срывает меня с кровати. Отец Жозе Луиса Пены, сокурсника моего сына Жоана Жоржи, сообщает, что наших сыновей и еще сотню студентов, устроивших манифестацию протеста, забрали в полицию. Это не первая отсидка Жоана Жоржи и, как покажет время, не последняя.
Я решаюсь разбудить Вильсона Линса, испытанного друга, человека, вхожего в очень высокие кабинеты. Звоню. Трубку снимает сам Вильсон:
– Я только что из полиции, буквально сию минуту вошел. Удалось освободить почти всех, больше ста человек. Осталось восемнадцать самых заядлых и буйных. Их допросят и отпустят. Твой Жоржи – в их числе. Я виделся с ним, он цел и невредим. Артур Сампайо тоже там.
Как же туда угораздило попасть сына Мирабо? Такой тихий, законопослушный мальчик – серьезный, положительный, прилежный, учится на факультете управления, чтобы стать менеджером самого высшего звена. И станет, можно не сомневаться. Он, как и все студенты, настроен к режиму оппозиционно, однако всего лишь из чувства солидарности с товарищами, насколько я знаю, в списках закоперщиков, которых так опасаются «гориллы», не значится. Как же он затесался к восемнадцати смутьянам?
«Из-за сестры», – объяснил мне Артур, когда вышел на волю. Оказывается, он заступился за нее и в свалке треснул полицейского. А Мария Сампайо остра на язык и решительна, полумер и компромиссов не признает, удержу не знает, настоящая юная Пасионария.
Это она несколько дней назад устроила беспримерную по размаху – я, по крайней мере, подобного не припомню – студенческую манифестацию в театре «Кастро Алвес» по поводу того, что жюри, в состав которого входили, среди прочих, и Доривал Каймми, и я, присудило что-то не тому, кому следовало. И совершенно неважно, что победили лучшие, важен был повод: молодежь тотчас взяла сторону проигравших и устроила громоподобный ор. Свистели, улюлюкали, а дирижировала этим кошачьим концертом она, Мария Сампайо.
«Предатели!» – вопили они.
– Да кого ж мы предали? – недоуменно вопрошал Каймми. – Мы дали приз самым достойным.
«Достойным!» Как будто в этом дело! Я так и вижу эту юную красотку – вскочив на сиденье своего кресла, она вопит: «Долой! Долой!» И кому же? Дяде Доривалу, дяде Жоржи, которых она знает с младенчества и искренне любит. Любовь не спасает от юношеской нетерпимости, от желания громить, крушить, ниспровергать.
Лет, наверно, двадцать кряду я не желал исполнять закон о всеобщей воинской обязанности. Признаю себя виновным в том, что уклонялся от этой повинности и не отзывался на призыв явиться на призыв. Не хотел я состоять в рядах наших вооруженных сил. Я – противник милитаризма, ненавижу все, от чего несет казармой и муштрой, на дух не переношу мундир и субординацию. Короче говоря, я – дезертир.
Когда собирались забрить в первый раз, Анизио Тейшейра, человек в Баии заметный и влиятельный, похлопотал за меня перед каким-то генералом, и я на год получил отсрочку от призыва. Минул год, но я на сборный пункт не явился, куда-то смылся и перешел тем самым в разряд уклоняющихся от действительной воинской службы. Лиха беда – начало, и следом за первым шагом сами собой сделались следующие, ибо пришлось жить без документов, удостоверяющих, что я свой долг перед отчизной исполнил. Чувствовал я себя не слишком-то уютно.
Когда в 1945 году я стал кандидатом в депутаты Федерального собрания, то не сумел приложить военный билет к списку предъявленных документов. Пообещал привезти через сутки, но, разумеется, не привез, ибо где мне было этот билет взять? Спасло мое избрание лишь наше легендарное бразильское разгильдяйство – никто в избирательных и мандатных комиссиях не хватился недостачи.
Потом начались преследования коммунистов, наши мандаты аннулировали, и партия решила послать меня в Европу – чтобы раструбить о том, как попирает режим права человека и парламентария, в грош не ставя депутатскую неприкосновенность. Легко сказать – послать и трубить! А как получить заграничный паспорт, если нет военного билета? Джокондо Диас счел, что для этого мне надо ехать на родину, в Баию, где воинским начальником был знаменитый генерал Лобо. Правда, это он теперь генерал, а в ту пору был полковником, и в бытность свою капитаном охранял и сторожил в Ресифе Грасилиано Рамоса,[36]36
[xxxvi] Грасилиано Рамос (1892–1953) – бразильский писатель; в 1936 г. за политическую деятельность был подвергнут тюремному заключению (его «Воспоминания о тюрьме» опубликованы посмертно, в 1953 г.).
[Закрыть] который и обессмертил его в своих «Воспоминаниях о тюрьме». Он хороший человек, сказал мне Диас, знающий жизнь и людей.
Когда я предстал перед хорошим человеком Лобо, тот расхохотался:
– Дело ваше я отправляю в архив, вам уже исполнилось тридцать пять лет, а потому вы и переходите в запас последней очереди. Все бумаги уже оформлены, только фотографии вашей не хватает, принесли?
Я принес. Он взял ее и протянул ординарцу, а мне сказал:
– Остались пустяки: сейчас выстроим людей, вызовем оркестр, вы принесете присягу у развернутого знамени, а я скажу речь. И все.
Так оно и было. Гром духового оркестра, взявшие «на караул» солдаты, склонившееся ко мне и осеняющее меня знамя, яростная антикоммунистическая речь Лобо и моя клятва в верности Бразилии. Потом я получил военный билет и из разряда «уклоняющихся» перешел в разряд «ограниченно годных».
Впрочем, милитаризм и военщину я по-прежнему терпеть не могу.
Баия, 1970
С наслаждением слушаю Стелу Марис – под этим именем поет блюзы Аделаида Тостес, которую мы когда-то выдали замуж за композитора Доривала Каймми. В окружении родственников и приживалок Стела в своем баиянском доме на Педра-де-Серейа увлеченно повествует о том, как кто-то из ее бесчисленных племянников – имя же им если не легион, то взвод, по крайней мере, – оказал внимание своей кузине, которой и пятнадцати еще не было, одарил ее благодатью, сорвал цветок осточертевшей ей невинности. Так звучит история в моем пересказе, а наша певица излагает ее красочным соленым классическим языком Грегорио де Матоса:[37]37
[xxxvii] Грегорио де Матос (1633–1696) – бразильский поэт, мастер бурлеска, автор многих «вольных» сатирических стихов, распространявшихся в списках.
[Закрыть]
– Засадил ей во все дырочки – спереди и сзади…
Гостящая у Каймми престарелая тетушка из провинциального захолустья Минас-Жерайс, которая овдовела уже лет двадцать как и с тех пор устремила помыслы к возвышенному, не пропускала ни одной мессы, не знает растленных нравов, бытующих в больших городах, и потому переспрашивает в сильном удивлении:
– То есть как – сзади? Да разве же туда – тоже…
– Тоже, тетушка, тоже, да еще как! Богомольная старушка содрогается всем телом:
– Царица небесная! Вчуже страшно!..
Баия, 1964
Поговорим о языковых тонкостях. Считается, что у нас в Бразилии, у меня в Баии говорят на том самом языке, что завезли когда-то в Америку португальцы. Что из этого вышло – сейчас узнаете.
…Моего друга Луиса Форжаза Тригейроса в Лиссабоне все дружно уверяли, что в Баии, куда он собирался, круглый год стоит изнурительная жара, а потому он велел своей Марии-Элене положить в чемодан только самую легкую, самую летнюю одежду. Так он и прибыл к нам – элегантно раздетый и совершенно не готовый к суровому тропическому лету.
Однако на город налетел циклон, уничтоживший сенегальский зной, и стало не то что прохладно, а просто холодно. Писатель начал замерзать. Стужа продолжалась. Что было делать? Утепляться. Луис навел справки и отправился на улицу Чили, где помещаются самые фешенебельные и дорогие магазины, торгующие одеждой. И вот внимание его привлекло то, что должно было согреть ему грудь, спасти от простуды, гриппа, пневмонии (Луис считал, что у него слабые легкие и он предрасположен к бронхитам). В витрине была выставлена некая вещь из чистой шерсти, подходящая по всем статьям – и цветом, и фасоном, вещь скромная и шикарная.
– Вот эту вишневую фуфаечку покажите, пожалуйста, – сказал он продавцу, улыбаясь с присущей ему доброжелательной деликатностью.
Продавец был не менее любезен.
– Сударь, – ответствовал он. – Здесь продаются, к сожалению, только товары для мужчин, но в магазине напротив, через дорогу, вы найдете огромный выбор самых разнообразных «фуфаечек» для дам любого возраста и внешности.
Луис, видя, что его не поняли, сделался более настойчив:
– Я просил фуфайку…
– Нету, не торгуем! – повысил голос продавец, решивший, что симпатичный иностранец несколько туг на ухо.
– То есть как это «не торгуем», если я только что видел в витрине вишневую фуфайку моего размера?!
Продавец растерялся: клиент мало того, что был глуховат, изъяснялся к тому же на каком-то непонятном языке: не по-испански, не по-французски и уж точно – не по-английски. Понимая, что попал в переплет, он засмеялся и почесал в затылке.
«А-а, он слабоумный», – сообразил Луис и, решив не тратить больше слов, мягко взял паренька за руку – с дурачками надо действовать решительно, но не грубо, – подвел его к витрине и, внутренне торжествуя, указал на выставленный там предмет.
В ответ раздался смех – не обидный, а снисходительный:
– Сударь. Примите к сведению, что вещь, которую вы желаете приобрести, называется по-португальски «джемпер цвета бордо». Что ж вы сразу не сказали? Отличный выбор, делает честь вашему вкусу – замечательный пуловер и поразительно дешево.
…Когда я вошел в номер Луиса, он как раз примерял вишневую фуфайку, или джемпер цвета бордо, и, слабо пока разбираясь в хитросплетениях бразильской действительности – это приходит с годами, – негодовал:
– Этот щенок произнес два слова английских, одно французское и еще внушал мне, будто говорит на настоящем португальском языке!
– На настоящем португальском языке, Луис, на том, который в ходу у нас в Бразилии.
Сегодня Луис Форжаз Тригейрос бодро и бойко лопочет на загадочном наречии: в городе полукровок и язык – метис, но создавая свою текучую и изысканную прозу, остается верен заветам великого Камоэнса.
Москва, 1954
Обед у Эренбургов. Лида, их домоправительница, – моя горячая поклонница: она из кожи вон вылезет, чтобы угодить своему любимому автору, и обед выйдет на славу. А хозяин дома в своем кабинете получает от редактора «Правды» партийные установки: надо написать серию статей на международные темы, лучше Ильи с этой задачей не справится никто. Ожидая, пока кончится накачка, мы попиваем вино из погребов доктора Геббельса.
Некоторое время назад Илье позвонил президент Академии наук, человек, причастный к высокой политике, и доверительно сообщил ему нечто сенсационное – новость из первых рук, привилегия очень и очень немногих… Ошеломительная информация…
– Берию приговорили к смерти? – спросил Илья: дело было как раз во время суда над бывшим главой советской тайной полиции.
– Да при чем тут Берия?! – взорвался академик. – Берия, Берия… Серьезнейшее дело, а ты с этой ерундой… Мне стало достоверно известно, что завтра утром в одном из центральных гастрономов будут продавать коллекционные вина из погребов Геббельса. И я советую тебе встать пораньше и приехать к открытию магазина – тогда, может быть, сумеешь набрать побольше.
Среди прочих трофеев, взятых Красной Армией после падения Берлина, оказалась и огромная коллекция самых редких, самых тонких и изысканных вин, награбленных немцами по всей Европе, и прежде всего во Франции. Десять лет хранились они неизвестно где, и теперь, перелитые в бутылки с лаконичной этикеткой «Вино», поступят в продажу по смехотворно низким ценам – дешевле, чем ординарные столовые вина из Молдавии и Грузии. Илья и Люба встали спозаранку, подняли «в ружье» Лиду, Лидину мать, шофера, двух секретарш, родителей означенных секретарш, дочь Ирину, зятя, короче говоря, объявили тотальную мобилизацию, и их сводный батальон, явившись к открытию, сумел захватить чуть больше восьмидесяти бутылок. Вскоре у дверей гастронома выросла огромная очередь: люди хватали и платили, не спрашивая, что хватают, за что платят, действуя по известной поговорке «дают – бери», и это было вполне в духе времени.
Дальше началась знаменитая «русская рулетка» – откупоривание и дегустация безымянных вин: мы пытались по вкусу и букету определить год и страну изготовления, тип и сорт, возраст, выдержку. Все оказалось самого высшего класса, истинным нектаром, появление коего в открытой продаже смело уподоблю событию, не уступающему в судьбоносном значении своем смерти Сталина, открытию ХХ съезда КПСС. Сами понимаете, что разоблачение Берии никак не вписывается в этот грандиозный ряд, оставаясь мелочью, эпизодом, внимания не заслуживающим… Итак, мы ждали хозяина, дегустировали и закусывали икрой, осетриной и загадочной рыбкой шпроты – кто еще не пробовал, пусть поспешит, очень рекомендую.
Но вот из кабинета появились Илья и редактор «Правды», которому тоже было предложено отведать геббельсовских изысков. Но он предпочел водку – опрокинул рюмку и распрощался. Эренбург взял бутылку красного, налил, попробовал, сообщил, что это бордо, и стал потягивать его маленькими глоточками, смакуя и рассказывая, на каких именно виноградниках созревали дивные ягоды, в каких подвалах выдерживался благородный напиток и сколько ему лет. Познания его в этой области легендарны. Пока накрывали на стол и подавали обед, он кое-что поведал и о недавнем госте.
В кабинете Эренбурга все стены увешаны рисунками и гравюрами французских мастеров – это собрание в своем роде не уступит коллекции Геббельса и оценивается в миллионы. А на письменном столе стоит офорт Пикассо «Жаба» с дарственной надписью. Увидев эту бесформенную, разъятую на части тварь, правдист, идеолог и адепт соцреализма, скривился от омерзения и побагровел:
– И это вот капиталисты считают искусством? Как вы можете, Илья Григорьевич, держать у себя в кабинете подобную формалистическую гниль и гадость? И как смеет этот штукарь Пикассо называть себя коммунистом?
Илья прервал обличительную речь:
– А вы знаете, как называется этот офорт и что на нем изображено?
– Не знаю и знать не хочу! Это…
– Это – американский империализм.
Идеолог, постепенно смягчаясь, снова уставился на жабу, покачал головой, и апоплексический его загривок вновь обрел нормальный цвет.
– Да? А я сразу и не понял, – самокритично заметил он. – Пикассо, кажется, член французской компартии? Правильный товарищ и большой талант.
Масейо, 1979
У дверей отеля, средь бела дня шесть человек на двух машинах похитили знаменитую итальянскую литературоведку, профессоршу Лючиану Стеганьо Пиккьо, возвращавшуюся с торжественного заседания местной Академии словесности.
Лючиана – крупная величина в итальянской культуре и едва ли не главный в мире специалист по литературам Португалии и Бразилии, автор монументальных монографий, каких не создали ни мои ученые земляки, ни лузитане, вдумчивый исследователь, влиятельный критик, блистательная эссеистка, наставница многих поколений бразиловедов и португалогов. Соперничать с нею могут лишь два человека, так же страстно преданные бразилистике – француженка Алиса Райяр и американец Томас Колчи. Мы перед Лючианой в неоплатном долгу.
Чтобы хоть как-то выразить ей нашу признательность, Мауро Сантайана, культур-атташе Бразильского посольства в Италии, предложил, чтобы Лючиану наградили орденом Южного Креста. Однако его боссы в МИДе – сам министр или кто-то из столоначальников, отвечающих «за культуру», – сочли, что это слишком, и надо дать другой орденок, поплоше. Мауро взбесился – признаем, что у него были для бешенства все основания – и попросил моего вмешательства. Мы рассказали об этом деле президенту Жозе Сарнею, и тот подписал указ о награждении Лючианы орденом Южного Креста, причем изъявил желание вручить его лично, в Париже, на торжествах по случаю 200-летия Великой французской революции. В итоге просвещенной римлянке достались обе награды – два ордена. Тем лучше.
…Простившись в дверях с президентом Академии словесности и его превосходительной супругой, которые проводили гостью до самого отеля, Лючиана услышала, как ее тихо окликнули. Она обернулась и увидела на противоположном тротуаре молодого человека, подававшего ей таинственные знаки. Наша ученая дама устала, ведь после заседания был еще и «коктейль», и нежный перезвон бокалов и стаканов разбудил тех почтенных господ, которые безмятежно дремали в креслах, покуда она с трибуны анализировала творчество их великого соотечественника Мурило Мендеса, читала его стихи по-португальски и по-итальянски. Прием затянулся, начались разговоры, Лючиана объясняла прелесть Квазимодо губернатору штата Алагоас, достоинства Монтале – его жене, а вести светскую беседу – дело утомительное, это тебе не лекции читать. Несмотря на усталость, она, как человек благовоспитанный, подошла на зов молодого человека, и тут из припаркованной рядом машины выскочили еще двое. Лючиану окружили и усадили в автомобиль. Неизвестные действовали негрубо, но решительно и стремительно, и, покуда первый юноша крепко сжимал ее запястье, пресекая любую попытку сопротивления, второй злодей предупредил: «Не кричите, не пытайтесь выскочить, это бесполезно – вы похищены». Машина с визгом сорвалась с места, вторая прикрывала похищение.
Лючиану прежде никогда еще не похищали. В молодости ее, правда, дважды насиловали, но это же совсем другое дело, между похищением и изнасилованием – огромная разница, необузданность страсти, по крайней мере, оставляет иногда приятные воспоминания. Теперь же она опасалась худшего: в Бразилии свирепствовала эпидемия похищений, всякие подонки-маргиналы крали людей и требовали выкуп. Но ей-то откуда взять деньги?! А вдруг это банда международных террористов, хотя Лючиана – не политик, не сенатор, зачем бы она им сдалась? И трое, сидевшие в машине, по виду террористов не напоминали. «А как должны выглядеть террористы?» – спросила себя профессор Пиккьо и ответа не нашла. Мальчики как мальчики. Хиппи? Сексуальные маньяки? Тем временем они были уже за городской чертой, и вот затормозили у особняком стоявшего шале. Главарь – он был старше остальных, лет примерно двадцати пяти, – тот самый, кто окликнул ее, а потом усадил в машину, теперь протянул руку и учтиво помог выйти.
Дом оказался комфортабельным и уютным, в столовой был сервирован ужин в алагоанском стиле: лангусты с пятью видами приправ, крабы-суруру, омары и прочие дары моря, прохладительное из плодов питанги, кажу и кажа, сок кокоса. Было и виски. Шестеро злоумышленников представились своей жертве, не называя, впрочем, ни имен, ни чинов, просто, но гордо сказали: «Мы – поэты». Перед Лючианой стояла вся верхушка Группы молодых поэтов Алагоаса, у двоих уже вышло по тоненькому сборничку стихов, остальные еще искали издателя. Главарь – тот, кто держал Лючиану за руку, – оказался главой группы.
Да, они и вправду были маргиналами, но маргиналами в литературе – противниками замшелого академизма, консервативной, устремленной в прошлое поэзии 50-х и 60-х. Шестеро юнцов представляли новую, новейшую литературную волну, а похитили они Лючиану, чтобы приобщить к своему братству, получить возможность говорить, спорить, дискутировать с нею: они превосходно знали ее творчество и восхищались им – и самой Лючианой, разумеется. Они мечтали прочесть ей свои стихи, послушать ее мнение о них, но, поскольку давно поклялись, что ноги их не будет в Академии, пришлось прибегнуть к такой вот мере. Они просят прощения за дерзость, но другого способа найти не смогли. Пусть синьора Лючиана извинит их за эту выходку, которую можно счесть поэтической вольностью.
Они провозгласили ее своей королевой, и ночь напролет, до зари Лючиана слушала стихи шести пылких и даровитых юношей. В чтении и разговорах время летело незаметно, и вот уже над озером стало подниматься солнце. Нет, не террористы, не сексуальные маньяки, не вымогатели, алчущие выкупа, всего лишь поэты, милые мальчики.
…Когда Лючиана гостила у меня в Прайя-до-Сал, она рассказала о своем алагоасском приключении, напомнившем ей те, что были когда-то в юности. Она назвала имена похитителей – они присылают мне свои рукописи, журнальные подборки и вышедшие книжки стихов. Я слежу за их творчеством. Группа распалась, верхушка сложила с себя полномочия, но для юных поэтов Алагоаса королевой поэзии, непререкаемым авторитетом и добрым гением осталась «синьора профессора» Лючиана Стеганьо Пиккьо.