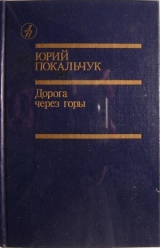
Текст книги "Дорога через горы"
Автор книги: Юрий Покальчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 42 страниц)
Малыш радостно закивал головенкой, вы уже нашли общий язык, ты тоже радовался этому знакомству, это же был настоящий цыган, хотя и маленький, и тебе было его почему-то жаль, хотелось сделать что-нибудь приятное, может, потому именно, что он ни капли тебя не боялся, что так доверчиво обнял тебя за шею, когда ты нес его к шатрам, что так радостно кивал головою, когда ты пообещал принести ему завтра значок, что махал ручкой тебе вслед, когда ты опустил его на землю возле самого шатра и когда старая цыганка сказала тебе «спасибо» и отвернулась, равнодушная к твоим любопытным взглядам, кидаемым внутрь шатра, и на нее, и на все вокруг. После уроков, забросив сумку домой, ты собрал несколько значков и побежал на луга к крепости, где стоял цыганский табор.
Но когда ты прибежал туда, где вчера еще стояли цыганские шатры, там было пусто. Лишь пепелища от костров, где кузнец ковал свои гвозди или подковы, да следы колес и конских копыт. Все. Они поехали. Ты так затосковал тогда, хотя малыш, едва умеющий разговаривать, конечно, не мог ввести тебя к цыганам, но какая-то надежда заглянуть внутрь цыганской сказки заискрилась, что-то в тебе зажгла, манила и сейчас будто таяла, медленно исчезая вдали, как возы цыганского табора... Сколько еще всякой «цыганщины» встречал ты в своей жизни – от «цыганской иголки» («Мама, а почему она цыганская, эта иголка?» – «Потому что большая, а почему называется «цыганская» – не знаю, наверное, цыгане такие делают».) до жгучих цыганских романсов, до «Цыганки Азы», до «В воскресенье рано зелье копала...», до Рахиры из «Земли». И до старухи Изергиль, что была когда-то молодой и пылко любила черногорского рыбака и бродягу-гуцула, и шестнадцатилетнего боснийского турка, сгоревшего на огне ее, «как не окрепшее еще деревце, которому слишком много перепало солнца». И до Алеко... «Цыгане шумною толпою по Бессарабии кочуют...» И дальше, дальше – до польской песенки «Разноцветные кибитки...».
Почему так широко воспеваются именно цыганские страсти, почему вызывают такое возбуждение, так привлекательны цыганские песни и танцы? В подвыпившей компании нынче редко когда обойдется без «Очей черных», хотя так же редко кто знает, что когда-то написал слова этого романса украинский поэт Евген Гребенка, ведь все привыкли, что это народная цыганская песня... Очи черные, очи страстные... как люблю я вас, как боюсь я вас... Это стоит рядом, всегда рядом – люблю и боюсь, соблазн и погибель...
И все же привлекали творцов всех времен и народов цыгане... И поныне. Прекрасная цыганка Эсмеральда в Париже, испанская цыганка Кармен, странствующий цыган-волшебник Мельхисдек в Макондо...
«Станцуй, цыганка, жизнь мою, – просил Блок. – ...Теперь с цыганкой я в раю», – звучало у него как признание в сладком грехопадении, в утрате невинности, ведь с цыганкой – значит, за бортом, за гранью, вне мира, в ином измерении, в ином... Влюбиться в кого-нибудь из цыган – это все равно что любить падшего ангела, грешного еще до рождения своего, все равно что любить Демона... Так чувствовали многие из тех, кто об этом писал. А ты, Максим, что ты на это скажешь?
Лев Толстой увлекался, но тоже издалека: «...это степь, это десятое столетье, это не свобода, это – воля...» Вот что такое цыгане...
Где-то у них и был родник той живой воды, которая всегда живила страсть Гарсиа Лорки, вдохновляла его, наполняла стихи любовью. И именно цыганские очи стали самыми верными ему при жизни – и до самой смерти, и позже...
И даже самовлюбленный наш современник тронул ту же струну: «Цыганкой, мною наигравшейся, оставит молодость меня...»
Они покинули тебя отдельно, Максим, – твоя молодость и твоя любовь. И когда ты проговаривался где-нибудь об этом, твой собеседник недоверчиво щурился, поводя плечами, или расспрашивал вроде бы с любопытством, в котором на самом деле звучала уверенность, что ты плетешь что-то такое, чего не было, а ты... ты уже не мог рассказывать, слова путались, да и вообще говорить складно ты не умел никогда... И со временем ты перестал и вспоминать об этом когда-нибудь... да и кому-нибудь... А говорить о себе ты никогда не любил. Ну, не так категорически, это уж не совсем правда, Максим. Ведь Виталий знает о тебе все уже с давних пор, а за последний год ты проговаривался уже кое о чем и Миколе, с которым подружился так внезапно, так сразу, да и в разговорах с Роберто, несмотря на его юный возраст, ты себя легко чувствовал. Тебя тянуло к ним. И в те радостные часы, когда вы собирались у Миколы компанией, ты ощущал себя уютно, как никогда. И работалось тебе лучше после таких разговоров, и дышалось вольнее.
Какой-то у этого Миколы в квартире особый климат. Он смеялся, когда Максим говорил ему об этом. Климат – это люди. И прежде всего я сам и мой племянник Роберто. У него учеба в университете, у меня работа в институте, и видимся-то мы редко, тем более что квартира у меня большая. Три года уже Роберто у меня живет. По-всякому бывало, но ладили мы всегда. А теперь он повзрослел, и стало совсем легко. А людей к себе я просто подбираю. Извини, конечно, на этом слове... Но это действительно так, Максим... Подбираю! И ни возраст, ни положение не играют главной роли, а то, как человек вписывается в этот «климат». Вот Роберто и своих друзей приводит, младше иногда и его самого, – кто вписывается, тот и остается. Хоть и не часто это случается. Виталия ведь тоже Роберто привел. Они стали приятелями после совместных киносъемок. Статистами были и подружились там. Виталий сразу вошел к нам, вроде всегда тут был. Прошло время – и Виталий привел тебя.
Ты и сам ощущаешь, что когда тебе тут легко, то и с тобой тоже легко. Так ты и вошел в нашу компанию... И кажется мне, что если подбираешь людей не случайно, не бездумно, а сознательно, то и связи эти могут сохраниться надолго... Надо же с кем-то жить, не с собою только, не в себе лишь...
Максим знал, что Нина, его жена, не впишется в этот микроклимат, о котором говорили они с Николаем. И все же не мог не попытаться. Привел ее, наперед готовый к неудаче, и так же болезненно наблюдал, как раздражали ее порывистые, немного неуклюжие жесты Роберто и его категорические сентенции, на которые Микола реагировал посмеиванием, а Виталий – четко и последовательно разбивая его доводы, как скептически обозрела развешанные по стенам вырезки, рисунки, заграничные сувениры... Все это напривозил Микола, кое-что – его родственники из Испании, а кое-что просто подарки друзей, знакомых со стилем жизни Николая. Нину ничто не устраивало, вернее, ее все раздражало. Хотя и старалась она быть сдержанно-любезной, не высказывала своих соображений и взглядов... Но они все ее видели, видели очень хорошо. Даже Оксана Петровна, и та девушка, пришедшая с Роберто, да и все парни, конечно. Никто никогда Максиму о ней ничего не сказал. Но больше с Ниной к Миколе Максим не заходил.
Последний этот год Максим все больше времени проводил не дома, а в мастерской и с радостью принимал иногда Миколину компанию, ощутив, что этот их «климат» немного спасает и его настроение, развеивает его тоску и тревогу, его меланхолию.
И тогда, Максим, ты постепенно стал открываться этим людям, ты увидал, что им действительно интересно то, что ты рассказываешь о себе, о своих переживаниях, о своем прошлом и своих планах. Им было интересно зачастую не столько само событие, о котором рассказывалось, сколько то, что за ним стояло. То, о чем ты даже и не мог рассказать, но о чем хотел рисовать и мог рисовать, и мог, и сможешь, и хватит...
Юность покинула тебя, как и всех, постепенно, незаметно, вроде вышла из хаты, когда ты заснул, а проснувшись, понял вдруг, что ее уже нет и никогда и не было. Сначала было немножко грустно, потом привык... Работа заменила в тебе очень многое.
Но это все было уже потом, это все уже потом.
Что же прочнее всего удержалось в твоей памяти, Максим? Первое или последнее? Соблазняющий блеск тех бездонных темных очей, волны густых темных волос или жаркий шепот, слова без смысла, напрасная попытка высказать невыразимое, а может быть, цокот каблучков на танцах, грациозный поворот головы, может, не совсем правильная, но уверенная игра на гитаре и пение, украшающее все вокруг, не такое уж прекрасное, но истинное, слитое с нею в единое целое, выражение сущности, естества именно этого человека, а может, глубокая, как ночь, усмешка, а может быть, может быть, может...
Может, потому, что была первая твоя женщина, твоя по-настоящему, по-настоящему любимая, по-настоящему... А что это, Собственно говоря, – по-настоящему?
Тебе было девятнадцать лет.
В начале сентября студенты четвертого курса поехали в колхоз на помощь в уборке урожая. Вы еще обменивались впечатлениями о летних каникулах, о каникулярных приключениях, все ощущали себя настоящими студентами – четвертый курс как-никак, последняя серьезная учеба, а там – дипломная работа, госэкзамены – и все. Вы были переполнены ощущением собственной силы, близкой перспективы грядущей полной взрослости, абсолютной независимости. Все это пьянило, разговоры в основном шли серьезным тоном о серьезных вещах, несколько ваших однокурсников летом женились, и это нет-нет да и становилось темой обсуждения также. Но теперь каждый не рвался похвалиться чем-то, рассказывали о себе не спеша, так, вроде бы между прочим, выбирая самое главное, чтобы поразить собеседника. Бориса Шахова, постоянного соседа Максима по комнате в общежитии и скамье в аудиториях с первых же дней учебы, старшего на пять лет, больше всего волновала проблема женитьбы, но Максим еще не слушал тогда его. Для него это было чистой воды теорией, потому что девушки, с которыми он гулял, если о чем-то таком и думали, то он этого не замечал, настроенность у него была иная, а к будущей своей женитьбе относился как к чему-то неизбежному, но такому отдаленному, что о нем пока и говорить всерьез нечего. То, что его однокурсники женятся, удивляло его и ставило перед фактом, которого он, собственно говоря, не хотел и замечать: что ему уже двадцатый, а вскоре будет итого больше, и этот вопрос однажды придется решать. Про это и говорил все время Шахов, пытаясь сделать Максима союзником, еще и в своих ухаживаниях. Максим обещал полную поддержку, но только без своего участия. Он подождет еще немного.
Борис Шахов, с большими черными усами и нависшей над самыми бровями шапкой темных перепутанных кудрей, производил экзотическое впечатление на тех, кто не знал его, и немножко комическое на тех, кто его знал, потому что называл он себя цыганом, так как цыганом вроде был его отец, погибший на фронте. Мать его по-цыгански говорить не умела, а Бориса влекло к этому с детства, и он научился сам. Кто-то сказал, что Шахов придумал себе цыганское происхождение, а на самом деле он обыкновенный русский с Волги, просто вжился в эту экзотику. Правды никто не знал, только сам факт, что Шахов, кроме того, что оказался способным графиком, знал еще цыганский язык, был общеизвестен. Максима сначала это очень заинтересовало, но позже, когда он обнаружил под суровой внешностью Шахова мягкую, но иногда очень даже практичную натуру, Максим взял на себя ведущую роль в этом товарищеском союзе, и так они и проучились вместе эти годы, и все привыкли к мысли, что они – друзья.
Наверное, не был Шахов настоящим цыганом, потому что при всей симпатии как-то не верил Максим в Борисовы россказни, но ему было интересно, и он не высказывал своих сомнений вслух, а относился к ним, как к обычному «заливанию» своих товарищей. Просто у каждого есть желание выпятить что-то свое. У Бориса это – обязательно цыганское происхождение. Ну и ладно.
Так сложилось с первого курса, позже все это стало привычным и вовсе не экзотичным. В то время Максима волновали совсем иные страсти. Но тут, в колхозе, на третий день их пребывания, как-то вечером Борис покинул ребят просто на дороге и чуть не побежал к высокому чернявому юноше, выходящему из сельской лавки. Тогда, едва ли не впервые, ты, Максим, убедился, что Борис говорит по-цыгански свободно. После этого Борис исчез на целый вечер и вернулся слегка подвыпивший довольно поздно, когда уже все спали. На следующий день рассказывал он мало, а под вечер снова собрался в соседний поселок. Там возле завода стеклянных изделий несколько лет тому назад осел цыганский табор.
Дружная горка – назывался этот поселок. Когда же и на третий вечер Борис собрался к своим цыганам, Максим не выдержал:
– И что ты там делаешь? Откалываешься совсем от нашей компании, Боря. К чему тебе эти цыгане? Ну, поговорил с ними раз, ну два, и хватит...
– Завтра танцы, Максим, а там девчата такие красивые! Ну и... хочешь, пойдем со мной?
– Как это я пойду, ты же умеешь по-цыгански, а я что? Что я там делать буду?
– Идем завтра! На танцы! Я тебя со всеми познакомлю. Вот увидишь, как там весело! Идет?
Такого еще не было, чтобы Максим отказался от чего-нибудь нового. Даже переполненный страхом и сомнениями, но еще не изведав чего-либо, «нет» не сказал бы никогда.
Танцы были, как и всякие танцы в сельском клубе. Вот там ты и познакомился с ними – с Лоркой, с его братом Генкой, с Колей Цыбульским, стройным шестнадцатилетним юношей с нежным, глубоким голосом. И с Тамарой, дочкой Пичуры.
Тебя так повлекло тогда на разговоры, на остроты и шутки, что Шахов потом ревниво сказал на обратной дороге: вот, мол, не хотел сначала, а потом как разошелся, слова не давал вставить...
Мог ли ты тогда, не стыдясь, признаться ему, Борису, что они вдруг все вместе приворожили тебя? Что все в этих смугловатых, обрамленных черными кудрями лицах нравилось тебе, что их отзывчивость к Шахову, которого они признали своим, перешла и на него, Максима, неожиданно отделяя, к большой его радости, от остального, – нецыганского – населения вместе со студентами, кое-кто из которых тоже пришел потанцевать. Максиму сразу же захотелось что-нибудь сказать, как и Борис, по-цыгански этим парням, чтобы никто другой их не понимал, быть с ними из одной группы, стать ихним, иметь право принадлежать к ним... Иметь право танцевать с их сестрой, не опасаясь их гнева, осуждения, а наоборот, развлекать ее, как свой... Как свой...
Время шло быстро, так быстро, что сегодня тебе кажется, что все длилось очень коротко, но это было очень долго тогда, почти целый год длилось твое «цыганское настроение», почти целый год вы с Шаховым ездили на Дружную горку, иногда срываясь прямо с лекций, внезапно переглянувшись на перерыве между парами: поехали к цыганам? Поехали...
Ты был тогда очень счастлив, Максим!
И не только тогда. Все, что произошло потом с тобою, что пролетало мимо в бешеном вихре времени, не оставалось, не останавливалось, никогда не возвращалось, – не было ему обратной дороги, а вот сейчас, сейчас, когда вошло в твою жизнь столько всего, что трудно даже охватить взором и разумом, вдруг несколько цыганских слов разбудили в тебе бурю, и всплыло со дна, из забытья, так любимое когда-то слово – Дружная горка, и черные как смола волосы на подушке, и глубокий, мелодичный тенор Коли Цыбульского, и хрипловатый Лоркин баритон:
В том краю, где желтая крапива и сухой плетень,
притаились к вербам сиротливо избы деревень...
Как он играл на гитаре! Они все играли на гитарах, но Лорка играл так, будто с нею и родился. У них был чудесный дуэт с Колей, лучшего ты тогда еще в своей жизни не слыхал. А может быть, просто никогда ничто не задело глубже твоего сердца, как вот это:
И тогда по ветряному свею, по тому ль песку,
поведут с веревкою на шее полюбить тоску...
Это казалось тогда тебе истинно цыганским, глубинно, органично принадлежащим только им, а когда ты узнал, что это слова Есенина, то даже ощутил разочарование, хотя они почти совпали во времени: твой «есенинский» период и твой «цыганский»... Ведь цыганское означало для тебя и глубинную грусть-тоску, и отчаянное веселье, и трагедию, и силу, и страсть – все вместе...
Максим пришел на «водопой», как он окрестил это монотонное ежедневное посещение бювета с минеральной водой, настолько загодя, что пить ее было еще рано, и он решил пройтись вверх от бювета той улочкой, куда перед обедом ушли цыгане... Он уверял себя, что просто прогуляется, что такое вот у него сегодня настроение «прогулочное». Но почему именно в эту сторону? А почему бы и нет, заодно и приглядеться, где они живут, если удастся...
Не хотел признаться даже себе самому, что только это и было основным и единственным импульсом для его. прогулки, что его тянуло уже сюда как магнитом, что шел он затем лишь, чтоб встретить их, чтобы убедиться.
В чем?
Ответить себе на этот вопрос он действительно не смог бы. Потому что не знал. Ощущал только зов, соблазн, потребность видеть их.
Даже приблизительно Максим не представлял себе, где же они могут жить, знал только направление. И поэтому он действительно просто гулял по улочкам, очертив свой маршрут так, что разминуться с ним по дороге к бювету было просто невозможно. Настроение у него было приподнятое и в голове – ни одной мысли.
Внимательный взгляд его еще издалека натолкнулся на невысокую фигурку в джинсовом костюмчике, показавшуюся вдруг из одного двора, которая потопала тихонько по направлению к бювету. Максим тут же развернулся и медленно, давая возможность нагнать себя, увидеть раньше, чем он, пошел тоже в направлении «водопоя»...
Тоненький голосок вскоре позвал его еще издалека. Василько приблизился, усмехаясь немного застенчиво. Усмешка его лучилась, и хотя красивым его назвать было нельзя, он был удивительно привлекательным, а усмешка его просто привораживала.
«Нарисовать бы его, – подумал Максим, – нужно обязательно сфотографировать и сделать как можно больше кадров. Я бы его так нарисовал...»
О чем они разговаривали? Ни о чем. О погоде, о фотоаппарате, которым Максим щелкнул пару раз, о том, что видели в кино, и о том, что идет в кино завтра, и о том, что делать вечером.
Оказалось, что у Максима дел вообще никаких нет и быть не может, что ему тут ужасно скучно и просто чудесно, что он хоть с кем-то познакомился наконец, теперь у него есть компания. Так проходило время. Василько набрал воды для мамы и сестры и понес назад домой. Максим проводил его, точно узнав теперь, где цыгане снимают комнату, что у них за хозяева, где их семья живет в Молдавии и какая у них семья...
– А ты женат? – вдруг спросил Василько.
Максим запнулся.
– Да, – ответил он.
– А почему ты без жены тут? – не успокаивался мальчуган.
– Она работает. Не могла со мной поехать, да и не нужно ей сюда. А я вот должен. Не повезло мне, как и тебе...
– А дети у тебя есть?
– Нет,
Больше об этом Василько не спрашивал, но Максиму было неприятно. Не так он хотел бы отвечать, не так хотел рассказать о себе. Со временем это вроде призабылось. Ну и прекрасно, думал Максим, расскажет сестре и матери, и они поймут, что никаких ухажерских намерений в отношении Дойны нет, а только дружеское, приятельское расположение к ним всем. Простое знакомство... Но эти мысли пришли потом, а сейчас Максим не мог никак отвязаться от какого-то неприятного ощущения и поэтому начал рассказывать о себе, о своей работе, не говоря ничего о выставках и премиях, а только о том, что делает обложки для книг, но в общем-то еще не выбился в настоящие художники...
Максим шатался по улицам городка со своим новым товарищем до самого вечера, пока Василько не заторопился домой, так как обещал матери к восьми быть к ужину. Они распрощались снова почти возле дома, где цыгане снимали комнату, причем Максим уже не таил ни от мальчика, ни от себя самого, что не просто пошел с ним, потому что им по дороге, а чтобы проводить его домой, и, уславливаясь на завтра о встрече, тоже не кривил душою, а просто сказал: давай утром встретимся на «водопое». Хотя он еще удивлялся самому себе, и этому знакомству, и этим, разговорам ни о чем, и этим блужданиям по случайным магазинчикам, разглядыванию встречных, осматриванию околиц, столовых, мастерских, приглядыванию к жизни, ее деталям, ее бытовой стороне, то есть к тому, что Максим давным-давно уже не видел, не замечал за бегом времени, другими заботами и делами, за работой, семьей, за…
Проходя по улицам, Василько обращал внимание на то, как кто одевается, как двигается вот эта толстая женщина, какие конфеты продают в «Гастрономе», а какие – в «Продтоварах», что идет в кино, какие концерты есть и будут, какие лекции и где... Он вдруг останавливался у расцветшего куста китайской розы и радостно подзывал Максима: посмотри, какие красивые цветы! Максим тут же сфотографировал его, потом попросил кого-то, чтобы их сфотографировали вместе. И осознание того, что вот уже остается что-то материальное, вещественное от этой минуты, что-то уже есть навсегда, скрепляло их знакомство, влекло его на ежедневные встречи с раннего утра и прогулки до позднего вечера, разговоры с их матерью о гаданье на картах, о заговорах, о жизни в таборе в давние времена. Так и сложилась эта неразлучная компания – ты и твои друзья, родственники, цыгане... Но были еще и разговоры с Дойной... А ты ведь уже привык, Максим, все анализировать, всегда препарировать даже малейшие нюансы своих переживаний, того, что с тобой происходит, что же ты думаешь? Не раз тебя даже обвиняли в излишнем рационализме. И особенно женщины, когда ты ставил работу выше своих настроений и страстей, выше всего, выше...
Максим поужинал, выпив в «Кулинарии» чашку питья, которое, по идее, должно было бы быть кофе с молоком, на самом деле было разве что воспоминанием о кофе, чистой формой без содержания, так как по цвету и вкусу напоминало скорее всего подслащенную овсяную жижу; Взял еще что-то к кофе, но ел машинально, внимание Максима было совсем в другом месте, где-то далеко-далеко. Нельзя было сказать, что он думал о чем-то конкретном. Сосредоточенность его была сейчас совсем нейтральной, ни на что не направленной, Максима просто заполнял покой, не было никакого напряжения; вдруг он понял, что наконец-то начал отдыхать, что нервный подъем, который так долго не покидал его, так долго, что он привык уже к нему как к норме, спадает.
Это еще только началось, но такого облегчения Максим не знал уже давно и потому удивленно допытывался сам у себя: что же все-таки произошло, почему так легко, будто что-то свалилось, какой-то тяжкий груз, давивший так долго.
Он не пошел сразу на свою квартиру, а решил пройтись еще немного глухими, похожими на сельские, улочками в районе своей временной квартиры. Он шел, вслушиваясь в себя, утопая все глубже в этом ощущении покоя, согласия с самим собой и миром, и понимал – это они, цыгане, вдруг сняли с него все напряжение и усталость, уже беспричинные, застаревшие... Это удивляло его и переполняло радостью. Вот почему так влекло его к этим разговорам без смысла и цели, вот почему шатался он по улицам днями напролет с мальчуганом и не ощущал ни утомления, ни скуки, ни равнодушия. Вот почему он договорился и на завтра о встрече, и облегчение его имеет в перспективе еще и завтрашний день, и еще долгие дни потом, вплоть до самого отъезда.
Время отъезда показалось ему вдруг очень-очень отдаленным, как в давние школьные времена, когда десятидневные каникулы кажутся длиннющими, а что уж говорить о летних – чуть ли не полжизни.
На следующий день они ходили втроем. Видно было, что Василько рассказал сестре об их совместных блужданиях по городу и кое-что о Максиме, и это ее заинтересовало, она приоделась, и выражение лица у нее было хотя и независимое, но изнутри как бы нацеленное на Максима...
Снова было кино, потом Василько побежал искать мать, и на какое-то время Максим с Дойной остались вдвоем.
– Так уже мне тут надоело, – призналась Дойна. – Я только ради мамы и Василька приехала, помогаю, варю им и вообще. Мама сама больная, ей за братом не досмотреть...
Максим знал уже, что Дойне девятнадцать, что она окончила школу, но нигде не работает, все с матерью – то по больницам, то дома...
– Мама не пускает меня тут никуда, все боится, что меня кто-то украдет. Местные цыгане или еще кто-нибудь.
– Ну, со мной-то не украдут, – сказал Максим.
– Так-то, конечно, не украдут, – согласилась Дойная – А ты сможешь меня защитить?
Нет, не о том они говорили, это были только слова. Разговор был длинный, потом еще не один. Но, как всегда, по сути не о том.
С первого же дня Максим решил бесповоротно: не вздумай только забивать себе баки этой девушкой, это не имеет будущего, ты цыган знаешь – вот и не морочь голову ни себе, ни ей. Приятельские отношения, не более. Твой друг – Василько, а это его сестра. И все.
Да ведут ли нас хоть иногда за собой наши истинные чувства, или, как правило, мы насилуем их, стараясь затолкать в определенное русло, отказываясь от себя, отбрасывая другого человека из-за условий выбора, продиктованных обычаями и законами, семьей, работой?
Разве выбираем мы по своему природному влечению, разве способны открыто и легко идти к тому человеку, к которому так манит нас инстинкт, подсознание, на первый взгляд пусть логически не мотивированное, но правдивое чувство? Разве, выбирая себе жену или мужа, не руководимся мы понятиями определенных общественных слоев и образовательных цензов, национального происхождения и возрастного соотношения, промеряем будущее до самой смерти?.. И отказываемся раз, и два, и Три, пока... А когда вдруг все сочетается, то тут-то и обнаруживаешь вдруг, что чего-то самого важного в браке и не хватало. Но уже так и идет, как сложилось изначально. И брачная жизнь становится неинтересным продолжением романтической истории любви...
Не все, конечно, не все. Есть сумасшедшие, бросающиеся с моста в воду, не спросясь броду, не прикидывают, не ищут, а идут прямиком к тому, кто... Наверное, именно такие браки, если они удачны, переживают все на свете и являются примером или идеалом. А если неудачны? Ну, тогда человек хоть знает, что получил то, чего так страстно добивался, так неотвратимо желал, прошел круг чувств, прожил все это сполна, пусть недолго, пусть без будущего...
Поэтому-то цыгане, при всем своем домострое, при категорической системе подчинения родителям, мужу, относительно легко по сравнению с другими народами соглашаются на развод, свободнее сходятся и расходятся. Ибо нет худшего несчастья для цыгана, чем неволя, чем закрытая дорога, чем мир без развития, чем жизнь без направления...
Поэтому Тамара в свои двадцать три была уже около пяти лет в разводе. Ее малышу шел шестой год, а она никак не хотела лишь бы замуж, как ни давили на нее родители.
– Хватит, – сказала она. – Пойду замуж, только если сердце кого-нибудь выберет. А если нет – и так жизнь проживу. Лишь бы как-нибудь – это уже было!
Тебя выбрало ее сердце, Максим. И ты это хорошо знаешь, ты пришелся ей по душе, ей и всем им, но ты сам не смог преодолеть внутренний барьер и шагнуть к ним, то расстояние от твоего будущего как художника до цыганского оседлого табора, до старше тебя на четыре года цыганки с ребенком... Это для тебя было слишком, и они это знали, они понимали это... Послушай, а почему они это понимали? Как могли они это понимать? Лорка был старше тебя – ему было двадцать пять, Генке – двадцать два. А родители? Дед Пичура от старости уже не все понимал, что происходит у него на глазах. А Настя, жена его, ох и добрая была у них мать, добрая и ласковая, она просто хотела добра своим детям, своей дочке, она не перечила их воле, их желаниям, – сама знала, что такое любовь, она хорошо это знала...
Да и кроме того Тамара была уже разведенная, а это означало, что в ее воле поступать как хочется. Выбрать себе самой, по сердцу. Она работала на заводике, сама зарабатывала какие-то деньги и жила у родителей, только комната у нее была своя и ход с другой стороны был проделан, еще когда она была замужем, и для ее мужа еще только собирались строить дом, и они жили здесь.
Сколько раз ты уже ночевал в этом доме, когда приезжал к ее братьям. И хоть бывали вы тут частенько, каждый ваш приезд с Шаховым был событием. Вас принимали как своих – гостей, но своих...
Как-то раз ты приехал, и не было никого в доме у Пичуры, только дед спал на печи. Ты пошел к Тамаре, она была дома. Оказалось, парни поехали в село на свадьбу, все поехали, и Коля тоже (Коля Цыбульский был их двоюродный брат и тоже твой друг), всех пригласили.
– А ты почему осталась?
– Предчувствие было: не нужно мне быть на этой свадьбе. Вот я и не поехала. Я так всегда. Чувствую, как мне следует поступать.
– А что ты чувствуешь?
– Что-то внутри меня говорит: не делай этого. Будь дома. И я не делаю. И вот сижу дома.
С полчаса они так разговаривали, и вдруг Максим почувствовал, что в воздухе зависает напряжение, что-то должно или может случиться, и сердце его забилось часто, тревожно и испуганно.
Он вдруг замолчал и глянул на Тамару, тоже молчавшую и вот уже несколько минут рассматривающую его лицо.
– Что ты? – спросил он дрогнувшим голосом.
Она не сказала ничего, только рукой провела по его волосам, потом по щеке, потом по шее, и уже вроде как в полусне, не осознавая еще; что он делает, что произойдет сейчас и что может статься потом, Максим тоже протянул к ней руку, полуобнял ее за шею, и она сразу же припала к нему, прижалась, обвила обеими руками, и губы ее отыскали Максимовы, и он уже не мог опомниться долго-долго.
Ночь выплеснулась бесконечной страстью, и только под самое утро Максим выскользнул из знакомого дома. Впервые за все это время он выбирался отсюда ни свет ни заря, все еще спали. Он шел пешком на станцию к электричке, первая шла на Ленинград в шесть. Было полшестого, он не торопился, наслаждаясь необыкновенной легкостью во всем теле, будто свалилась с него гора накопившихся разнообразных чувств, потребностей, жажды... Он шел, захваченный водоворотом противоречивых эмоции, в приподнятом настроении от сознания собственной мужской силы, своей причастности к таинству ложа, познания, определенности и крепости, своего нового, только что родившегося «я», он шел преобразованный, он уже был мужчиной... И в то же время подымался в нем страх перед тем, что будет дальше. Он боялся мести цыган, боялся неизвестности. Что будет дальше?
Она сказала: я приеду в Ленинград в воскресенье. Договорились, где встретятся.
Возвращаясь в город рано, Максим еще успевал на лекции. Так он и собирался сделать. Но сон одолел его, едва он коснулся сиденья в электричке, и проснуться Максим смог только на конечной остановке на Балтийском вокзале. Утомленное тело его сладостно погрузилось в спокойный сон...








