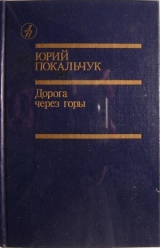
Текст книги "Дорога через горы"
Автор книги: Юрий Покальчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)
Плакал долго и глубоко. Наконец слезы его высохли, он поднял голову и, судорожно переведя дух, уперся взглядом в речку.
САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ДЕНЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Сочинение на вольную тему
Ну, моя жизнь дома проходила совсем неинтересно. Не знаю, может, я сам в этом виноват, а может, и нет, но всегда было скучно. Учился я в школе неважнецки, хотя учителя и говорили, что я способный (не мне, конечно, но я слышал), и относились ко мне в принципе хорошо. Особенно наша классная руководительница все со мной носилась. Часто приходила ко мне домой и вела со мной беседы на разные темы. Бывало, какое-то время школьные дела мои шли на лад, но потом что-нибудь обязательно происходило, и все начиналось сначала.
Я тогда очень часто пропускал уроки. Не знаю даже – почему. Иногда просто потому, что дома у меня были неприятности. Отец напьется и «выступает» – морали всем и замечания. Невозможно даже думать об уроках, когда он дома. С матерью ругается (тоже нельзя сказать, что ругается: он вопит, а она молчит или тихо ему что-то отвечает; а он еще пуще расходится) или на меня начинает нападать. Ты, мол, не ценишь, что тебе в школе дают учиться. Вот ты в башмаках ходишь, а я в лаптях ходил, когда таким, как ты, был, и уроки готовил на кухне при коптилке, на газетах писал, потому что тетрадок не было. А я однажды и говорю: вот и у меня как раз нет – дайте мне несколько рублей на общие тетради, ведь надо для физики, и для математики, и для химии, и вообще. А он тогда как разойдется: я эти деньги мозолями зарабатываю, спину гну, а вы из меня сосете. И на таких попишешь, вон возьми, я Татьяне купил на рубль. Я говорю: мне для первого класса не годятся, а он: я в лаптях ходил, а ты...
Ну, я и говорю: что же мне, лапти обуть, чтоб ты не попрекал. Потому что все равно в одном рванье хожу, вот штаны короткие уже, вырос, и протерлись и на коленях, и сзади, и пиджак – руки торчат, и башмаки порваны, всю зиму мерз. Он не дослушал – и за ремень, а я вон из хаты.
И пришел уже после двенадцати, когда все спали. Мы живем на втором этаже, и балкон есть, так я, когда поздно прихожу, всегда через балкон влезаю – по трубе, а там – шаг, и уже дома. Только зимой неудобно, потому что холодно, а когда тепло, так это проще простого. А они и не спрашивают, как я в дом забираюсь. Мать однажды спросила устало так, ругнула, да и умолкла.
Она всегда уставшая и больная. А отец еще и потому недоволен, что она не так одевается, как Симоненкова, нашего соседа жена. Не умеет она, и все, еще и печальная всегда. Так он ее еще больше ругает, если перед тем на Симоненкову посмотрит, я уже заметил. Страшно любит отец повыступать дома, а когда я сказал однажды, что половину денег пропивает, а в доме голодные сидят, так он меня чуть не убил, я тогда в подвале ночевал.
Так было и накануне. Я прослонялся целый вечер с ребятами, накурился, аж в голове помутилось. Давно хотел бросить курить, да все никак не удавалось. После такого вечера – не только закуришь! Потому что когда я выскочил тогда из дома, у меня аж слезы на глазах выступили.
Вот так однажды вечером дома снова была свара, и я ничего не выучил, и, как пить дать, по физике у Пульмана схватил бы двойку; потому что он грозился меня вызвать. Я еще с вечера собирался в школу не ходить. Собственно, я не знал точно, но где-то внутри чувствовал, что не пойду. Так и случилось. Утром я выдул стакан чаю, пока отец собирался на работу, выбежал во двор, оглянулся, не смотрит ли кто из соседей, потому что отцу сразу же донесут. Никого там не было. Я не завернул за угол, как обычно, когда иду в школу, а промчался через двор и нырнул в подвал.
Я тем всегда прятался, когда была нужда. Дом у нас здоровенный, и подвел у него большой – для каждой квартиры кладовка. Ну, большей частью в подвалах стоят банки со всякими соленьями и вареньями. Даже в нашем кое-что есть, но преимущественно там старое рванье и тому подобный хлам, да еще допотопный сломанный примус и Танькины санки. И все. Я оборудовал себе уютное местечко и всегда отсиживался в тяжелые времена. Иногда там собирались и мои ребята. Чаще других приходил Мишка. Не могу сказать, что это мой лучший друг, потому что чувствую, если у человека слегка подпорченное нутро. Мишка как раз неплохой парень. Бывают куда хуже. А ко мне он почему-то относится очень хорошо. Что ни скажу, он почти всегда соглашается. Одним словом – слушается. Ну, это меня, конечно, и удерживает возле него. Надо же с кем-то быть, а то загнешься от тоски.
Вот Вовка Полищук – славный парень, но очень уж правильный. Хороший он, знаю, и с ним я хотел бы дружить куда больше, только Вовка всегда выговаривает мне за мои художества. Хотя и помогает, если может. Но он со мной на все не пойдет. А я и сам знаю, когда вытворяю что-нибудь этакое, но ничего с собой поделать не могу. Просто иногда такая тоска нападет, что нарочно стараюсь сморозить какую-нибудь глупость. И сам знаю, что скверно, а делаю. И дружба с Полищуком у меня никак не выходит. Потому что как только я что-нибудь выкину, наперед знаю, как он к этому отнесется, но все равно откалываю снова и снова. А потом уж мне рядом с ним как-то не по себе и даже неприятно, ведь он-то не знает, что я творю безобразие, а я-то сам знаю, и знаю, что он не знает, и чувствую себя с ним так, будто его обманываю. И потому мне, бывает, хочется от него удрать, особенно от всяких разговоров. А у него временами из-за моих дел такой печальный вид. И мне тоже жаль, что так уж у меня получается, ничего не могу поделать.

В тот вечер Вовка опять меня упрекнул: «Ты же обещал бросить курить, уже бросал, а теперь снова». Я молчу и продолжаю курить. А что я ему скажу? Что мне досадно, что хочется что-то сделать, а делать нечего, бежать некуда, все равно вернусь домой. Ему хорошо: у него вон какие родители – дома все тихо и мирно, по-деловому. Мне у них очень нравилось. Пока я не увидел, что его мама смотрит на меня немного искоса – наверное, в школе ей наговорили про меня. С тех пор я стал у них меньше бывать. С Вовкой видимся и разговариваем больше на улице. А домой к нему я стараюсь не ходить. Подумаешь!
От того напоминания о куреве у меня совсем испортилось настроение, а Вовка бросил еще несколько слов, потом вздохнул и пошел домой – черчение делать. А я соврал ему, что уже сделал, и остался с Мишкой во дворе. Разводили и дальше всякие тары-бары.
Наш двор выходит железной оградой прямо на центральную улицу. Вот мы с ребятами у той ограды и собираемся. Рядом с калиткой скамейка стоит. Из сквера утащили. Сидим на скамейке или стоим у калитки и смотрим, кто по улице гуляет. Город у нас небольшой, можно увидеть много знакомых. Ну и разговоры соответственно: кто там, с кем, почему и всякое такое.
Мы с Мишкой в тот вечер разговорились: какая же все-таки тоска, и скорее бы вырасти, и закончить эту проклятую школу, и поехать куда-нибудь. Куда глаза глядят. Или даже пойти работать. Заработать денег, одеться, купить по «Яве», на худой случай по «Паннонии», и на мотоциклах махнуть куда-нибудь в Крым. И еще кого-нибудь прихватить с собой. Там посмотрим.
Мы долго чесали языки и так увлеклись, будто и впрямь что-то такое вот-вот случится, а тут Мишкина мама позвала его домой, и он ушел, а я еще постоял немного, постоял и побрел себе домой. У нас уже света в окнах не было – спали. И я влез через балкон.
Так вот, утром забежал я в подвал. И сам не знаю, когда решил точно, что в школу не пойду. Я поколебался даже, выбежав во двор. Такое стояло солнечное утро и было совсем тепло, хотя еще только начинался май.
Я подумал о школе, о Пульмане, о том, что снова полдня должен изводиться на уроках, мучиться до переменки, а потом все сначала. Я подумал, что мне все время приходится терпеть – и дома, и в школе, и товарищи не такие, и Катя на меня не смотрит, может, и смотрит, но не так, как мне хотелось бы. А в подвале я был вольным человеком.
Только там никто мне не угрожал, не учил меня, не читал нотаций, не упрекал, что я хожу в башмаках, а не в лаптях. Я оставил сумку в подвале и тихонько вышел в подъезд, чтобы проследить, когда родители уйдут на работу.
Ход в подвал был из соседнего подъезда, а не из нашего, и я стоял в том подъезде и ждал, пока появится отец, дымя папиросой и поправляя поудобнее шапку на голове, а через несколько минут выйдет мать и устало направится к остановке автобуса. Всегда, когда я вот так смотрел на нее, было очень ее жалко. Ей трудно-таки живется со всеми нами. Да еще отец с этой водкой. Я пить не стану, когда повзрослею. Мать исчезла за углом, и я был свободен. Но я не спешил. Мало ли что может случиться: вдруг кто-то возвратится – забыл что-нибудь и так далее. Но никто не вернулся, и я вышел из дома.
Было около половины девятого. Достал сигарету, покурил и начал думать, что же делать. Снова все было как всегда. Пока удираешь с уроков, прячешься – интересно и как будто даже что-то нужно, а вот как посидишь в одиночестве час – и уже жалеешь, что не пошел в школу. Но если уж не пошел, так не пошел. И я хоть и в этот раз тоже пожалел, но спешить на какой-то там урок не стал. Потому что не могу же я войти в класс на переменке. Все знают, что меня не было, и сразу заметят, и начнут смотреть да еще спрашивать. А я не могу, когда все сразу на меня смотрят. Особенно девочки. И это совсем не потому, что я маленького роста (я тогда в классе меньше всех был, это я тут чего-то прыгнул вверх), а только когда все на меня смотрят, у меня такое ощущение, будто я голый или что-то в этом духе. Потому я, бывало, опоздав вот так, уже не иду в школу совсем, потому что надо при всех заходить в класс, а я не могу, и точка. А на следующий день опять опоздаю. Тогда уж мне вообще неудобно идти, надо же как-то объяснить, почему не был. А что скажешь – болел? Два дня больной, и справки нет – сразу видно: вранье. Вот я и не иду целую неделю. Восьмой класс у меня вообще был чемпионским по части прогулов. Однажды я не ходил в школу целый месяц. Это еще в начале года. Тогда мне здорово попало – скандал был страшный, но обошлось, и хоть действительно не собирался больше пропускать, но снова пропускал, а там уж пошло.
Я выбрался из нашего дома и двинулся по городу. Солнце уже пригревало в полную силу, и мне пришло в голову искупаться в речке, но одному было неинтересно, и я направился в школу к Мишке. Его школа находилась в самом центре. Я пришел, подождал немного, пока начался перерыв, а тогда подлез под окно и окликнул: «Ми-ха...» Кто-то выглянул из окна – оно было открыто, и я сказал, чтоб позвали Мишку. Мишка высунул свою веснушчатую физиономию и сразу исчез, ничего не сказав, а еще через секунду снова появился в окне с портфелем: «Лови». Я поймал. Мишка опять исчез, и через несколько минут мы уже шли улицей вместе.
Добрались до нашего двора, занесли Мишкин портфель ко мне в подвал, посидели немного, и захотелось есть. «Давай, – говорю я, – врежем немного варенья». Мишка, конечно, согласился, и мы осторожно наклонили большую банку с вареньем и сделали по глотку, потом еще по одному. Уже не раз мы таскали из этой банки варенье, и когда-нибудь мне должно было за это попасть, но в тот момент я ни о чем таком не думал. Захотелось пить, мы выбрались на улицу, напились из крана, к которому дворники подключают шланг для поливки, и пошли со двора. Когда все в школе, сидеть во дворе опасно – кто-нибудь увидит, и готово, засыпались. Вот мы и убрались подобру-поздорову.
Я говорю Мишке: «Давай сходим на речку». – «Давай», – говорит Мишка, но без всякой охоты, и у меня сразу пропало желание его уговаривать и идти на речку, а он и говорит: «Пошли лучше в кино – у меня есть двадцать копеек». А у меня ничего нет. А по десять копеек нас никто не пустит. Мы все же пошли. Показывали какой-то индийский фильм, но нас не пустили вдвоем за двадцать копеек, как мы ни уговаривали тетку-билетершу.
Вымелись из кинотеатра, и стало тоскливо. Единственное, что было приятно, – солнце. И мы решили-таки идти на речку. Все равно делать нечего. Мы были за центральным гастрономом, как вдруг видим – стоит возле витрины гастронома пара велосипедов. Мишка говорит: «Покататься бы сейчас на ровере». Вот тогда у меня и возникла идея: «Давай, – говорю, – покатаемся, вот, стоят. Поездим, а потом бросим, и все. Ничего, найдут». – «Ой, – говорит Мишка, – а если поймают...» – «А как они поймают, – говорю, – тут же только два великана! Поехали, Мишка».
Словом, мы вскочили на велосипеды и рванули во всю мочь, нажимая на педали. В тот момент, когда мы садились на роверы, просто душа замирала от страха, даже не от страха, а от какой-то жути и напряжения. Мы проехали всего с десяток метров, как из гастронома выбежали люди и кто-то завопил: «Держи их! Роверы украли!»
Мы припустили во весь дух. Свернули за угол, потом на Шопена и погнали вниз. Оба ровера шли хорошо, и мы нажимали сколько было рил. Но на лету мы с Мишкой усмехнулись друг другу, потому что никто нас не догонял. И тогда у меня возникла еще одна идея. На проспекте, у входа в магазин обуви, стоял велосипед, и идея просто меня шибанула. «Стой», – говорю Мишке. Он удивленно посмотрел на меня, но остановился. Я соскочил со своего ровера, бросил его прямо на землю и схватил тот, что стоял под стеной. Тогда Мишка понял: «Ого, верно!» И мы рванули дальше проспектом к вокзалу.
Те, что гнались за нами сначала, давно отстали. Но человек, чей ровер я схватил у обувного магазина, выскочил и тоже побежал за нами, а потом вернулся, взлетел на брошенный мною ровер и помчался нам вслед. Это уже было хуже. Но мы находились достаточно далеко. Перепрыгнули через железнодорожную линию и двинулись на улицу Ровенскую. Когда мы снова пересекали центральную улицу, за нами уже гналось довольно много людей. Некоторые на роверах. Мы летели на всех парусах. И смеялись.
Нам было весело и хорошо, и я могу сказать, что как раз в эти минуты чувствовал себя просто счастливым. Даже не знаю, как это описать, но мне было хорошо как никогда, потому что все всегда было скукой и показухой, а в тот момент мы переживали настоящее приключение. Но так, конечно, я думал потом, а тогда мы гнали во всю мочь, потому что все-таки ощущалась опасность. Все закончилось бы очень скверно, если б нас поймали. Оно, правда, и так кончилось неважно, когда мы начали лазать по чужим подвалам за вареньями и соленьями и нас поймали за выламываньем замков. У Мишки более-менее обошлось, его отец какой-то начальник, а я попал сюда, в колонию. Но это было потом.
Я сейчас вспоминаю тот день как что-то самое яркое в своей жизни. Мы махнули к лесу, в низину. Там у нас луг огромный, в нем парк сделали отдыха, с асфальтовыми дорожками. Вот мы по этим дорожкам асфальтовым и рванули до самой воды. А там бросили роверы, разделись быстренько, привязали одежду к голове и поплыли на тот берег. Вода была еще холодная, но мы этого как будто не чувствовали. Так быстро все происходило – просто молнией. И шуровали мы с Мишкой вместе, даже не особенно разговаривая. Понимали друг друга с полуслова.
Мы уже вылезали на тот берег, когда наши преследователи появились у речки, но в воду никто не полез. Мы, конечно, не стали ждать, решатся они на купание или нет, и двинули дальше, полем, туда, где росли деревья и через несколько сот метров начиналось село.
Мы те роверы и не собирались красть. Просто покатались. У меня и не было никогда такого ровера. У Мишки есть лучше, гоночный. Но его отец спрятал, пока Мишка не станет учиться лучше. Я очень люблю ровер. И всегда мечтал его иметь. Но красть все равно бы не стал. Мне даже ездить на нем было бы противно.
А потом мы заглянули в село и пошли дальше, еще в одно село. Мы уже поняли, что за нами больше не гонятся. В том, другом селе речка изгибается рукавом и снова подходит близко к городу.
Мы разделись и улеглись на берегу. Загорали, потом искупались, перевезли свои вещи и снова загорали, и вспоминали все, каждую мелочь. И что кричал тот, у кого стянули ровер. И как продавец в халате выскочил из магазина и тоже побежал за нами, и кто что сказал, и кто что подумал, когда повернули, и когда проехали железнодорожную линию, и когда я поменял ровер. Мы хохотали, визжали, боролись. А потом лежали на солнце и дремали.
Вот такой, очень интересный был у меня день. Потому что дальше все вернулось к прежнему, стало тусклым и однообразным. Чуть-чуть повеселело, когда мы познакомились с компанией Березы, – те парни были старше, все знали и ничего не боялись. Только лучше бы мы с ними не заводили знакомства, потому что как раз с их помощью и попутались на тех дурацких подвалах, и попал я в колонию.
Теперь, конечно, я уже не тот, понимаю, что все, что тогда делал, было неправильно, и больше так не буду.
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Объявление появилось ранним воскресным утром, чтобы зрители были предупреждены и не разбежались, чего доброго, ко времени спектакля. Потом с каждым из них еще поговорили заранее, и не один раз, а после обеда, в предвечерье, уже были предложены билеты. Зойка очень волновалась и потому проявляла невиданную тщательность, стремясь соблюсти всю театральную церемонию. А поскольку церемония начиналась как раз с продажи билетов, то и на этом этапе все должно было выглядеть по-настоящему. Зойка предлагала билет, спрашивала, какой ряд желаете, в центре или сбоку, а уж тогда называла цену. Тут зрители терялись, потому что никто не представлял, как рассчитываться, но, в конце концов, каждый догадывался, что платить можно чём угодно, назвав это деньгами.
Дедушка спросил, можно ли мелочью, и отсыпал Зойке пригоршню семечек. Бабушка предложила медовый пряник, отец достал заграничную жвачку, мол, иностранная валюта, взамен денег, а мама растерялась, начала шарить в кошельке и вытащила настоящие деньги – копеек тридцать. Зойка собирала все это с очень важным видом и требовала такого же серьезного отношения к происходящему. Но до начала спектакля оставалось еще немало времени, и зрители, посидев в ожидании, постепенно о театре забыли. Каждый ушел в свои послеобеденные дела. Дедушка принялся за газеты, бабушка, как всегда, возилась на кухне, а папа с мамой сидели возле телевизора, на экране которого уже в надцатый раз демонстрировался какой-то фильм. Но, как всегда, телевизор – это была некая условность, что-то, где-то, около чего-то, а на самом деле они едва посматривали на экран, углубившись в разговор.
Прошло добрых полчаса, пока раскрасневшаяся Зойка не помчалась по квартире собирать зрителей в театр. Все, как один, зрители сказали, что придут сию же минуту, но каждый ждал остальных и не спеша завершал свои дела. Наконец в маленькую, уставленную стульями комнату, где Зойка устраивала театр, первой пришла бабушка, на ходу вытирая руки о фартук, и с облегчением присела передохнуть, но потом, увидев, как нервничает малышка, сама отправилась за зрителями. Когда у всех проверили билеты, выяснилось, что мама билет потеряла, и она принялась было покупать новый. Но ей сказали: если вы помните свое место, можете идти и так, мы вам поверим, смотрите только, больше билетов не теряйте. Мама пообещала, что больше не будет, и вот уже бабушка, папа и мама уселись в театре, перед ширмой из нескольких стульев, поставленных спинками к зрителям и завешенных зеленой скатертью. На верхнем краю этой импровизированной ширмы с одной стороны были прикреплены кричаще-яркие цветы из бумаги и пластмассовая ядовито-зеленая пальма – из тех, что изготовляются ширпотребом черноморских побережий «на память о море»; с другой же стороны стоял лес, вырезанный из цветных открыток, большей частью новогодних, и потому елки и прочие деревья оказались в снегу. Дедушка все еще разговаривал по телефону, потому что ему позвонили, и сейчас все зрители нетерпеливо ожидали, пока дедушка договорится, что же он должен завтра говорить на совещании в министерство.
Наконец, когда терпение зрителей окончательно лопнуло, а участники представления от обиды едва не плакали, появился дедушка, понятное дело – без билета, но в ответ на требование предъявить билет сразу же заявил, что хотел бы купить еще один, чтобы сидеть поудобнее, и снова предложил тыквенные семечки. Папа тоже протянул руку, но Зойка возмутилась и сказала, что в театре нельзя лузгать семечки, это невежливо по отношению к актерам.
Конечно, конечно, – удовлетворенно пробормотал дедушка, пряча семечки в карман, – она права. Сорить в театре не разрешается, а употреблять спиртные напитки тем более. А то что получается? Люди показывают вам зрелище, а вы что-то там грызете! Правильно, товарищ режиссер, лузгать в театре мы не станем!
Зойке это пришлось по душе и, хотя она с некоторым недоверием встретила дедушкины слова, прозвучали они успокаивающе и, сказав: «Минуточку!» – Зойка исчезла за ширмой. Зрители сидели довольно тихо. Прошла еще минута, и тогда дедушка предложил: «Может, похлопаем в ладоши, а то что-то начало затягиваться, а мне еще надо там кое-что сделать». Раздались аплодисменты.
Зойка реагировала весьма отрицательно. «Ну подождите же, – послышалось из-за ширмы, – я сейчас, подождите!» Голос у нее был раздраженный, даже чувствовался в нем сильный испуг.
Что-то она слишком волнуется, – сказал дедушка. – Спектакль – это хорошо, но зачем же так нервничать? Мы подождем, чего уж там!
Не знаю, как она будет в школе, – отозвалась бабушка вполголоса, как будто бы Зойка уже не могла расслышать, о чем она говорит. – Моментально возбуждается и очень медленно отходит. Мне и Алла Николаевна говорила, что в садике она приживалась поначалу нелегко, это потом, когда вошла в детскую среду, напряжение у нее спало. А то и хочется ко всем, и тут же смущается, и волнуется, да так, что не дай бог! А тут до школы всего полгода... Ты бы, Ганя, присмотрела за ребенком повнимательнее, все же мама, а то тебе все некогда да некогда...
Наконец Зойкина головка высунулась из-за ширмы. Зойка смотрела прямо в зрительный зал. Острый подбородок, большие светлые глаза, беспокойная гривка русых волос, обещающих быть густыми и красивыми, спадала на лоб, румянец заливал щеки, а губы, виделось, легонько дрожали от волнения.
– Внимание! – еще раз сказала Зойка. – Начинаем представление кукольного театра!
– А как называется? – спросил папа.
– Названия нет, – сказала Зойка.
– Ну, как же без названия? – заворчал дедушка. – Не годится. Мы сейчас придумаем название.
– Не надо, – сказала Зойка. – Это сказка!..
– А про что? – спросил папа.
– Ой, да оставь ты ребенка в покое! Ты просто невозможен! Сразу вцепился: а что, а зачем? Сказка про лес и диких зверей, ясно? – вмешалась мама.
– Да, – сказала Зойка, – сказка про лес и про зверей.
– Ясно, – сказал папа. – Я просто хотел внести ясность.
– Да помолчи ты, – сказала мама.
– В одном густом-густом зеленом лесу, далеко-далеко, жил-поживал зайчик, – звенел голосок Зойки, которая уже спряталась за ширмой.
– Это от автора, – сказал дедушка. – Вступление.
На сцене появился зайчик, гуттаперчевый, довольно большой, серо-розового цвета. Ростом он был почти вровень с заснеженным лесом, но ниже пальмы, и это спасало общую картину.
– ...Ходил он по лесу, и было ему очень грустно, потому что у него не было друзей...
– Это уже постановка проблемы, – сказал дедушка.
– «Ходыть гарбуз по городу, пытаеться свого роду»[21]21
«Ходит тыква по огороду, ищет свой род» – популярная украинская поговорка.
[Закрыть], – продекламировал папа.
– Тише, смотрите представление, – сказала бабушка. – Вот люди, не могут посидеть с ребенком и пяти минут.
Зайчик попрыгал по сцене, а потом начал шататься, что должно было означать тоску и одиночество.
– ...Сел зайчик один раз под елкой и плачет, очень ему грустно, что не с кем дружить...
– Проблема углубляется, – сказал дедушка.
– Одиночество бегуна на длинные дистанции, – сказал папа, – может, это про зайца?
– ...Как вдруг в лесу появился ежик!.. – продолжал дрожащий голосок за сценой.
На сцене в этот момент возник ежик тусклого зеленого цвета, вырезанный из картона, вдвое меньше зайца.
...Ходил себе ежик по лесу и вдруг видит, сидит зайчик и плачет. Спрашивает ежик: «Ты чего плачешь?» А зайчик говорит: «Потому что грустно мне, нет у меня никого, с кем бы я мог дружить». А ежик ему говорит: «Тогда давай с тобой дружить». – «Давай», – обрадовался зайчик.
Голос за сценой окреп, волнение еще чувствовалось, но было оно как у человека, который, вытянув билет на экзамене, заглянул в вопрос и понял, что худо-бедно, но ответить он сможет.
– Ну вот, проблема решена, знакомство состоялось, – комментировал дедушка.
– Знакомство, потом женитьба, – засмеялся папа.
– Не говори глупостей при ребенке! – возмутилась мама. – И не мешай, пожалуйста, мне интересно.
– А мне тоже интересно, – сказал папа, – и может, еще больше, чем тебе.
– ...«Вот хорошо, – обрадовался зайчик, – теперь я не буду один». – Голос за сценой снова задрожал. – И зайчик протянул ежику руку...
При этих словах зайчик на сцене наклонился к ежику.
– ...Но ежик сразу же свернулся в клубок и уколол зайца иголкой в руку. «Ой, ой, ой, – заплакал зайчик. – Ты плохой! Я хотел с тобой дружить, а ты вместо этого обидел меня и уколол. Снова нет у меня никого. Никого, никого, никого... с кем бы я мог дружить...»
Голос за сценой звенел, в комнате было абсолютно тихо, нотки неподдельной тоски в Зойкином голосе на какое-то мгновение преодолели добродушный скепсис взрослой аудитории, и вдруг всем стало просто-напросто жаль зайца, которого уколол ежик.
– ...Заплакал зайчик и побежал прочь, обидевшись на ежика. А ежик остался один, посмотрел вслед зайчику и тоже пошел по своим делам.
– Ну вот, завязывается конфликт, – удовлетворенно сказал дедушка, – жизнь продолжается...
– Всегда кто-то кого-то уколет, если тот с искренними чувствами, – сказал папа, – именно так и бывает. Раскроет человек душу, а его иголкой туда...
– Уж если раскроет, так надо как-то объяснить это, – сказала бабушка. – И не бросаться к первому встречному со словами любви. А женщина по природе своей доверчива, тянется к ласке, искренности, ну и получает в лучшем случае иголку...
– Ого, так это женщина получает? Я-то думал, это у нее иголки...
– У всех иголки, – сказала мама, – у каждого своя иголка, не надо прибедняться. А то тебя послушать, так ты как раз и есть несчастный зайчик, а всё вокруг против тебя с иголками... А может, ежик так сразу не мог открыться, просто характер, не легко ему раскрывать себя – вот и уколол ненарочно, а тут его сразу и бросили. Если бы чувства были настоящими, это стало бы понятно, да и подход нашелся.
– Тише, – сказал папа, – не отвлекайся так далеко, а то мы потеряем сюжетную нить! Уважай искусство!
– ...Снова зайчик остался один... – продолжал голосок за сценой; – и было ему еще грустнее, чем раньше, потому что не было у него никого, с кем бы он мог дружить. «Ну что мне делать? – думал зайчик. – Где найти себе друга?»
– Проблема, однако, остается, – сказал дедушка, – конфликт еще не достиг кульминации...
– ...Как вдруг идет лесом лисичка...
На сцене, где оставался одинокий заяц, появилась желто-горящая пластмассовая лиса величиной с зайца и тоже заметалась, демонстрируя свое одиночество и неприкаянность в лесу.
– ...Увидел зайчик лисичку и поскакал к ней. Скок-скок-скок...
– Сейчас она его слопает, – сказал папа. – Вот и весь конфликт...
– Так-так, – сказал дедушка, – ситуация становится напряженнее, конфликт назревает настоящий...
– Настоящий конфликт существует издавна. Человек одинок с момента своего рождения и напрасно пытается понять других, а романтические дураки еще и добиваются, чтобы их поняли, а в результате – их съедают...
– Ну что за пессимизм! – возмутилась бабушка. – Какое отношение эта философия имеет к детской забаве? Плоды просвещения! Лишь бы все шиворот-навыворот!
– Не съест она твоего зайца, – сказала мама, – хоть ты и несешь бог знает что... Лисица размерами почти такая, как заяц, а может, еще меньше, ну где ей такого съесть...
– Вот-вот, разве что не удастся, – буркнул папа.
– ...«Лисичка, лисичка, давай с тобой дружить, – сказал зайчик. – А то мне очень грустно и одиноко здесь, в лесу». – «Давай, – сказала лисичка, – я буду очень рада...»
– Хочет-таки съесть, – не успокаивался папа.
– Цыц! – воскликнула мама.
– ...Зайчик протянул лисичке лапку, а потом испугался и спросил: «А у тебя нет иголок?»
– О, жизненный опыт! Беда научит! Обжегся на молоке, а теперь дует на соляную кислоту, – комментировал папа.
– Пьеса приобретает эпические формы, – сказал дедушка. – Широкое полотно, масса характеров и ситуаций, просто романное повествование.
– ...«Нет, у меня нет иголок», – сказала лисичка...
– Ну так тебе кто-то и скажет, что у него против тебя иголки наготове. Держи карман шире! При первом знакомстве все прекрасны, – иронизировал папа.
– Вот-вот, при первом знакомстве все держат иголки в кармане... – бросила мама.
– А кое у кого и кукиш в кармане, – не унимался папа.
– В кармане лучше, – отозвалась бабушка.
– Иногда и в кармане видно, были бы глаза, – продолжал папа.
– Цыц, – опять мама, – ты мешаешь действию.
– ...«Я очень хочу с тобой дружить», – ответила лисичка. Зайчик протянул ей руку, и они вместе побежали по лесу, веселые и радостные...
– Часть первая, – заявил дедушка. – Может, это все?
– Нет, не все, – сказала Зойка, – подождите еще!
–Она уже почти не волновалась, голосок был спокойнее, только щечки пылали, когда она на мгновение появилась из-за ширмы.
– ...Вот так они жили-поживали и добро наживали, – продолжал голос за сценой...
– Я же говорил, что поженятся, – заявил папа.
– О боже! – сказала мама. – Ты все-таки невыносим!
– …Но как-то однажды идет лесом ежик, грустный-грустный. Идет и плачет, что он остался один, что был у него друг зайчик, который его покинул...
– А как же, все нормально. Женился и друзей бросил. Или друзья, или жена – это в первый период брака. О, как это всем знакомо. Это потом понемногу все раскрутится и муж станет бегать и собирать остатки дружных рядов...
– Если были настоящие друзья, такими и останутся, а если что-то такое, то и остатки нет смысла собирать... – сердито бросила мама.
– Вот, вот, именно так, – как будто согласился папа, – только в жизни все не черно-белое, а более многоцветное...
– ...И вот увидел ежик зайчика и лисичку, и стало ему грустно, и он заплакал, сел под деревом и заплакал...
Зойкин голос снова задрожал и замер, как тонкая струна, на жалобной ноте. И снова все замолчали.
– ...Подходят к нему лисичка и зайчик и спрашивают: «Чего же ты плачешь, ежик? Что с тобой?» А ежик отвечает: «Я плачу, потому что у меня никого нет и не с кем мне дружить. А можно, я с вами буду дружить?»








