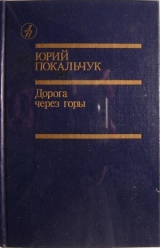
Текст книги "Дорога через горы"
Автор книги: Юрий Покальчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц)
Доживем ли мы до победы? И какими? Уже скоро, совсем скоро, уже чувствуется ее дыхание, уже советские войска освободили всю свою страну, бои идут в Польше, Чехословакии, Румынии, Югославии. Скоро конец фашизму. Вот-вот станет свободной Франция. Война закончится. Куда же мы дальше?
Что там, в далеком Луцке? Смогли ли мои родители пережить ужасы оккупации, живы ли они, мои старики? Подрастает Ганнуся. Восемь лет не был я дома, не видел их, давно не знаю, что с ними. Мысли мои достигали Луцка все реже, некогда было думать о нем, бессмысленно загадывать. И вот война на пороге победы, и я все чаще думаю об улочке Спокойной, о доме номер семь, где прошло мое, такое безоблачное, детство и откуда началась моя, такая бурная, юность. Сто лет с тех пор миновало, тысячу лет назад какой-то мальчишка окунулся в мир страстей, какой-то юноша увлекся революционными идеями и, считая себя чуть ли не горящим факелом, со всей юной безудержностью бросился навстречу мировым бурям... Где они теперь, этот мальчик, этот экспансивный юноша? Восемь лет прошло. И тот, кто сидит сейчас на приступке аккуратного домика в селении Эстиварее вечно прекрасной Франции, уже не имеет ничего общего с бывшим гимназистом Андрием Школой. Все изменилось, неизменна только память. Только память и вера, что тратил себя недаром.
Тебе уже захотелось домой, ты устал от дальних странствий, от других стран, наречий, людей. Ты рвешься домой, только домой. У тебя наконец обнаружилась дремавшая до поры до времени ностальгия, тебе начал сниться дурманящий аромат весеннего вишневого цвета в дедовой усадьбе, несокрушимый запах яблонь, ты видишь мамины пышные пионы перед домом, пытаешься представить вживе лица родителей, уже расплывающиеся в памяти, – возродить ощущение уюта, чего-то родного, самого родного на свете. Родни. Родного края.
Надо поговорить с Пако. Надо принять окончательное решение. Украина воссоединена, Волынь теперь там. Пако должен ехать со мной. Куда он денется один здесь, во Франции, да и зачем? А в Испании затаился фашизм. Франко не вступил в войну, потому что знал: проиграет. Чувствовал, палач, где надо остановиться. Теперь десятки тысяч эмигрантов, беженцев из Испании, остались без родины.
Нет, у Пако теперь одна родина – моя. Как решится с Испанией, когда у него будет возможность вернуться, и захочет ли он, не время об этом думать. А сейчас у нас один путь, одна цель. Надо поговорить с ним немедленно, может, это выведет его из оцепенения, оторвет от оружия, к которому он прикипел намертво. Мы будем воевать до конца, но надо воевать с открытыми глазами.
– Андрес, – сказал Пако, – с меня хватит. Я устал от всего этого. У меня нет больше сил. Я решил, поеду с тобой, ладно? Я имею в виду – туда, на Украину, я уже хочу думать о какой-нибудь жизни. Что мы будем делать после победы?
Он стоял перед Андрием, и усталость тяжелыми морщинами лежала на его лице. Юношеские черты с трудом проглядывали сквозь печать какого-то преждевременного старения. Жесткие складки у рта, заострившийся нос, тяжелые клочья давно не стриженных волос. Глаза его без всякого выражения смотрели на Андрия, но вот блеснуло в них что-то от прежнего Пако, что-то живое, улыбчивое.
– Поедем, – ответил Андрий, улыбнувшись в ответ на этот взгляд. – Поедем обязательно. Довоюем и поедем. Домой.
XIV
Разве ты думал об этом, возвращаясь из своих скитаний по стране? Разве не обсудили вы с Пако, что станете делать, как жить дальше? У него семья, сын пошел в школу, много забот... Вы мечтали когда-то об университете, иностранных языках. Все для вас – литература, переводы, бесконечный мир в жизни без войны. Твои стихи. Все эти годы ты берег, накапливая, эти обломки собственного творчества, оно было попыткой встать выше самого себя и обстоятельств.
Пако взорвался, когда ты вернулся из райкома и сказал, что пойдешь в село. Кричал, доказывал, размахивал руками. А ты молчал.
И он вдруг тоже умолк, а потом перешел на испанский.
– Я всегда был с тобой, – сказал он. – Наше переплелось еще тогда. Я сказал, что не брошу тебя никогда, и это правда, ты знаешь. Почему я рассердился? Очень уж неожиданно... Теперь объясним все толком. Ты ведь и сам не ждал от себя такого решения. Что ты знаешь о себе? Какой из тебя председатель колхоза?
А твоя уверенность в правильности предпринятого шага крепла с каждой минутой. Хватит дальних стран, хватит того, другого, пятого-десятого. Здесь основа, исток. И здесь наступит мой конец. Я сделаю все, что смогу, но здесь. Село наше совсем недавно вступило на новый путь. Думаю, это труднейший участок. Значит, все правильно. Как зерно, брошенное в свежую весеннюю борозду, я хочу прорасти именно здесь. Это нужно тем людям, из которых я вышел. Понимаешь, Пако?
А кто же еще понял бы?
Все начиналось заново. Может, это и привлекало тебя – начать все сначала. Не было же ничего. Только родители, Пако и Ганнуся, да их сын Андрий. Стояла дедова хата пустая. Там ты поселился. Вскоре приехали старики, а за ними Пако с Ганнусей. Обнаруживались давние знакомства. Начиналась новая жизнь.
Как ты набросился на работу! Как хватался за все, не спал ночами, учился, работал и думал. Тебе предстояло преодолеть недоверчивую пассивность села – это было самым трудным.
Человеческие лица. Да, ты знал, что за каждым целый мир, перед тобой масса миров со своей жизнью. Вот ты и стремился проникнуть в эти миры, убеждаясь снова и снова, что на свете много вещей, о которых только говорить легко... Поначалу тебе приходилось драться за каждый взгляд, в котором проснулась бы обыкновеннейшая человеческая симпатия, уважение. И, похоже, односельчане начали отдавать тебе должное.
Ты всматривался в лица людей, их ряд казался бесконечным, в селе, где вроде все на виду, все внешне просто и элементарно, на тебя обрушилась высшая математика порой скрытых от глаза человеческих взаимоотношений... И в какой-то момент тебе стало страшно и радостно. Ведь это ты отражался в глазах односельчан как в зеркале. Ты – это они. Каждый из нас – это еще и наше отражение в глазах других, каждое «я» складывается из представлений о нем окружающих, других «я».
И еще из представлений о себе самом.
Всегда должны быть хотя бы один глаза, в которых увидишь себя и поймешь, каков ты на самом деле. Они были – и они есть. Потому и есть ты. Глаза Марии-Терезы стали глазами Пако, и ты всегда знал: они видят тебя таким, какой ты в действительности.
Когда-то в госпитале анархист Рамирес дал Андрию книжку Хосе Ортеги-и-Гасета «Размышления об Испании». Философ. Читал Андрий и удивлялся, и находил противоречия, и восхищался, и мысленно возражал. Одна же мысль показалась мудрой и ясной: «Я – это «я» плюс мои обстоятельства». Наверное, каждое «я» зависит от реальных условий жизни, от окружения. И твоя, Андрий, жизнь, твое формирование – это и обстоятельства, и те, кто был рядом с тобой. И кто рядом с тобой сейчас.
Мария-Тереза... Она подарила тебе Пако, она навсегда определила течение твоей жизни.
Разве мы не превращаем любимого человека в экран собственного чувства? Разве, приняв за истину увиденное на этом экране, мы не теряем все больше способность реально и трезво судить о предмете? Или трезвое видение вещей в этом случае – неизбежные будничность и поражение?
Но ведь существует это, существует тот самый луч высшего познания, пронизывающий нас подобно взаимному рентгену душ? Быть рядом, видеть... Даже не обязательно видеть. Достаточно чувствовать всем, что есть в тебе, ощущать присутствие любимого человека. И знать о нем все благодаря этому ощущению. Долгий, нескончаемый диалог двух тел, нет, двух душ, нет, больше – двух людей. Просто двух людей, двух влюбленных, которые рассказывают друг другу все о себе и о мире, рассказывают молча, сидя на речном берегу, рассказывают, хотя разговор идет между тобой и ее братом.
Но ты словно слышишь, как говорит тебе в это время Мария-Тереза. Какие ласковые и могучие токи исходят от нее! Твое существо звенит в ответ натянутой струной, пронзительным, до боли сильным голосом, выше и выше, и вдруг мягко падает вниз плавный нежный аккорд. Это и есть любовь. Это и есть ее великая и извечная суть. Желать, знать, чувствовать, понимать. Сколько сходится смысла в этом последнем слове!
Что дано нам понять?
Кого ты понял, Андрий, за свою жизнь, за свой век? Кто понимал тебя? Кто действительно видел тебя? Перед кем ты не скрытничал, был самим собой и никогда не стремился быть кем-то еще, кто воспринимал тебя как чудо, как дар природы со всеми твоими способностями и неумелостью, силой и слабостями?
Уже потом, значительно позже, ты догадался, что в Марии-Терезе и ее брате привлекало тебя. Всей их семье, особенно детям, свойственно было удивительное изящество, может, даже величественность. Да, именно величественность – в осанке, в жестах, в языке, во всем поведении. Она вырастала из простоты и непосредственности, из естественности душевных движений и предельной искренности даже в далеких от праведности словах и поступках.
Такими, подумалось Андрию, бывают лишь дети простолюдинов, особенно в предместьях больших городов. Не лишенная своей привлекательности повадка крестьянских подростков совсем другая, в ней больше от традиции и национальных обычаев.
Ты сам был мальчишкой из предместья, не таким, не из такого города, но бурлило в тебе что-то очень общее с ними.
Как она встретилась тебе? Это же случай. Нет, кричит все в тебе, нет, не случай, это и была моя жизнь! Только она. Черты лица чуть заостренные, и одновременно сама женственность, освещавшая все вокруг. Что-то было в ней глубоко материнское, всепонимание – вот что, спокойное проникновение в тебя, в твои мысли. Ты тонул в ее взгляде, само ее присутствие создавало вокруг тебя другой мир, окутанный таинственной дымкой... Улыбка – счастье. Как мало ты жил, Андрий, правда? Только тот год? Но откуда ты мог знать?
Ты и до нынешнего дня часто смотришь на Пако, когда он этого не замечает, ищешь то, что роднит его с сестрой. Он другой, совсем другой, все у него четче и резче, чувствуется что-то от молодого зверя, именно это и восторгало тебя и вызывало иногда раздражение. Как струна, натянутая сверх меры. Это было и у Марии-Терезы. Только она мягче и ласковее, ее завершенность во всем скрадывала и острые углы семейного характера. Чтобы сдержать неудержимого Пако, достаточно было одного взгляда сестры, грациозного поворота ее головы.
Такого не бывает дважды, та горячая волна не поднимется больше в тебе никогда. Тебе осталось только смотреть иногда на Пако, на его сына. Да, ты был в этом убежден. Сколько лет прошло? Больше двадцати?
Должна была прийти Ольга. Спокойная, ровная, с ясным и неторопливым словом. Она стала твоим другом, Андрий. Даже больше – твоей новой жизнью. Ольгу привел к тебе тоже Пако. Такова судьба.
Ольга наделила тебя новым качеством, создала тебе семью. Ты стал отцом, главой семьи, ее мужем. Стал ли ты другим с ней, для нее? Наверное, нет, но спокойная, полная достоинства женственность Ольги, как глубокая вода, дала тебе силу для нового плавания. Ее естественная потребность опереться на мужнину руку, ее нежное материнство, ее ласковость... Ты долго думал, что это и только это вмещается в ней. И размеренный ритм домашней жизни постепенно снимал с тебя многолетнее напряжение.
Но как-то она сказала:
– Зачем ты мне все рассказал, Андрий? О ней, обо всем, что было.
– Я хотел быть честным, хочу всегда говорить тебе правду, ничего не утаивать.
– Для меня лучше было бы ничего не знать. Ведь то, о чем ты рассказал, не повторяется дважды. Ревность к прошлому – боль, которую не утолить. Твое прошлое только с тобой.
– Ты же хотела знать, ты же просила, чтобы я рассказал все, все...
– Я не знала, какое оно, это все. Я хотела войти в твое прошлое, чтобы заменить его собой...
Этот разговор встревожил тебя, очень встревожил. Что-то кипело в глубинах спокойной воды, что-то бурлило на самом дне ее глаз. Ты был внимателен и добр, Андрий. Ты старался быть ласковым, приносил ей подарки. Но из нее упорно рвалось: нет, нет, я хочу, чтобы ты был моим!
Что можно было сказать на это? Как и что доказать ей?
Как различить тончайшие значения великого, необъятного и слишком конкретного слова «люблю»? И где оно, настоящее «я», «мое», каково оно – это подлинное чувство к твоей жене Ольге, которую ты любишь сегодня, Андрий? Любишь! Только как?
Такие разговоры возникали очень редко, но тревога твоя была не напрасна. Ты понял, она ждет, давно ждет: когда? Когда закончится время ее женского ожидания?
Не объяснить, не рассказать, не выразить словами. Только время перемелет колебания и сомнения, только жизнь с ее ежедневными заботами все поставит на свои места. Не надо слов.
Прошло время. И она поняла. А ты уже стар.
Если б не Пако, всегда как натянутая струна, как блестящее и острое лезвие, жизнь твоя сложилась бы совсем иначе. Его любили все в мадридском отряде, потом во Франции. Да, он, кажется, всем нравился. Было в нем что-то от грациозной дикой кошки, подходить к которой слишком близко все-таки не рекомендуется. Что-то постоянно ощущалось в сломе бровей, в чутких тонких ноздрях, в будто бы мягких очертаниях губ. Какое-то внутреннее напряжение, не спадающее даже во сне, во время отдыха, в игре. Его и побаивались, потому что он мог взорваться неожиданной злостью, даже обидеть. Чтобы через несколько минут просить прощения, и так искренне, так горячо, что никто не таил обиды. Тяжелый характер у парня, говорили иногда в отряде, но ты знал, что именно он твоя почва под ногами, опора для вас обоих, с его глубинной верой в прошлое, с безграничным доверием к тебе, с преданностью, на которую надо было отвечать. Был ли он красив? Наверняка, ведь его любили девушки, его полюбила твоя сестра. Но ты воспринял черты его лица иначе, можно сказать, не видел, а слышал его.
Ведь только он знал о тебе все, только он понимал твой взгляд, твою печаль, твой гнев и раздражение. Ты для него даже не Омбре из мадридского отряда, ты просто человек, на котором держится мир и бытие.
...Пако пришел в тот вечер поздно. Осень, работы было еще до чертиков, и ты, как всегда, возвращался домой в темноте. Еще надо было посидеть над расчетами. Но свет горел на твоей половине, и ты вздохнул с облегчением, потому что расчеты сегодня уже ни к чему. Ты знал: это Пако. Павел Петрович, как говорили в селе, директор школы, отец твоих племянников.
У него был ключ от твоего дома, и он иногда ждал тебя там.
Голова еще полна забот тяжелого дня, но, глядя на его лицо, на привычное выражение глаз, на поседевшие волосы, на слом губ, ты постепенно успокаивался, расслаблялся.
– Андрес, – сказал Пако, – я хочу тебя женить.
Ты рассмеялся было, а потом в висках застучало от обиды. Всерьез. Ведь тебе уже сорок лет.
– Я... ты, – сказал Пако, – и я... И довольно. Не кричи, послушай меня. Будь маленьким, а я буду взрослым.
Это была игра еще из Испании, когда Пако хотел что-нибудь объяснить. Вот что он выложил на этот раз: познакомься с новой докторшей, она для тебя.
Ты никогда бы не отважился на что-то подобное под его взглядом – взглядом Марии-Терезы. Но он сказал: она была бы «за». Я знаю. Хватит, Андрес, жизнь проходит! Где твои дети?
– Погибли в Испании, – сказал ты.
– Молчи об этом. Я здесь! И я тоже хочу видеть твоих детей! И она хотела бы их видеть, Андрес, она хотела бы, чтоб ты жил! Хватит!
И так всю ночь. Обо всем. Из глаз в глаза, из рук в руки – новая жизнь.
– Это невозможно, – наконец произнес ты. – Но я попробую. Ты переубедил меня с точки зрения логики жизни. И все же это невозможно. Да и почему она? Кто она?
Это была Ольга. И с нею оказалось все возможно. Жизнь продолжалась...
XV
...Жажда и голод. Сегодня пятый день. Если бы не капли на потолке в глубине пещеры, наверное, сошел бы с ума. Жара. Ага, кажется, снова начинают... Не буду спешить. Сейчас, сейчас, вот они. Прицелиться лучше. В пулемет свой я будто врос. Не чувствовал границы между своим телом и его, железным, раскаленным от солнца и стрельбы. Пятый день. Я уже погиб, все нормально, я погиб. Почти вся рота погибла. Только мы здорово держались, здорово! Жаль ребят, жаль жизни, которую спас мне Пако месяц назад. Как хорошо, что он остался в госпитале. Я умру спокойнее... Может, и время. Кто бы поступил иначе на моем месте? И может ли быть какое-то другое место? Я счастливчик – вот так всю войну. Предназначенная мне бомба упала на Марию-Терезу, да и сейчас меня обходит смерть. Обходила, потому что сейчас я ее отчетливо вижу. Если бы раньше догадались, то возле этой скалы можно было держаться многим.
До наших окопов отсюда метров двести, даже меньше. Вместе отходили, забрали все, что могли, все боеприпасы, все оружие. После атаки. Следующей уже не выдержали бы. Удачно мы переползли к этой высоте. Все было бы хорошо, если бы не самолеты. Они нас расстреливали сверху, как муравьев. Как на ладони тут... Немного осталось, а не дошли... Никого. Я один. Тогда одновременно с самолетами атака. Ну, я им дал тогда, ох и дал! За всех, за все! Откатились они. Не знали, сколько нас здесь. Еще один пулемет я подтянул уже потом. Все стащил понемногу сюда... А тут еще и небольшая пещера. Ну, теперь меня отсюда никто не выкурит! Такого пекла я за всю войну не видел. Нет, гады, нет, я здесь, пока жив. Пока есть патроны и дыхание. Ох как хочется есть! Трава... трава не еда. Обыскал убитых. Несколько галет, несколько кусочков сахара, сигареты ни к чему, не курю, а есть нельзя... Сегодня уже совсем нечего положить в рот. И боеприпасы надо экономить.
Я знаю: мы проиграли войну, мы проиграли. Но что это за война? Мы не удержались вместе. Каждый сам по себе. Анархисты, националисты, троцкисты, социалисты... Борьба за власть. Воевать никто толком не умел, никто не хотел учиться, все рвались только командовать. Нет, не все. Коммунисты, пожалуй, воевали организованнее других. Но сколько помех, созданных нами самими, сколько наивного желания скорее выиграть войну! Как будто это игра. Игра давно закончилась. Кажется, и жизнь закончилась.
Что у меня было в жизни? Едва ли не самое ценное в ней – любовь к земле, к людям, пришедшим воевать, не умея держать в руках винтовку, к людям со всего света, пришедшим на помощь правде... Их убивали в первом бою, во втором, в третьем, но кто-то же научился драться хоть немного, кто-то пошел с нами дальше. Не останавливаясь, не отдыхая, шел дальше! Как шел Мирон Стаецкий... как шел наш политрук Семен Краевский, как шел рядом со мной Юрко Великий. Еще вчера... Нет, уже пятый день я один на этой скале. Пятый день или пятое столетие?
Фашисты предлагают мне сдаться – слушать смешно... Не знают, кто я. Обращаются ко мне на разных языках, даже на польском. Они не знают, кто я... Только специалиста с украинским никак не обнаружат среди своего воинства. А могли бы! Нечистые есть везде. Как те, что писали у нас о «монархической революции», откровенно сочувствуя фашистам. Уж эти мне «патриоты»! Нет, наша сотня – это и есть Западная Украина, вот кто представляет наш народ. Как славно, что назвали ее сотней имени Шевченко. То, что принес из дома, и здешнее как-то скоро слилось, соединилось во мне, я на первых порах даже не понял, не вник, что получилось в результате.
Шилин, советский летчик, в госпитале читал наизусть:
Я хату покинул,
Пошел воевать.
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»
Чувствуешь, говорил Шилин, это же написано еще до, войны, до этой войны в Испании!
Сколько тут полегло ребят, и с Украины тоже, как тот, в стихотворении. Эх, не выучил как следует русский язык, не побывал в Москве, в Ленинграде, не видел Киева... Великой Украины. Сколько всего не успел я в жизни! Сейчас уже едва хватает сил, чтобы не отрываться от пулемета. Дисков-то достаточно. А может, пока оставить пулемет. Поберечь боеприпасы, да и самому поберечься – я же держу их здесь, я не даю им воевать с другими, оттягиваю на себя... Я один, но я воюю и буду держаться дальше. Тихо что-то... Почему так тихо? Но нет, отсюда меня не взять. Скала метров сто вниз, да и там обрыв. Единственный подход – этот, пусть попробуют еще...
Почему так тихо? Зверски хочется спать. Уже нет сил держаться, просто нет сил... Я же не сплю четвертые сутки. Не сплю, только дремлю, как кот, прищурив один глаз, нё отрываясь от пулемета. Никогда не думал, что перед смертью буду спать рядом с пулеметом.
Как же я обрадовался на базе в Альбасете, когда из нового пополнения в польский батальон вдруг раздалось: «Анджей!» Такое знакомое и родное. Частица детства моего, Збышек Янишевский уже сжимал меня в объятиях. Последние новости из дома. Отца выпустили, но уволили с работы. Они догадываются, что я здесь. Вот даже письмо есть у Збышека. Письмо от них, из дома.
С тех пор мы неразлучны на этой войне. Збышек ранен неделю назад. Он останется жив, может, увидит когда-нибудь родных. Расскажет. Хваткий остроносый белокурый Збышек, обладатель ровера[18]18
Велосипед (польск.)
[Закрыть], одного из двух на нашей улице, друг мой Збышек, прощай!
Когда расформировали диверсионные отряды в Мадриде и все мы решили воевать вместе, Пако и я даже обрадовались. В Мадриде все напоминало нам об утрате. А в роте мы освоились быстро. Полищук, еще Юрко Великий, с которым мы только теперь сошлись близко, дружески. Из ветеранов, а совсем молодой, всего лишь на несколько лет старше меня. Худощавый, сдержанный, внешне всегда спокойный. А потом эта сдержанность вдруг ломается и он смеется звонко, заразительно, и ты уже не можешь не засмеяться вместе с ним.
Собственно, после ранения, в госпитале, было время присмотреться друг к другу. Потом вместе ехали в свою часть.
Как нас встретил Полищук, теперь командир роты! Как обрадовался нам! Живой, бессмертный Полищук. Круглые очки на горбоносом лице, резкая складка возле рта, крепкий подбородок... Пако оставался пока в госпитале. Договорились, встретимся через две недели. Еще четыре дня. Нет, осталось уже три, и будет как раз назначенный срок...
Юрко спросил меня тогда, знаю ли я писателя Матэ Залку. Я ответил: «Нет. Да и откуда?» – не догадываясь еще, какая встреча мне предстоит. В Мадриде после Каса дель Кампо нас наградили. Вручал награды сам генерал Лукач, командир Интернациональной бригады, мы о нем так много слышали, что сейчас буквально не сводили с него глаз.
После торжественного ритуала генерал подошел к нам и начал расспрашивать, кто, откуда и так далее. Наши взгляды встретились, он улыбнулся открытой улыбкой, подошел ко мне и задал все тот же вопрос, откуда я. Только прибавил: такой молодой. Я ответил, что из Западной Украины, которая сейчас под Польшей, а точнее, из Луцка.
Лукач оживился:
– А вы знаете, мы с вами не чужие люди. Как раз с вашим городом в моей жизни связано многое. Я же воевал во время первой мировой в составе немецкой армии как солдат Австро-Венгрии. И как раз под Луцком попал в плен. Там и началось мое знакомство с русскими коммунистами, оттуда моя дорога в гражданскую войну, а главное – мои убеждения. Так что рад приветствовать в вашем лице этот славный городок.
Он расспрашивал еще о городе, о моих родителях и обо мне. Я торопливо отвечал, радуясь его вниманию и такому совпадению, но время бежало быстро, мы попрощались...
– Рад буду видеть вас когда-нибудь у себя, – сказал Лукач. – Поговорим еще о Луцке, которому я обязан чуть ли не новым своим рождением.
Он улыбался, но сейчас, рядом, чувствовалось, что мысли его далеки от нашего разговора, от всей церемонии, что это уставший, чем-то глубоко озабоченный человек.
Через несколько месяцев генерал Лукач погиб. Тогда мы и узнали, что звали его Матэ Залка, что он был венгерским писателем и революционером. Тогда же я решил, что первая прочитанная книга будет его, если, конечно, останусь жив.
Я уже не искал смерти, перестал о ней думать. Пако разбудил меня. Он сказал тогда: если ты погибнешь, я тоже, запомни.
А потом в окопах, в бою с марокканцами... я думал тогда, что из нас не останется никого. Мы еще не знали, как воевать с конницей. Марокканцы будто бешеные... Они воюют за деньги. Убивают за деньги. Профессионалы. Сабли, кони – все это обрушилось смерчем на наши окопы. Но мы их сдержали. Дорогой ценой, но сдержали, потеряв всякий страх и осторожность. Врукопашную против конницы. Дрались штыками, их же саблями. Полищук оказался на коне, сбил марокканца, вскочил на коня с револьверами в обеих руках. Никто и не думал, что он на такое способен. Мы в одном окопе с Пако, Великим и Высоцким. Конники над нами, пригибаемся, стреляем во все стороны. Кровь, пот, грязь... Ржание коней, стоны. И вдруг страшный крик: «Андрес!» Я лишь успел оглянуться. Все равно было бы поздно, но под саблю марокканца Пако подставил свою винтовку. Над моей головой, держа ее обеими руками за концы. Как мост. Сабля скользнула. Я только глаза его видел – глаза, полные страха, боли, смертельного испуга за меня. Страх потерять жизнь? Нет, что-то дороже жизни... Дальше не помню, потому что Великий выстрелил прямо в лицо марокканца. Тот упал на нас. Конь застрял над окопом, но сабля марокканца скользнула по прикладу винтовки, по руке Пако и моему плечу.
Атака наконец была отбита. И мы все трое попали в госпиталь. У Великого рука прострелена навылет ниже локтя. Не хотел он в госпиталь. Меня полоснуло недурно, но все же по мягкому, кость цела. У Пако тоже ранена рука, только рана тяжелее, больше. Худенький он, рана долго заживает. Но, если бы меня так, я бы, наверное, вдвое дольше провалялся в госпитале. Мы ехали с Юрком в роту. И снова глаза Пако. Я сказал: вернусь за тобой. Как тогда. Он верит мне, не может не верить. Я бы вернулся, вернулся любой ценой, если бы остался жив, а теперь...
Жарко... Так жарко... Хочется пить. Капли в пещере сбегают со стен так медленно... Подставил гильзу. Выпью, и только через час она снова наполнится. Через час. Что такое теперь час?
Видеть всех, кто лежит рядом. Где Юрко, где ребята?.. Отступили по всей линии окопов. Нельзя было отступать всем. Рукопашная... Этого еще в жизни моей не было, чтобы так драться в окопах. Тогда марокканцы, а сейчас с пехотой... Но мы отбросили их, в конце концов, мы, рота Шевченко, отбросили их. Хотя оставалось нас лишь шестеро на левом фланге. Что с другими? И что будет дальше?
Какое лазурное небо! Ни облачка. Желто-бурая скала. Раскаленный камень. Зелень, пожелтевшая от солнца... Почему я еще живу? Почему не сошел с ума от страха, от одиночества, оттого, что в каждую секунду может снова начаться атака? И снова я должен слиться с пулеметом. Мы с ним одно тело. Я – пулемет.
И я живу. Может, потому, что помню, как падал высокий неуклюжий Мирон, подбивший первый танк?.. Может, потому, что Мария-Тереза никогда не скажет мне больше «амор мио», не будет желтого моря пшеницы, не будет волн до края земли, не будет безграничья первой любви... Или потому, что Пако ждет меня в госпитале, что у него единственная надежда на жизнь – это я. А может, это мама ждет меня дома, это отец ночами сидит возле радио, прислушиваясь к новостям из Испании, и есть на свете местечко, а под ним село, где меня ждут деревья и холмы, и речушка, и трава там так зелена, где слово «Украина» полно жизни и силы, где борьба идет и сейчас, где я еще был бы нужен...
Почему они не идут? Уже пора. Нельзя вспоминать. Нельзя думать. Тогда слишком трудно жить. А еще труднее умирать. Нет, не стану спешить, подожду. Если совсем не останется патронов и сил, последняя пуля – себе. А пока подожду.
Так-так. Вот они и пошли. Меня охраняют мои мертвые. Они стоят возле меня на часах. Они не дают мне прозевать мгновение, когда эти... А вы вот как, гады... а я вам еще сыпану, патронов не жалко! Ничего, еще продержусь, продержусь. Только бы не сойти с ума, не потерять сознания, не упасть в обморок от голода. А так продержусь...
Что за шум внизу? Как будто удирают. Еще очередь вдогонку, так, еще одну... ага, туда я уже не достану. Что случилось? Действительно удирают. Значит, наши наступают. Выйти из пещеры, только с пулеметом... Вдруг засада, вдруг обман? Спокойно выползу с пулеметом, гляну вниз, за кусты. И впрямь, кажется, наши, две бронемашины.
Идут сюда... Знамя Республики. Кричат по-испански: «Республиканос, амигос...» Вроде и по-украински кто-то. Наши. Встать, встать на ноги... Фу-ты, никак не поднимусь, сколько времени пролежал... Грязный, лицо залито потом, встаю...
Черт побери, это же Полищук. Бессмертный Полищук в своих очках. И с ним, нет, не может быть... Я же хотел только сказать им... Почему же я сажусь на землю? Почему я молчу, когда меня обнимают, тискают, целуют?.. Почему нет у меня слов в ответ? Только страшная усталость. Молча... Глаза мои все скажут сами... Это Пако. Вот почему я жив.








