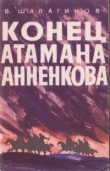Текст книги "Зажечь свечу"
Автор книги: Юрий Аракчеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 34 страниц)
ПУТЕШЕСТВИЕ
НАЧАЛОВ моем путешествии все было удивительно. Хотя бывало, что мне не везло, но это – по мелочи. На самом деле мне везло так, что дни путешествия я и сейчас считаю одними из самых счастливых в жизни.
Правда, уехал я не в тот день, в который было намечено, а на следующий. Притом не просто задержался, а – вернулся! Под нагрузкой стало бить заднее колесо, потому что сносилась втулка, и пришлось разгружаться и ехать в магазин за колесом… Чтобы наверстать упущенный день, я решил отъехать первые сто километров от города на электричке. И тут у самого вокзала остановились часы (забыл завести накануне). А стоило войти в электричку и кое-как пристроить нагруженный велосипед, заняв при этом целых четыре сидячих места, как в вагоне немедленно появился раздражительный гражданин и сурово потребовал:
– Уберите машину, освободите место!
Несмотря ни на что, спокойствие путешественника уже начало овладевать мною, и я вежливо осведомился у гражданина, куда мне ее убрать. Ведь в тамбуре, к примеру, она будет мешать еще больше. А свободных мест вокруг и так сколько угодно.
Гражданин вскипел, – видимо, я ущемил его гражданское чувство – и в яростной деловитости отправился на поиски милиции или еще какого-нибудь начальства. Наверное, не нашлось ни того, ни другого, потому что гражданин вернулся и все-таки сел на свободное место невдалеке. Лицо его выражало неутоленный гнев и обиду.
Ревизоры пришли, когда электричка отъехала уже на порядочное расстояние от Москвы. Проверяя мой билет, один из них равнодушно взглянул на велосипед и ничего не сказал. Гражданин, сидевший невдалеке, тоже промолчал почему-то. Сердце мое благодарно забилось, предчувствуя поворот судьбы. И верно: с этого момента мне и начало везти. Сначала потихоньку, а потом все больше и больше. Говорят: если вернешься – пути не будет. Я вернулся. А путь у меня был. Да еще какой.
Ну, так вот, живешь-живешь, забирает тебя путаница жизни и суета, потихонечку теряешь ориентиры, а потом глядишь – а жизнь-то почти уже позади. Во всяком случае немалая ее часть. А есть ли что вспомнить хорошего? Еще говорят, что есть такая вот притча. Создал будто бы бог людей и животный мир, роздал всем года жизни, людям досталось по восемнадцать. Прожили люди по восемнадцать лет, понравилось, не хочется умирать. Пришли к богу с просьбой: дай нам еще годков, владыка! Подумал бог, подумал, прикинул, как и что, заглянул в свою кладовую и сказал людям: знаете что, а годов-то человечьих нет у меня больше. Звериных хотите? Почесали люди свои молодые затылки, пораскинули неразвившимися еще мозгами – очень уж не хотелось им умирать – и сказали богу: ладно, давай хоть звериные, коли так. И дал бог людям звериные года. Кому какие достались. Кому заячьи, а кому и лисьи, кому волчьи, змеиные, верблюжьи, ослиные, а кому и собачьи, медвежьи… Вот так и живут с тех пор люди: до восемнадцати на свои, человеческие года, а уж после кому как придется. Кто зайцем всю жизнь трясется, скачет, кто волком рыскает, кто по-лисьи ловчит, кто орлом смотрит, а кто, как осел, прямодушен…
А что же она такое, эта самая жизнь? Как надо жить п р а в и л ь н о?
В начале августа и вообще летом, даже не летом – раньше еще, с весны, а уж если совсем по правде, то и вообще последние годы жизнь у меня была сумасшедшая. Учеба, работа, опять учеба до одурения… А как раз перед самым отъездом еще и сердечная драма, да не просто драма, а этакое жестокое разочарование. Хоть мне и стукнуло тридцать, а все же нелегко было драму перенести. Но это бы ладно. Самое главное то, что я понял: крутясь и вертясь, топая по жизненному пути без оглядки, теряешь способность вообще понимать хоть что-то, и вот уже тебе начинает казаться, что мир до невозможности плох, а люди кругом все такие дураки, что, как говорится, не приведи господь. Глупости, конечно. А кажется. Вот тут и оглядеться бы, в себя прийти, дыханье перевести перед тем, как дальше бежать…
Так и решился я на свое путешествие. Как говорится, не от хорошей жизни.
Собственно, и раньше частенько выезжал на велосипеде из города, накатывая за день километров по сорок, а тут вдруг подумал: что, если ехать все время вперед и не возвращаясь? Ночевать можно в гостиницах, а еще лучше – в избах у местных жителей. На сеновале, например, чем плохо? Приходилось же ночевать раньше, когда выезжал на охоту или на рыбную ловлю. И ничего ведь, пускали. Люди добрые страннику в приюте никогда не откажут. Да ведь и интересно у жителей. И так мне захотелось вдруг выехать, что не прошло и недели, как я собрался. Вопреки, надо сказать, совету соседа-врача, вопреки страхам родственников, вопреки мудрой, спокойной житейской логике. Хотя самая-то мудрая житейская логика, как оказалось, была на моей стороне. Тогда я, правда, этого до конца не понимал. Но уже догадывался.
Маршрут такой: Москва – Серпухов на электричке, раз уж так получилось, а дальше Таруса, Алексин, Калуга, Брянск, Новгород-Северский, Чернигов, Киев, Житомир, Винница на велосипеде. То по проселочным, то по шоссе. Больше по проселочным.
Итак, электричка, в которой мы с велосипедом ехали, спокойно докатилась до Серпухова. Старинный русский город встретил нас пыльной вокзальной площадью, жарой. Оставив велосипед в камере хранения, я зашел пообедать в вокзальный ресторан, обливаясь потом, поговорил с молодой женщиной, что сидела за столиком, к которому сел и я. Разговор был непринужденный, запросто, что не всегда у меня бывает, и мне вдруг понравилась собственная непосредственность в меру (заповедь: не скучать). Приходилось ежеминутно вытираться платком, я держал его в руке наготове, а женщина, не останавливаясь ни на миг, размахивала перед своим лицом книжечкой меню. В ожидании официантки собеседница сказала, что город не так чтобы очень уж интересный, останавливаться и осматривать его не стоит – сама она приехала в командировку и вот уже несколько дней живет здесь, «в этой жаре и дыре»… И я понял, что есть смысл сегодня же доехать ну, например, до Тарусы и там переночевать. Была половина третьего.
Почувствовав себя увереннее после обеда, я взял велосипед в камере хранения и не спеша покатил по городу в сторону Тарусы, справляясь о направлении у пешеходов.
Мое путешествие началось.
ВСТРЕЧА С ОКОЙВоспоминания детства живут вместе с нами и возникают вдруг в памяти, когда встречается нечто похожее в жизни, нечто напоминающее. Прошлое не умирает, и, хотя в суете мы часто забываем о нем, все равно нам от него не уйти.
Выехав, вырвавшись из города Серпухова, я покатил по шоссе, по обеим сторонам которого начались сосны, взрослые и стройные – светлой колоннадой, или, наоборот, маленькие, коренастые – непроглядной чащей. Налетел аромат хвои, не одуряющий, как в густом распаренном хвойном лесу, а едва заметный, ненавязчивый, легкий. Что-то уже просыпалось во мне.
Я остановился, сошел с велосипеда, перебрался через кювет, сел на траву в тени юной кудлатой сосенки, которая присоседилась к большой и стройной.
Стояла нереальная тишина. Ослепительное солнечное безветрие, колоннада стволов, пустынное почему-то шоссе.
Прошествовали безмолвно и скрылись в колоннаде две женщины и маленькая девочка с корзинкой, не спеша, не обращая внимания на меня.
Все так же безотказно сияло солнце, не было ни малейшего ветерка, но в тени сосенки, в легком ее аромате не ощущалось особой жары.
Совсем близко пролетела, как ни в чем не бывало, большая желтая бабочка – махаон…
Впереди было двадцать дней путешествия по неизведанному маршруту, шоссейными дорогами и проселочными, в одиночестве, без всякой страховки, на стареньком дорожном велосипеде «Прогресс». Впереди было неведомое.
Но не верилось ни в какие напасти. Я посмотрел на часы: половина пятого. А из Москвы выехал в двенадцать. Пяти часов не прошло! Но если бы даже сейчас, если бы даже сию вот минуту оказаться мне дома, то и тогда эти пять часов сегодняшней жизни вспоминались бы долго, и особенно запомнился бы этот вот миг – возвращение в детство.
Ну конечно же Ногинск, подмосковный город. Мальчиком жил я в Ногинске у тети, там были такие же вот сосны и сосенки, даже шоссе, похожее на это, такой же аромат и солнце. Мы играли в разведчиков, в разбойников, в принцев и королей, я собирал бабочек и жуков, и не было ничего более важного тогда, чем найти «герб», спрятанный чужим «королевством», или поймать махаона, или отыскать где-нибудь около пня рогатого жука-оленя… Махаонов теперь под Москвой почти нет, рогатых жуков тем более. Откуда взялась большая желтая бабочка?.. И мне показалось, что не только в Ногинске, но именно здесь, на этом вот самом месте – на пятнадцатом километре шоссе Серпухов – Таруса, – я уже когда-то бывал. Словно жизнь моя прошла таинственный цикл, и вот вернулся, вернулся я наконец сюда, откуда когда-то так счастливо начиналось.
Отдохнув под сосной, я вновь покатил по шоссе, и теперь по сторонам встречались поля и деревья, которые опять словно старались напомнить мне что-то, опять что-то будили. Я оглядывался по сторонам в растерянности и даже какой-то неловкости – словно стыдно стало за то, что забыл, не навещал, – неблагодарно как-то.
Нельзя не навещать родных – грех, потому что все равно приходит время, когда становятся они тебе нужны, но тогда бывает, ты им уже чужой, и неожиданно оказываешься еще более одиноким. В юности – после Ногинска, когда мать уже умерла, а отец погиб, – я часто ездил на охоту или на рыбную ловлю или просто побродить по лесу. И на какой-нибудь затерянной лесной поляне мне вдруг казалось, что именно в этих деревьях, в этом вот самом воздухе, в этих теплых лучах жив дух моих родителей, заботящийся обо мне, оберегающий. Это были справедливые отец и мать, они зря не ругали меня и прощали и требовали лишь одного – уважения. И если у дерева росли ветви и листья, то я знал, что это то же, что мои руки и волосы, а птицы, зверьки и рыбы лишены были коварства и на добро отвечали добром.
Еще не доезжая Тарусы – дорога, судя по карте, приближалась к Оке, – на одном из поворотов я увидел ее, эту большую реку, – внизу, в красивых белых берегах. Легкий спуск, дощатый мостик, кусты у ручья, ветлы. Поворот, разбитое шоссе, объезд, лужицы воды в колеях. Слева внизу – Ока, широкая панорама.
Не снижая скорости, я почему-то мчался дальше, увозя с собой эту освещенную солнцем ширь, боясь поверить, сдерживаясь, чтобы не остановиться и не вернуться.
Встретив дорогу, которая шла налево, в сторону реки, я свернул.
Сначала было паровое, недавно вспаханное поле, затем лесок и снижение. Я въехал в березовую рощицу, слез со своего верного друга, повел его рядом, держа за руль. Он ехал послушно и плавно, только нагруженный багажник слегка поскрипывал. Я был как в зеленом аквариуме, солнце мелькало сквозь листья, высокая непримятая трава послушно раздвигалась, сзади оставался едва заметный след.
Высоко подняв узкую голову с яркими оранжевыми пятнами на затылке, прополз – как проплыл – в девственной траве черный уж. Над травой видна была только голова и часть туловища, похожая на узкий и хищный торпедный катер, с шипением рассекающий зеленую воду. Я подошел ближе, но, увеличив скорость, «катер» отклонился от встречи.
За деревьями был обрыв, а под обрывом – Ока.
Самое детство мое – еще до Ногинска, еще когда живы были мать и отец, – вернее, даже не детство, а одно лишь лето давней, таинственной той поры прошло в Озерах, городке на Оке, и, может быть, именно поэтому, увидев перед собой эту реку, я опять почувствовал себя вне времени.
Спокойно лежала она внизу, под теплыми лучами солнца, ярко белели обнаженные песчаные берега, слева был изгиб и справа изгиб, а вода была гладкая, почти неподвижная, не было ветра. И было в этой спокойной и доброй красоте реки что-то женское.
Пришлось довольно долго идти по берегу прежде, чем нашелся более или менее сносный спуск.
А спустившись к ней, окунувшись в ее конечно же теплую воду, я уж и вовсе чуть не расплакался от жалости к себе и от стыда. Наконец-то почувствовал я опять полузабытую ласку, и стыдно было за столь долгое отсутствие, и уж теперь я как-то совсем был уверен, что все это когда-то бывало – такое вот мое купание в этой реке – и с тех пор ничего, ну ровным счетом ничего здесь не изменилось. Даже этот сероватый песок и хрустящие под ногами ракушки, даже чахлые кустики на обнажившихся, обмелевших от жары берегах были как прежде. Так же постепенно понижалось дно на плесе, так же принимала к себе и мягко несла желтоватая стремительная вода и плыл мимо крутой, усыпанный большими камнями и поросший соснами левый берег.
Да, я был возвратившимся блудным сыном, искавшим счастья на стороне, не нашедшим его, вернувшимся. Меня не было долго, но здесь все по-прежнему, и меня любят по-прежнему, меня простили.
Какой-то мужчина и мальчик копошились на берегу, развели костер. Их «Москвич» стоял недалеко от воды – каким чудом они съехали вниз по такой крутизне? Отец и сын. Дым костра поднимался медленно и таял, достигнув маленьких домиков наверху. Мой верный, мой двухколесный «конек-горбунок», мой друг, оставленный у куста, казался с воды трогательно маленьким, совсем игрушечным – он ждал меня. Руль и обода блестели на солнце…
Когда, выйдя из воды, я оделся и начал выводить велосипед на тропинку, что бежала вдоль берега под обрывом, вдалеке из-за поворота, против солнца, показалась большая толпа. Люди шли по тропинке навстречу мне, их было много, они шли в красноватом солнечном мареве – посланцы, вестники издалека. Приблизились. Совсем молодые ребята, пионеры из лагеря, москвичи, мальчики и девочки лет по двенадцати…
По тропинке вдоль берега я не проехал и километра. Она и с самого начала была узкой, рискованно петляющей между большими булыжниками, быстро ехать было нельзя – а время все-таки неуклонно шло к вечеру, – и, когда тропинку стали наглухо перегораживать огромные валуны, я решил, что нужно подниматься наверх и возвращаться к дороге, иначе не успею в Тарусу дотемна.
Передо мной высилась почти отвесная, поросшая кое-где травой, кустарником и маленькими деревцами, а кое-где просто осыпающаяся стена берега – отвесный склон дикой горы… Местами все же виднелись и более пологие участки, на которых упорно держались прямые сосны, но упорство их казалось упорством отчаяния. Возвращаться назад не хотелось, а дальше по берегу впереди стена, казалось, была еще круче. И настолько я был уверен в своей удачливости, в своих вернувшихся вдруг силах, что, не думая, крепко ухватив велосипед за руль, смело ринулся на штурм обрыва.
Когда я сейчас вспоминаю эту стену и велосипед, который с рюкзаком как-никак весил все-таки кое-что и на своих больших колесах неудержимо стремился вниз, грозя увлечь за собой и меня, а уцепиться было не за что, да и нечем было цепляться, потому что обе руки были заняты велосипедом, и только чудо, казалось, поддерживало меня, не давая буквально загреметь вниз, и я все же упорно, медленно, сантиметрами, полз в гору – и вполз наконец еле живой! – когда я сейчас вспоминаю все это, я, разумеется, думаю, что нельзя было так рисковать, да и не к чему – в первый же день путешествия, на ночь глядя, – но тогда было все нипочем, и даже в самые рискованные моменты я ни на миг не терял уверенности в том, что все окончится благополучно.
Руки ныли, особенно бицепсы, тело намокло от пота – купание полетело к черту! – солнце уже было довольно низко, а мне еще ехать и ехать – надо ведь до шоссе добраться, а я понятия не имею, сколько до Тарусы и далеко ли вообще шоссе. Хорошо еще, что велосипед не пострадал… Но я чувствовал себя мужчиной.
Через двести метров выяснилось, что стоило проехать по тропинке вдоль берега еще немного, обогнуть мыс, и там прямо от берега начинался великолепный подъем зигзагами – дорога для автомашин…
И вот – шоссе Серпухов – Таруса, недавно отремонтированное, гладкое, сумерки, прохладный воздух, комары и мошки, бьющие в лицо, сумасшедшая гонка, головокружительная скорость на спусках, стадо коров и пастух, удивленно провожающий меня взглядом, и наконец мостик через реку Тарусу, приток Оки, первые домики и впереди – подъем на высокий бугор, россыпь изб и каменные дома.
Странное дело: сейчас, вспоминая, как я мчался к Тарусе, по пояс голый, в велошапочке с козырьком, в шортах, возбужденный этой гонкой, и как увидел Тарусу и первых женщин, что сидели на лавочках у плетней, и как у первых же решил спросить насчет ночлега – не хотелось сейчас одолевать подъем, да и искупаться надо бы успеть перед сном, и поесть что-нибудь, – а они ответили, что в городе есть гостиница, что меня, честно говоря, немного разочаровало (у жителей-то интересней!), хотя и успокоило, – я помню, что начало как будто темнеть. Да и по времени сколько уже прошло – в Серпухове был около четырех, а потом и дорога, и отдых, и купание, и этот подъем, и опять дорога. Да, еще помню, когда встретил пастуха со стадом, были сумерки, почти вечер… Но я столько еще успел увидеть и сделать в оставшееся до темноты время, что на самом деле не понимаю, как же это могло произойти.
Зная теперь, что в городе есть гостиница, а город – как раз там, на подъеме, я с трудом одолел этот подъем, едва не поддавшись искушению слезть с велосипеда и вести его рядом. После нескольких расспросов нашел наконец гостиницу – маленькое двухэтажное здание. Нужно было, наверное, переодеть шорты на брюки – кто их знает, как здесь принято, – но я лихо соскочил с велосипеда, прислонил его к забору и решительно направился к администратору. Вежливая женщина в окошечке сказала, что да, места у них есть. И даже найдется куда велосипед поставить.
Я быстро переоделся, спросил о столовой – оказалось, что даже еще туда успеваю, – и, легкий, уверенный, довольный собой, направился ужинать.
Вот теперь точно вспоминаю, что было около восьми, – в восемь столовая закрывалась, я в нее успел, но тут же после меня дверь заперли.
За столами никого не было. На раздаче тоже никого. Но когда я позвал, из кухонной двери выпорхнула черненькая миловидная девушка. Улыбаясь, взяла у меня чеки…
Она была очень милая (студентка-практикантка?), черненькая, голубоглазая, с ямочками на щеках… И это тоже было, конечно, неспроста. Пионерский лагерь – давно, давно… – и тоже черненькая, тоже голубоглазая девчушка, похожая на эту, с такими же ямочками, с такой же вот точно улыбкой…
Ошеломленный, очарованный, размягченный, я сел за стол и, хотя с аппетитом уплетал свой ужин, все же лихорадочно соображал, что нужно мне теперь немедленно сказать и сделать. Пригласить купаться?.. Да, именно! Работа у нее ведь закончилась, день жаркий, река совсем рядом… Стоило только подумать так – и вот мы уже с ней на берегу Оки, любимой моей реки, вот мы весело приближаемся к воде – никого нет поблизости, пляж пустынен в это позднее время, хотя солнце еще не село, его желтые блики сверкают на быстрой воде, золотят нашу загорелую кожу. Да-да, летят во все стороны брызги, звенят наши молодые голоса, мы плаваем, борясь с течением, наконец, искупавшись, выходим – легкость, прохлада, чувство свежести, капли на нашей коже… А потом мы уже в лодке, плывем по Оке, солнце садится, тихо и спокойно кругом…
Когда я наконец отвлекся от своих пылких фантазий и посмотрел в ту сторону, где только что была девушка, ее там не оказалось. Выставив все, что мне полагалось по чекам, милое создание упорхнуло и не появлялось больше – потому конечно же, что я ведь и был тем последним посетителем, после которого можно идти домой. Увы, увы…
Вместо девушки в зале появилась женщина с тряпкой и принялась вытирать столы, потом старушка уборщица вышла с ведром и начала мыть пол. А я посидел с минуту, грустно посмеиваясь над собой, вздохнул печально, но затем бодро встал, узнал у старушки, в котором часу открывается столовая завтра, с оптимизмом проследовал через зал к выходу, спустился по темной деревянной лестнице, распахнул дверь на улицу и – зажмурился.
Меня ждала освещенная ярким заходящим солнцем Таруса.
Намечая маршрут, я нарочно выбрал путь через Тарусу, потому что много слышал о ней. Я понимал, что такой человек, как Паустовский, не стал бы так восхищаться этим маленьким городком, если бы он был того не достоин. И все же я немного боялся разочарования, которое так часто бывает, когда мы многого ждем. Но тут о разочаровании не могло быть и речи…
Сначала была площадь, маленькая площадь с заколоченным почему-то Домом культуры, много приветливых, оживленных людей. «Где здесь купаются, не скажете ли? Как пройти к Оке?» – мои вопросы. Наконец дорога под уклон, старые иссохшие лодки вверх днищами на обочинах. Внизу – Ока… Игрушечная отсюда пристань, неподвижные лодочки с рыбаками, пологий противоположный берег, лес.
– Скажите, где же здесь все-таки купаются?
– Вон на той стороне, городской пляж. Там лучше всего, песок.
– Ну, а как туда перебраться?
– На лодке. Вон, у пристани лодочник.
Когда я, торопясь, обратился к лодочнику, здоровенному парню в тренировочном костюме, он критически осмотрел меня и спросил:
– Сам-то грести можешь?
– Конечно, могу.
– Ну и бери лодку, вон она. Отвяжи и бери, потом на место поставишь.
Уже выплыв на середину, дрожа от сдерживаемой радости – вот ведь везение! – я все еще посматривал на лодочника, все боялся, что он передумает, крикнет, что я, мол, не так гребу или что лодка ему спешно понадобилась, но он и не глядел в мою сторону. Ни документов не взял, ни денег…
Как в светлом детском сне, плавал я на лодке вдоль противоположного берега, купался в теплой вечерней воде, перевез какого-то парня через Оку, потом двух отдыхающих из тарусского дома отдыха. Это были, видимо, муж и жена, пожилые, и муж спросил у меня, как там в Москве, давно ли оттуда. Я сказал, что был в Москве только сегодня, и сам поразился этому простому факту, – казалось, уже так много времени прошло с тех пор. С кем-то еще разговаривал, перевозил кого-то… Потом привязал лодку на место, темнело, лодочника не было поблизости.
В поздних сумерках я поднимался по крутой, мощенной булыжником улице в центре Тарусы. Булыжник был белый, и дорога светлела впереди, поднимаясь в гору. Проходили мимо люди, две девчонки встретились лет по шестнадцати, хорошенькие, внимательно посмотрели на меня, осторожно съехал на малых оборотах навстречу мотоцикл. Наверху был перекресток, и словно какая-то сила влекла наверх, к перекрестку, в ногах не было и намека на усталость. У перекрестка, не раздумывая, я свернул направо и тут же, пройдя лишь несколько шагов, увидел их. Деревья, о которых мечтал в детстве, деревья моего детства. Я не знал толком, как они называются – то ли ивы, то ли осокори, – да это и хорошо. Деревья Моего Детства. Их было четыре или пять, а может быть, восемь, они стояли кряжистые, неохватные, кажущиеся в сумерках просто огромными. Корявая бугристая кора, толстенные ветви, горизонтально протянувшиеся над дорогой. Несмотря на возраст, они были полны жизни, сила так и выпирала из них, казалось, именно от избытка жизненных соков они так толсты, так мощны их стволы и ветви, так густа их зеленая, нигде не тронутая желтизной листва. Ни одного сухого сучка… По любой из нижних ветвей можно было бы ходить, как по буму, каждая из них была в один-полтора обхвата и, если посмотреть вдоль от начала ствола, терялась в дремучей путанице листьев. Какое раздолье для птиц: каждое дерево – целый город, да что там город – государство, зеленая живая страна, куда можно залезть и заблудиться среди ветвей.
Ветвь, на которую я прилег, казалась теплой. Сквозь неподвижный ажур справа и слева отцветало небо. Ни один зубчатый листик не шевелился. Я смотрел вверх, я опять был маленьким мальчиком и странствовал по зеленому лабиринту, открывая потаенные уголки, вспугивал птиц, и тело мое было в пятнах солнца…
Проходили мимо в полутьме люди, едва не задевая и не замечая меня, прошагали девушки, оживленно обсуждая что-то, стукнула где-то калитка. Долго лежал я на ветви дерева, изредка меняя позу, когда извилина коры слишком сильно впивалась в тело, смотрел вверх. Уже совсем смерклось, было все так же тихо, тепло.
В темноте летней ночи сошел я с ветви на землю, отправился дальше по улице волшебной Тарусы, непрестанно оглядываясь, запоминая силуэты великанов, – удивительно стройными были они при всем своем величии, – добрел до колодца, выпил холодной воды. Усталости не было, спать не хотелось совсем.
Горел на перекрестке большой фонарь, светились окна домов по обеим сторонам улицы, мощенной белым булыжником, слышались голоса. Двигались людские тени. Улица быстро кончилась, на площади внизу я свернул направо, в первую попавшуюся, с молоденькими деревцами по сторонам, тоже булыжную, узкую, и замер, услышав песню. Песня доносилась из окна второго этажа двухэтажного дома – по улице часто горели фонари, и весь дом был разрисован темными кружевами теней деревьев, – одно окно было открыто настежь, и из черного его проема, из глубины, доносилась негромкая песня. Пела девушка, пела с чувством, удивительно пела. Безо всякого усилия, без напряжения лился молодой голос, и казалось понятным, почему огромные черные деревья стоят, не шелохнувшись, почему в полном молчании застыли дома. Я огляделся и увидел, что невдалеке в тени дерева неподвижно стоит человек, а чуть дальше, под другим деревом – еще. Одинокий девичий голос тосковал, и печалился, и звал кого-то, и сокрушался, но необычайная звенящая радость была в нем в то же самое время, и восторг, и полнота любви, и надежда. Я боялся шелохнуться, громко вздохнуть – чтобы не потерять ни звука песни, ни ноты мелодии, которая никогда ведь не повторится, как не повторится такая именно тарусская ночь, как не повторится все-таки ни одна минута нашей быстротекущей, нашей единственной, нашей таинственной и прекрасной жизни.
На улице, идущей под уклон, не было ни одного фонаря. Впереди и внизу – огромный и полный мрак. Наконец, когда весь свет остался позади и привыкли глаза, стали видны скромные огоньки бакенов, пристань, очертания спящей реки. Остановившись, я присел на одну из перевернутых лодок, погладил ладонями сухое шершавое днище.
Впереди, за рекой, за лесами, за неясной линией горизонта, спал сейчас, отдыхая, непостижимый, бесконечно разнообразный мир с реками, равнинами, городами, деревнями и людьми…
Вывело меня из этого состояния вполне реальное ощущение капель, падающих на голову, за шиворот, на лицо, – теплых и приятных капель, но все учащающихся, грозящих перейти в ливень. Я поднял глаза к небу и не увидел звезд. Предостерегающе заурчало вдали.
Не спеша поднялся я с лодки, бросил последний, прощальный взгляд на спящую реку, на темную даль, зашагал к гостинице. А теплый редкий дождь, как будто нарочно, как будто дожидаясь, пока я дойду до укромных стен, не усиливался, небо терпело, урча от сдержанной мощи. Дойдя до гостиницы, я не стал заходить сразу, остановился, вдыхая свежесть, – но тут уж терпение всевышнего лопнуло, и хлынул мощный, прямой, полноводный ливень, окончательно нарушивший состояние очарованности и тишины.
Со спокойной совестью, убедившись, что песня допета, дослушана до конца, вошел я в гостиницу, поднялся на второй этаж, развернул свежие крахмальные простыни на постели и, ощутив мгновенно одуряющую усталость, лег и уснул сразу, как провалился, с одной лишь счастливой мыслью: мое путешествие только еще началось.
Я понял: Ока, ее теплая вода, песчаные отмели, на которых хрустят ракушки, крутые и пологие берега, прибрежные камни, ивы – все это как раз для меня. И что бы я потом ни увидел, на каких бы реках, в каких местах бы ни побывал, лучше все равно не найду. Очень хорошие, даже прекрасные реки и места могут быть. Но лучше – нет.