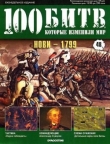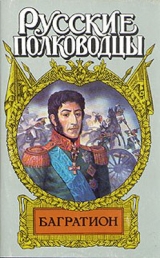
Текст книги "Багратион. Бог рати он"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 42 страниц)
Возвратившийся из польских краев Софийский полк расположили за городом. Коли был бы простой поход, маневры в Царском Селе, и тогда бы немало потребовалось времени и сил для приведения полка в порядок. Тут же – возвращение с войны. Сие предполагает убыль людей и амуниции, недобор лошадей, расстройство всего хозяйства.
Санкт-Петербург – рядом. А ни полковой командир князь Голицын, ни старшие и младшие офицеры, что также жительствуют в столице, по-настоящему и не бывают в своих домах.
Зимой же, аккурат на Новый, 1796 год, когда уж и роты с эскадронами пополнили, и конское поголовье привели к норме, и учения начались в соответствии со всеми требованиями, пришла весть: готовиться к высочайшему смотру.
Это же по какому поводу, что за причина? Оказалось, намечено бракосочетание второго внука Екатерины – великого князя Константина Павловича с принцессою Саксен-Кобургской.
Заботы навалились такие, что к коротким зимним дням стали прихватывать и сумеречные, а то и ночные часы.
Двойная же упряжка выпала на долю Багратиона: к нему, эскадронному командиру, перешли и обязанности командира полкового.
И все потому, что в самый пик суматохи полковник князь Борис Александрович Голицын по высочайшему повелению был отозван в Мраморный-дворец, в распоряжение августейшего жениха.
– Князь Петр, ты уж по-родственному услужи мне – временно прими регимент, – обратился к Багратиону Борис Андреевич. – Пока для других секрет, но то ли самим Константином Павловичем, то ли цесаревичем Александром высказана мысль – произвести меня в гофмаршалы нового молодого двора. И ее величество матушка императрица, говорят, выразила одобрение сему прожекту. Так что еду к ней. А засим, полагаю, и приступлю к исправлению новой должности. Так что, пока определят мне замену в полку, хочу передать хозяйство в твои руки. Знаю: по душе тебе мое поручение и в полку обрадуются.
– Спасибо, Борис Андреевич. Буду стараться оправдать твое доверие. Авось и не осрамлюсь.
– Ну-ну, не прибедняйся, – улыбнулся Голицын и тут же, чуть понизив голос, со значением, которое не скрыл: – Постараюсь употребить свое влияние, чтобы на брачных торжествах обязательно участвовал наш полк. Так что явится случай представить тебя и Константину с Александром, и самой матушке царице. Полагаю, тебе вскоре и свой полк получать. Разве не заслужил ревностным исполнением долга и отменною храбростью?
Под смуглою кожею – краска и смущения и радости как бы одновременно.
– Сие – в руках Божиих, – попытался ответить коротко.
– То верно. Но более – в руках тех, что боги на земле. Вот представить тебя сим выразителям судеб – мой и Анны Александровны долг. Мы тебе многим обязаны.
– Что вы, дядя? – смешался Багратион. – И тетя, и вы… Ты мне не раз это высказывал, – перешел он опять с «вы» на обретенное уже на ратной службе «ты». – Но, право, в чем может быть твой и тетин долг, коли мы – свои…
– Будет, будет тебе. – Голицын обнял племянника. – Родня – одно. Душа у тебя по чистоте устремлений и человеческой доброте мне ближе и роднее многих иных… Вот что хочу тебе заявить, коли затронули мы наши родственные связи, что я ставлю на первый ряд. А Анна Александровна ждет тебя. Я ж тебе говорил: сняли новую квартиру на Миллионной… Вот что, завтра велю тебя подменить – на целый день к нам приедешь. Она, представляешь, серчает на меня: совсем забыл, пеняет она мне, что Петр – наша семья…
В ту, после Очакова, зиму траур долго не снимали ни в доме князя Александра Михайловича, ни у Дарьи Александровны, куда после смерти мужа вернулась ее дочь Анна Александровна.
Не по летам еще стройный вице-канцлер, хотя и опирался на палку, старался не дать горю себя сломить. Молча ходил по комнатам – глаза сухие, должно быть, уже выплаканные долгими бессонными ночами.
Единственного сына дал ему Господь. Не торопился, но имел намерение обратиться к государыне, чтобы повелела дать ему, незаконнорожденному его отпрыску, не какую-то нарочито выдуманную, укороченную от подлинной – Лицын, а их родовую фамилию: Голицын.
Мало ли таких прозвищ, что давали прижитым на стороне младенцам, все ж не бросая их на произвол? От князей Репниных пошли Пнины, дщерь Потемкина от государыни обратилась в Темкину, сын Румянцева стал Умянцевым. А то, как у Безбородко, дочь побочная – по имени первой же пожалованной ему деревеньки – Верецкая… Да стоит ли вспоминать? Кроме того – чужие то дела, чужие заботы. Его, вице-канцлера, иная воля: сын, родная кровь, пусть и роду даст законное продолжение.
Других, законных, не было. Впрочем, как родные, жили в доме дети брата Андрея, рано почившего, – Михаил, Борис и Алексей.
К той поре, когда случилось горе, Михаил, старший, был уже женат на графине Шуваловой. Выбор пал на Бориса, Мишиного погодка и еще холостого, – пусть сочетается со вдовою, все же родной племянник.
Свадьба состоялась на третий год после смерти Лицына. Петр Багратион тогда уже был снова на войне, на кавказской своей линии. Но, провожая его перед тем в полк, вице-канцлер произнес в присутствии бывшей своей невестки и молодой вдовы:
– Мы, Голицыны, многим будем обязаны, вам, князь Петр.
Имелось, скорее всего, в виду, что чрез всю Россию привез к ним, в Белокаменную, смертельно израненного сына и мужа, а спустя месяц разделил их семейное горе.
Позже случился поворот и в его, Багратионовой, судьбе. И несомненно, теперь уже с помощью Бориса Андреевича – вытребовал к себе в полк, как только введен был в должность полкового командира.
Однако и нынче припомнились в разговоре те же, когда-то сказанные старым князем Голицыным слова. И с новым как будто обещанием: мы о тебе помним, не забудем.
Сразу как-то кольнуло в сердце: «Разве не я сам до сей, петербургской, поры стоил свою судьбу? И не искательством, не с помощью протекций, а собственною отвагою, умом и радением по службе, какой бы она – легкою или тяжелою – ни была, творил свой путь»..
Тетиной радости не было границ, когда он появился в новой квартире на Миллионной.
– Теперь я тебя не отпущу, пока ты всем сердцем не разделишь со мною моего счастья. Смотри, какая просторная, светлая и удобная у нас квартира! Нет-нет, Петр, ты не делай вежливое и нарочито довольное лицо – ты радуйся со мною! Гляди, вот это – детская. Она – для наших старших мальчиков.
Изящная, легкая, вся – сгусток энергии, Анна Александровна провела племянника в просторную, с двумя большими окнами квадратную комнату. Навстречу маме и гостю выбежал пятилетний Андрюша, а за ним – его погодок Саша.
– Мальчики, мальчики, что надо сказать вашему дяде, которого вы давно уже не видели и, верю, по которому ужасно соскучились?
Андрюша с Сашей с восторженными криками бросились к князю Петру и повисли у него на шее, для чего он нарочно пригнулся.
– Здравствуйте, дядя Петя!
– Как же они выросли! – воскликнул Багратион. – Особенно Саша. Он скоро догонит Андрея.
– Ладно, мальчики, идите к Иоганну Ивановичу – у вас сейчас классы.
Князь Петр перевел взгляд на Анну Александровну: Боже, как подлинно счастлива и как хороша его тетя! Лицо ее светилось, глаза, всегда такие живые, будто они вобрали в себя всю ее огромную душу, были особенно лучезарны.
– Ну вот, теперь – комната Коленьки. Хочешь на него посмотреть, моего самого младшенького?
– Ему уже, должно быть, около года?
– Что ты, Петенька! Второй уже пошел! Мои сыновья растут. Тут ты прав – один обгоняет другого…
Из комнаты в дальнем конце слышались звуки клавесина.
– Не будем мешать Лизаньке – у нее уроки. Только третьего дня она начала их брать. Здесь, в Петербурге, несравненно удобнее, чем в Москве, дать детям образование. Учителей всякого рода – не оберешься. Вот почему я так счастлива переезду. Но дети, ух учеба и развитие – одна причина, которая делает меня счастливой. Другая – возможности, которые столичная жизнь открывает мне самой. И что – скажу прямо – льстит моему самолюбию.
Они прошли в гостиную и сели на кушетку.
– Ты знаешь меня: никогда и ни у кого я не искала для себя никакой протекции. Я жила в Москве, где у меня и так была масса знакомых и очень близких мне людей, которых любила я и которые отвечали мне теми же искренними чувствами. Вот за что я так любила и продолжаю любить родную Москву. Но здесь, в Петербурге, я открыла для себя такую сторону жизни, которую до сих пор не знала.
– И в чем же эта новая сторона? – поинтересовался Петр.
– В том, мой друг, что я по-новому увидела себя самое.
– Сие необыкновенно.
– Вот именно! Я увидела, Петр, что я на самом деле стою и что я – мой ум, мое воспитание и образованность, наконец, мое очарование, что для женщины немаловажно, – все это ни в коей мере не уступает перед теми, кто здесь – столичные круги и высший свет.
– Высший свет это, конечно, двор. Увы, мне сие трудно представить. Давний мой визит вместе с вами, тетенька, во дворец князя Потемкина – моя единственная встреча с теми, кто хотя бы приближенно мог относить себя к свету. А что касается императорского двора – его совершенно не представляю.
– И я до сих пор никогда не была при дворе. В том-то все и дело, что оказалась впервые на вечере в Эрмитаже, в присутствии самой императрицы. И нашла, что я достойна того, чтобы пользоваться вниманием, которого многие в том, высшем, кругу добиваются по десяти и пятнадцати лет.
Анна Александровна просто, но так, что за каждым ее словом чувствовалась гордость собой, поведала племяннику, как была представлена государыне и как ее величество удостоила ее ласковыми словами.
– А ведь я, мой друг, повторю еще раз, никак и ничем не добивалась высочайшего внимания к своей особе.
Князь Петр тотчас поведал тете о своем разговоре с ее мужем Борисом Андреевичем. И о сомнениях, которые вызвал у него тот разговор.
Петр сходился с тетею в том, что должно высоко нести свое достоинство, никогда не заискивая пред сильными мира сего. Но стоит ли в таком случае находить достойным твоего восхищения их, стоящих высоко над тобою, внимания к твоей персоне? И более того – считать сие мерилом твоей собственной значимости.
– Ты служишь чему и кому? – Царственная повадка княжны Грузинской вдруг явно проявилась в том, как Анна Александровна вскинула свою красивую голову. – Жизнь свою ты, князь Багратион, готов отдать отечеству и монарху, что блестяще уже успел доказать не раз. В таком случае разве государыня, великие князья не вправе знать о твоих поступках? Разве сие не их обязанность – отдать должное твоей одаренности, твоему искусному и достойному похвал поведению на поле боя, наконец, твоей преданности престолу?
– Награды не выпрашивают. Разве не вы, тетя, только что говорили о презрении к искательству? – остановил ее племянник.
– Друг мой! – Анна Александровна взяла его руку. – Верно и в свое время оценить содеянное означает поощрить к свершениям новым. Как бы одарить крыльями того, кто только и ждет, чтобы подняться еще выше. А свершения подданных – могущество и слава монархов. Разве твои ратные подвиги не к сим великим понятиям устремлены? Всею душою я чувствую: ты – горный орел. И ты обязательно обретешь крылья, с помощью которых непременно поднимешься в такие выси, которых до тебя еще никто не достигал. И тебе вовек будет благодарна Россия.
При последних словах тети в гостиную стремительною походкой вошла средних лет дама и, приветливо улыбаясь, произнесла по-французски:
– Я вам не помешала?
– О, как я вам рада, мадам Лебрен! Представьте, я только что собиралась рассказать о вас моему племяннику. Горю желанием представить вас друг другу.
Анна Александровна сказала, что Виже Лебрен – самая превосходная, самая известная в Петербурге парижская художница. Князя же Петра отрекомендовала как героя недавней войны.
– Будь добр, не смущайся, – обратилась она к нему по-русски, – ты ведь довольно знаешь французский, чтобы не только понять наш разговор, но и принять в нем участие.
Петр и вправду вначале смутился. Когда-то, впервые приехав в Москву, он по настоянию тети стал брать уроки французского, которого до той поры не знал.
Учителем оказался старый француз, живший в доме Дарьи Александровны. Изо дня в день застенчивый, но упорный юноша постигал тайны чуждой речи, которая все более и более его завораживала. Вскоре он стал хотя и с ошибками, но говорить уже бойко. А читать – даже успешнее, потому что здесь его никто не мог смутить тем, что он в чем-то ошибся.
Однако сколько с той поры воды утекло? Лишь изредка ему попадалась случайная французская книжка да иногда встречался кто-то из говоривших на сем языке.
Со знающими отменно он не решался говорить, но понимал почти все, что при нем произносилось. Так вышло и на сей раз: он понял разговор, но сам предпочел говорить по-русски, надеясь, что тетя переведет его ответы, а гостья извинит.
Виже Лебрен и впрямь оказалась художницей, которой в Петербурге, как сказала Анна Александровна, не было прохода – каждый приличный дом старался ее заманить, чтобы заказать портреты. Особенно преуспевали дамы из высшего света.
– Мадам Лебрен обладает одной удивительной способностью, – с милой улыбкой объяснила Анна Александровна Петру, – она нас, свои модели, делает более очаровательными, чем мы есть в жизни.
– О нет! – не согласилась Виже. – Князь Петр может подумать, что я таким образом всем вам льщу. Ничуть не бывало! Просто в каждом лице я отыскиваю ту черточку, что составляет главное существо характера моей, как выразилась княгиня Анна, модели. Не правда ли, любой человек, особенно если это женщина, – превосходен, если в лице его выражается все то лучшее, что в нем самом заключено?
– Ах, как вы правы, мадам! – вырвалось у Багратиона, и он покраснел, заметив, что сказал это по-французски.
В комнате, которая временно была отведена под мастерскую, на мольберте стоял холст в подрамнике. Голова Анны Александровны была уже вчерне прорисована. Но лицо еще не было окончено.
– Угадайте, князь, над чем я бьюсь, чтобы выявить главную сущность княгини? – обратилась художница к Багратиону.
– Душа. А душа – эфемерна, ее не отобразишь на полотне. Не так ли?
– Браво! – воскликнула мадам Лебрен. – Вы угадали, князь. Но глаза, глаза! Разве они не зеркало души?
Глава шестаяПятого ноября 1796 года, где-то в середине дня, великий князь Павел Петрович сидел в одной из беседок своей любимой Гатчины и пил кофе. Неожиданно ему доложили: прибыл граф Зубов.
Павел страшно побледнел. Как, этот негодяй и развратник, очередной фаворит его матери? Да как он посмел! И тут же новая мысль едва не разбила его в параличе: а вдруг по приказу маменьки ее любимчик приехал его арестовать?
Ходили ведь слухи: не его, сына и законного наследника, а своего внука Александра[14]14
Великий князь Александр Павлович, будущий российский император Александр I (1777–1825), старший сын Павла I.
[Закрыть] императрица назвала в завещании своим преемником.
От испуга почти лишенный дара речи, он ничего не успел указать камердинеру, как увидел на дорожке парка спешащего к нему генерала.
Да, это был Зубов. Но не Платон, а его родной брат. Тут же отлегло! Выходило: по всей вероятности, какое-либо сообщение от матушки.
А может, она дала коварный приказ – не просто арестовать, а убить?
С них может статься – что матушка, что ее любовники.
Оба Гришки – сначала Орлов, а затем Потемкин, – никого не стыдясь, открыто насмехались над ним, великим князем. Этот же, самый молодой и самый, должно быть, наглый из них, что на целых сорок лет был моложе царицы, вовсе лишился всякой совести. Однажды его, сына императрицы, целый час продержал пред дверьми своего кабинета, так и не приняв.
Николай Зубов еле перевел дух от быстрой ходьбы и, сняв шляпу, поклонился:
– Спешил, ваше высочество! Чтобы, значит, опередить, первым сообщить: вам следует пожаловать в Зимний дворец. Императрица… ваша матушка… Надеюсь, ваше в-в-высочество, вы еще поспеете… Лошади уже ждут…
Во дворце перед Павлом все почтительно расступались. Он же, даже не заглянув в спальню, где кончалась его мать, бросился в комнату рядом.
Вот и бумаги ее! Павел оглядел сановников, что находились здесь же, и понял: они что-то искали. Он пристально вгляделся в лицо каждого и, с трудом скрывая волнение, спросил:
– Вы ничего не обнаружили, касающегося до меня?
– Ничего, ваше…
Слава Всевышнему! Все сорок два года, как появился на свет, он ждал этого дня. Сейчас, сейчас все должно свершиться – он станет императором.
А завещание? – вдруг содрогнулся он. Враки. Его не могло быть. А если оно и существовало, то эти, стоящие сейчас перед ним, бумагу сию уже уничтожили или, найдя, сегодня же сожгут в его присутствии. Ведь как лебезят, как затрепетали!
Что ж, от страха до преданности – один шаг. «Мне теперь будут нужны те, кого унижала матушка, и те, кто теперь уже предвкушает мое величие».
Он бросил взгляд на Николая Зубова. «Отчего он спешил ко мне первым? Хотел поступком своим спасти брата, а может, и самого себя? Его, его – братца! Сам, конечно, был также в фаворе, всегда на глазах у матушки. И место хорошее, и дуру в жены ему подобрала сама – дочь фельдмаршала Суворова.
Ладно, с каждым сам разберусь. Но матушкин разврат и ее порядки, дух потемкинский и в армии и в государстве истреблю начисто!..»
Как привечал бессовестных карьеристов и как злопамятно мстил своим врагам, вскоре поведает судьба братьев Зубовых. Платону, чтобы сделать больнее, сначала, обняв, скажет:
– Все я забыл. Кто старое помянет… Так вроде бы говорится?..
А затем отправит в отставку, предаст суду и вышлет за границу.
Николая же сделает обер-гофмаршалом своего двора.
Но верх окажется за братьями – и Платон и Николай примут самое рьяное участие и в заговоре против Павла, и в его убийстве. А пока…
На другой день, к вечеру, все было окончено – матушки не стало. Новый император, взяв за руки двоих своих сыновей, появился перед толпою придворных, уже готовых к принятию присяги.
Он был в узком, стеснявшем фигуру мундире прусского образца. В такую же военную форму, в которую недавно одевалась лишь личная гатчинская гвардия Павла Петровича, были облачены Александр и Константин. Они напоминали собою старые портреты немецких офицеров, выскочивших из своих рамок, как полушепотом высказался кто-то из острословов после сей церемонии.
Сии ехидные слова могла бы произнести и Анна Александровна Голицына, к тому времени совершенно уверовавшая в явное превосходство своего острого ума над сонмом заискивающих посредственностей. И вела она себя, можно сказать, иногда даже вызывающе независимо. Не случайно однажды Павел, выведенный из себя неучтивостью княгини по отношению к порядкам при его дворе, приказал «намылить ей голову».
Сказана было, безусловно, в том смысле, чтобы строго ее отчитать. Но такая уж наступила пора – исполнители стали проявлять старания, в которых наряду с подчеркнутой исполнительностью сквозила и неприкрытая насмешка.
Да и как, с другой стороны, возможно было определить, где буквальное указание, а где – некий словесный оборот, если именно за точное следование приказам люди получали поощрения самым немыслимым образом?
Получив указание императора, петербургский военный губернатор граф Пален, приехав в дом княгини, спросил таз, мыла, горячей воды и самым почтительным образом выполнил предписанное ему поручение.
Вот происшествие, похожее скорее на анекдот. Но в нем очень точно схвачена логика крайних требований императорской воли, которые любое самое здравое дело могли довести до абсурда и ужаса.
В одной деревне, где остановился полк, к командиру эскадрона, сидевшему за приятным обедом, явился вахмистр.
– Ну что?
– Ваше благородие, все благополучно, только жид не хочет отдать сено по той цене, которую вы назначили.
– А у других жидов разве нет?
– Никак нет-с.
– Ну, делать нечего. Дай жиду сколько спрашивает да повесь его!
Через некоторое время вахмистр возвратился.
– Ну что еще?
– Все сполнил, вашбродь. Сено принял и жида, как вы изволили приказать, повесил.
По свидетельству современника, Павел, узнав о случившемся, разжаловал офицера в рядовые за соучастие в убийстве, но тут же произвел его в следующий чин за введение отличной дисциплины и субординации во вверенной команде.
Однако вернемся к общей картине тех новаций, что в одночасье привели к невероятным переменам всей российской жизни.
Столица внезапно, по существу в первую же ночь царствования нового императора, приняла вид немецкого города. В такую же форму, как государь и его сыновья, оказался одетым весь петербургский гарнизон – букли, косы, узкий мундир и узкие же штиблеты… Было бы в какой-то степени внешне не так трагикомично, ежели бы форма сия оказалась современной, в которую в ту пору была облачена и немецкая армия. Так нет же! Хуже и придумать было нельзя: гвардию и армию переодели по тому образцу, который существовал в немецких государствах чуть ли не сто лет назад.
В полках еще помнили слова Потемкина: «Завиваться, пудриться, заплетать косы – разве это дело солдат? У них нет камердинеров!»
Но вон, вон из голов эту придумку «кривого»! Все должно быть так, как у Фридриха Великого[15]15
Фридрих II (1712–86), прусский король из династии Гогенцоллернов, крупный полководец; в результате его завоевательной политики территория Пруссии почти удвоилась.
[Закрыть]. Солдат – автомат, инструмент для беспрекословного исполнения приказов, не допускающего никаких собственных размышлений и маневров. Солдат – атрибут государства и императора. Вещь, предмет неодушевленный. А коли он – атрибут, знак государства, то и весь его вид обязан соответствовать представлению об этом государстве – один к одному, у всех одно, им, императором, заданное лицо.
Павел достиг, чего хотел, – ни один солдат не отличался от другого в роте, батальоне, полку. Но какими мучениями сие достигалось! За день до развода или учений солдаты проводили над буклями и косами целую ночь. Парикмахеры – по два на эскадрон или батальон должны были употребить нечеловеческие усилия, чтобы справиться с обязанностями.
Делалось сие таким образом. Кауфер, то бишь парикмахер, пропитывал волосы своего пациента смесью муки и сала, смоченных квасом. Для этого они набирали предварительно в рот квас и прыскали им на солдатскую голову, скручивая нещадно волосы и втирая в них что есть силы сию дурацкую смесь. Операция производилась так грубо, пальцы кауфера так сдавливали головы, что многие лишались чувств, как под пыткой.
Впрочем, пытка продолжалась и после завивки. Нельзя было прилечь, чтобы не испортить прическу, и солдат остаток ночи проводил без сна, торча как какой-нибудь оловянный солдатик или попросту чурбан.
Мундиры настолько были узки, что в них трудно было дышать. Узкие штиблеты жали ноги. А с рассвета, уже на плацу, муштра продолжалась с еще более изуверскими ухищрениями. За оторванную пуговицу солдата ждала палка, офицера и даже генерала – отставка. Ежели не в порядке полк, не так исполняет предписанные артикулы, могла последовать команда самого императора:
– Левое плечо – вперед! В Сибирь – шагом марш!..
Вся столица стала казармой. Под строгие требования государя подпали не одни только военные. Было объявлено, чтобы «торгующие фраками, жилетами, стянутыми шнурками и с отворотами сапогами или башмаками с лентами их отнюдь не продавали, под опасением жестокого наказания».
Полицейские чины стали сновать по всему Петербургу с палками, которыми сшибали с прохожих круглые шляпы французского образца, кои были, так же как фраки, жилеты и обужа с лентами, строжайше запрещены.
Разрешалось носить только «немецкое платье с одинаковым стоячим воротником». Вводились немецкие же камзолы, башмаки только с пряжками, отменялись галстуки, косынки и платки, коими увертывали шею. Шея, говорилось в объявлении полиции, обязана быть без «излишней толстоты», для чего, кроме галстуков и платков, брались, так сказать, под арест и жабо, успевшие к тому времени войти в моду.
Все офицеры, гражданские чины, дворяне и иные сословия, надевающие немецкое платье, обязаны были пудрить головы. У Павла Петровича вызывало гнев одно упоминание о французских нарядах. Он говорил, что терпит в столице семь модных парижских магазинов лишь по числу семи смертных грехов.
К подобным «грехам» были отнесены вальсы, которые отныне нельзя было танцевать, и русские наряды, в которых до сей поры, по повелению Екатерины, появлялись на балах даже самые знатные дамы.
К своей персоне новый государь требовал особого поклонения. При представлении ему следовало не просто стать на колено, но ударить этим коленом об пол так громко, как будто ружейным прикладом. Протянутую государем руку надо было целовать, громко чмокая, чтобы звук поцелуя слышали все окружающие.
Мимо императорского дворца полагалось проходить не иначе как сняв шляпы. Гуляющие же в Летнем саду, считавшемся государевым, вовсе должны были прохаживаться без шляп.
Что же оставалось делать кучеру, когда карета приближалась к царской резиденции? Он брал вожжи двумя руками – это тоже стало обычаем в Павловом Петербурге, а шляпу тем временем схватывал зубами.
Кстати, о едущих в каретах. При встрече с императором им следовало останавливаться и проворно выходить. И не важно, кто они – вельможи или дамы уже преклонных лет, молодые актрисы, едущие из театра в бальных туфельках, – все вон! В любую погоду – в снег, грязь по колено, в слякоть и даже в оказавшуюся у подножки огромную лужу…
Только после того, как несколько дам иностранного происхождения таким образом в дурную погоду промочили ноги и продрогли под проливным дождем, делая реверансы проезжавшему мимо Павлу, он сделал для некоторых иноземок исключение. Разрешил в плохую погоду, выйдя из дверцы, оставаться на подножке кареты.
Такое позволение, кстати, получила мадам Виже Лебрен, чем несказанно гордилась. На подданных и иностранцев мужского пола, невзирая на их заслуги и даже преклонный возраст, сие исключение не распространялось. Они обязаны были проворно вылезать из экипажей и, вытянувшись по стойке «смирно», снимать шляпы и кланяться монарху.
Но не дай Бог, если кто не остановится или не покинет вовремя мягкого и уютного сиденья. В подобном случае карету задерживали и конфисковывали, а кучера и лакеи подвергались немедленной порке.
Неимоверные строгости вскоре привели к тому, что улицы Петербурга, особенно в самом центре и примыкающих к нему местах, постепенно пустели. Только всюду торчали, вызывая страх и самые неприятные мысли, полосатые – белое с черным – будки часовых. А рядом с ними – такие же полосатые шлагбаумы. К ночи они запирались, при них выставлялись усиленные караулы, в домах же, как по команде, гасли огни.
Все в городе – Зимний дворец и сам Петербург – превратилось в огромную казарму. А казармы строились и там, где их не было. Для этого сносились на окраинах старые дома, расчищались поляны, на которых размечались новые плацы для обучения войск.
В разных местах столицы в течение целого дня слышались пальба и барабанный бой, под который экзерцировали мушкетеры и гренадеры, егеря, гусары, уланы я кирасиры…
Люди острого ума и язвительного языка в своих семьях или в кругу близких друзей отводили душу, высмеивая причуды нового государя. Боже упаси высказаться где-нибудь в общественном месте! Тут не то что целые выражения – каждое слово следовало тщательно подбирать.
Мало сказать, что как из ушата полились на русские головы немецкие слова, во многих случаях заменившие русские команды в войсках. Даже некоторые природно-отечественные речения, не имеющие никакого отношения к высшим государственным нововведениям, оказались под строжайшим запретом. К примеру, слово «курносый». Попробовал кто-нибудь внятно и громко его произнести где-нибудь на улице – тут же его под микитки и в полицейский участок.
– Вы это почему так непочтительно и запанибратски о его величестве государе всероссийском?..
Княгиня Анна Александровна не раз говаривала знакомым:
– Благодарение Богу, мы сие запретное слово у себя никогда не употребляем. У меня самой и особенно у моего племянника – носы другие…
А как же те, кому так просто не отшутиться, у кого обязанность – всякий день пред его оловянными очами и этим самым императорским носом пуговкой? Приходилось смиряться. Однако находились и такие, что бросали вызов императору-сумасброду и с гордо поднятой головой подавали в отставку.
Кончанское – в новгородских землях, за почти непроходимыми лесами и болотными топями.
– Прошка, ты какой подаешь мне пакет? На нем – адрес: «Фельдмаршалу графу Суворову». Таких здесь нет. Фельдмаршал обязан находиться при войсках, я же – только при тебе, своем камердинере, дурья твоя башка. Так и ответствуй тому курьеру из Петербурга: нетути здесь таких, кому император Павел отписал… К тому же сегодня я на похоронах. Доставай мой парадный мундир и бери лопату.
Фельдъегерь, только что прибывший из столицы, вытянулся в струнку, пропуская в дверях Суворова. Седой хохолок – торчком, кроме белой рубахи и белых же исподних, на Александре Васильевиче ничего нет.
Встречные мужики почтительно снимают шайки:
– Здравия желаем, Лександра Василич!
Ребятня за ним ватагой: старый барин опять что-нибудь учудит. Айда за ним!
На околице остановились.
– Рой, Прохор, здесь. А я зачну с другого конца. Землица рыхлая, мягкая, пусть она станет для покойника пухом.
– Да окститесь вы, Лександра Василии! Нешто видано это – заживо себя хоронить? – Прохор отбросил заступ.
– Ты вот что, Прохор, мне не перечь. Совсем ты меня Замордовал: этого нельзя, то – под запретом. Ты что – императором Павлом при мне заделался? Я должен раз и навсегда похоронить в земле то, что давно умерло, – славу Суворова.
Яма вышла не глубокой. Суворов взял с травы мундир – перезвоном отозвались брызнувшие вдруг под солнцем алмазы и золото орденов.
– Зарывай! Вот и конец фельдмаршалу. Ты здесь, императоров гонец? Скачи назад. Так и передай тому, кто тебя сюда направил: нету в Кончанском такого…
С первых же дней нововведений Павла Суворов их не принял:
– Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец – природный русак.
В нескольких словах – вся оценка того, что внедрял в войсках государь.
А по поводу нового военного устава – еще хлеще:
– Сие сочинительство – перевод манускрипта, на три четверти изъеденного мышами и найденного в руинах старого замка. Чему мне учиться у пруссаков, которых я сам, в молодости еще, нещадно бивал? А вот на моей, суворовской, тактике учились французы и их молодой генерал Бонапарт[16]16
Наполеон Бонапарт, будущий французский император Наполеон I (1769–1821). Бонапарт начал службу в войсках в 1785 г, в чине младшего лейтенанта артиллерии; выдвинулся в период Великой французской революции (достигнув чина бригадного генерала). В ноябре 1799 г, совершил государственный переворот (18 брюмера), в результате которого стал первым консулом, фактически сосредоточившим в своих руках всю полноту власти; в 1804 г, провозглашен императором. Поражение наполеоновских войск в войне 1812 г, против России положило начало крушению империи Наполеона I. В 1814 г. Наполеон был вынужден отречься от престола и был сослан на остров Эльба. В марте 1815 г. он вновь занял французский престол, но после поражения при Ватерлоо вторично отрекся от престола. Последние годы жизни провел на острове Святой Елены пленником англичан.
[Закрыть]. Глядите, как широко и твердо шагает сей мальчик. Пора бы унять! Но чем – пудрой и буклями?
Он передал Павлу прошение:
– Мне поздно переменяться, ваше императорское величество. Я хорош только для войны, а, простите, не для плац-парадов.
Шестого февраля 1797 года, после развода войск, Павел отдал приказ: «Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь его императорскому величеству, что так как войны нет – ему нечего делать, за подобный отзыв отставляется от службы».