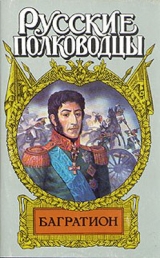
Текст книги "Багратион. Бог рати он"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 42 страниц)
Небольшая бодрая лошадка гнедой масти, пробежав дробною рысью несколько сажен по хорошо укатанному большаку, в Семеновской перешла на спокойный, даже ленивый шаг. Сидевший на ней Кутузов сделал знак сопровождавшим его конвойным казакам остановиться и стал медленно слезать с седла. Один из донцов, уже спрыгнув с коня, тут же подставил под ноги светлейшего специально возимую с собою скамеечку, и Михаил Илларионович грузно опустил на нее отекшие ноги.
– Ну, как ты тут, князь Петр, готов к встрече гостей? – ступил со скамеечки и протянул руку подошедшему Багратиону главнокомандующий. – Ладно, ладно, не докладай, сам вижу: Избы в Семеновской почти подчистую разобрали и флеши строите споро. Но по лицу твоему угадываю, князь: беспокоен ты.
– То не беспокойство, ваша светлость, – твердо ответил Багратион. – То – расчет не в мою, осмелюсь заметить, пользу. Давеча вы мне сказывали: левое крыло изволите исправить искусством. Чьим? Фортификационным? Но все основные укрепления возводятся не на моем, а на правом фланге. Я уже успел там и сам побывать, и отсель, из Семеновской, мне отлично видать, что там строят. Извольте, Михайло Ларионыч, вот труба, взгляните.
Кутузов вздохнул и присел на скамейку. В правой руке – нагайка, одутловатое лицо замерло в неподвижности.
– Ты вот, князь, друга своего графа Ростопчина письмо мне зачитывал, – спокойно тихим старческим голосом произнес он. – Дескать, всею душою и всем сердцем рвется он на защиту Москвы. Похвально сие рвение! Но сколько я ему, лишь только прибыв к армии, писал и челом бил: пришлите, граф, мне лопат, топоров и пил для инженерных работ. И что ж? Сам ты небось здесь что сыскал в покинутых домах, тем и копаешь, так ведь? А от Ростопчина – ни одной лопаты и кирки! Вгрызайся в землю чем хошь, хоть моею вставною челюстью.
«Уполз, словно уж, в сторону, – досадливо поморщился Багратион. – Я к нему как бы: «Который теперь час?» Он же мне в ответ: «Спасибо, я уже отобедал». К чему мне весь этот камуфляж? Ежели сам признал, что левое крыло уязвимо особливо, то и брось сюда все имеющиеся в твоем распоряжении инженерные силы! На что же расчет? На меня, князя Багратиона, который все вывезет, как всегда? Как, к примеру, в восемьсот пятом годе под Шенграбеном? Сам тогда ведь признался со слезою в глазу: оставил тебя, князь, смертником, дабы спасти основную армию. Теперь же я сам себя в сей новый капкан загнал: более всех других ратовал за сражение, вот и получай, что хотел, – ложись костьми. И лягу, ваша светлость! Тут вы безошибочно изволили расчесть: Багратион не побежит, будет стоять до конца. А примет-де на себя весь неприятельский натиск, правому крылу, что и так отменно защищено, можно будет спокойно, оторвавшись от битвы, уйти по Большой Смоленской дороге к матушке-Москве. А может, и далее ее, Белокаменной? Неужто сия мысль на уме у него, нового нашего вождя? Все может статься. Хитер! Я же, наивная душа, еще пред войною его через государя на решительный натиск на турок подвигал. Он же, лукавый, тогда ни гугу! И что же? Извернулся ужом, когда пред войною к государю императору в Вильну был Наполеоном подослан граф Нарбонн. Тот прибыл как лазутчик, дабы проведать, готовы ли русские опередить французов наступлением? Кутузов же возьми и представь сей Нарбоннов визит как знак крепнущей русско-французской дружбы. Да ловко так турок обвел вокруг пальца, что те, убаюканные, и согласились на мир… Ловок, лобок новоявленный князь! Даром, без тайной задумки, и шага не сделает! Зачем же ко мне пожаловал ноне? Подольстить, успокоить? Да мне того и не надобно – рвался в сражение не для показного вида. Знаю: теперь пробил час всем, может быть, умереть, а врага одолеть! И он ведает то; князь Багратион живым не сойдет с места. Так зачем же пожаловал главнокомандующий?»
Как всегда оказывается накануне самого решающего, самого судьбоносного мгновения в человеческой жизни, когда на кон ставится не только собственное твое существование в сем благословенном мире, но и дело, коему ты сызмальства служил верою и правдою, Кутузов так же в этот тревожный час не мог не говорить себе всего, что переполняло его душу.
Наверное, все, что думал теперь о нем Багратион, что знали о нем, старом генерале, там, в Санкт-Петербурге, царедворцы и сам император, наконец, что знали о нем боевые генералы и солдаты, с коими он был не в одном страшном сражении, – было правдой. Правдою как бы с двумя ее не похожими Друг на друга ликами, как бывает в жизни каждого человека. И сам он, старый русский генерал, знал за собою всякое. Ибо у него была длинная и суровая жизнь воина, непростая и нелегкая планида, человека, вовлеченного волею судьбы в жизнь не только военную, но и придворную, – с ее соблазнами и лукавством, с ее изворотливостью и ловкостью в сношениях между людьми, что со стороны всегда кажется наполненной изъянами и сплетнями.
Но одного нельзя было у него отнять – огромного опыта, рожденного именно сей сложной и неоднозначною жизнью, чего недоставало многим его сподвижникам. И еще огромной любви к родному отечеству, какую, напротив, могли с ним вместе так же остро чувствовать и со всею пламенностью сердца разделять многие и многие русские люди, в том числе, разумеется, и князь Багратион. Однако ни князь Багратион, ни кто другой в тот час на поле Бородина не мог испытывать всей непосильной тяжести ответственности за судьбу армии, судьбу Москвы и судьбу России, которая отныне была возложена на его, Кутузова, плечи.
Тень Аустерлица, наверное, навсегда омрачила его душу. И он, даже оправдывая себя пред лицом потомства, вряд ли мог до конца оправдаться пред своею совестью за то ужасное поражение. Но был ли он всецело в нем виноват? Вряд ли. Виной всему, наверное, были Обстоятельства, при которых тогда, семь лет назад, он вынужден был принять на себя командование. И обстоятельства сии были – мощь и неодолимость той силы, которую противопоставил своим врагам Наполеон.
Ныне обстоятельства повторялись своей поразительною схожестью. Причем даже с более роковою опасностью: война угрожала разгромом не только армии, поруганием ее чести, но грозила всему отечеству, поскольку шла не на чужой земле, а на своей, собственной. И что совсем уж было непереносимо для каждого русского сердца – война неумолимо Двигалась к стенам Москвы.
Если бы, прибыв к армии, Кутузов вместо слов: «Как же можно с такими орлами да отступать?» – сказал бы то, что с первого дня своего назначения он говорил себе и самым близким к нему людям: «Вы думаете, что я надеюсь разбить Наполеона? Нет. Но обмануть – хочу», – сии слова стали бы концом его популярности в войсках и в народе русском. Однако в глубине души своей он знал: ни Бородино, ни какое иное генеральное сражение не разобьет Наполеонову силу.
Сравнивая положение своей Второй армии, находящейся на левом крыле при Бородине, с положением Первой армии на фланге правом, Багратион употребил такое понятие, как расчет. А вот каков был расчет, не выходивший из головы Кутузова, когда он сравнивал силы своего и Наполеонова войска, одновременно сходившихся к селу Бородино. Русские могли выставить 112 тысяч человек при 640 орудиях. У французов насчитывалось 130 тысяч и 587 орудий. Однако то была не вся арифметика. Потерпев неудачу, Наполеон мог бы дождаться подхода своих сил, что шли за ним следом, у Кутузова же не было никаких резервов. И он, потеряв половину своей армии, должен был бы отступить, отдав неприятелю Москву.
Собственно говоря, так все и произошло в итоге. Русские войска оставили на Бородинском поле именно половину своих офицеров и солдат – 58 тысяч человек. Французы лишились примерно 50 тысяч. Русская армия, вернее, то, что от нее осталось, отошла. Наполеон же вступил в Москву. Так чьей же оказалась победа? О Бородинской битве, уже находясь в изгнании на острове Святой Елены, Наполеон скажет: «В сражении у Москвы-реки французы показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».
Так стоило ли давать сражение, чтобы потерять половину войска и в результате отдать древнюю русскую столицу?
Сего итога битвы не мог знать Кутузов ни в день ее свершения, ни тем более за день до нее, сидя на своей походной скамеечке в деревне Семеновской. Он знал лишь соотношение сил и потому был убежден, что Наполеона не разобьет. Но он, приняв на себя командование войсками, знал и другое: что бы в сей день ни произошло, победа моральная, победа духа будет на стороне русской. И вот в этом они были едины – расчетливый Кутузов и отчаявшийся, изболевшийся сердцем Багратион.
А лучше и вернее сказать – были в сем решении едины все, от главнокомандующего и до любого нижнего чина, как тогда чаще всего называли солдат, которые в те дни сказали себе; умрем, но не отступим.
– Так вот зачем я пожаловал к тебе, князь, – вдруг сказал Кутузов и, опершись на плечо подбежавшего донского казака, встал со скамейки. – Редуты и флеши, что строим мы по всей, считай, округе, суть укрепления скорее для очистки совести. А крепость – она вот тут, в сердце нашем. Да тебе ли, князь, мне сие говорить? Другому – напомнил бы, а тебе – считаю излишним. Но насчет редута того, что вон там, впереди, у деревни Шевардино, скажу: построил ты его отменно, но, скорее всего, придется его со временем отдавать.
В сердцах князь даже воздел вверх руки.
– Так я же, любезный Михайла Ларионыч, как в воду смотрел, предупреждая вас: дозвольте мне отойти от сего кургана и оттянуть свой крайний левый угол подале от того шишака. На кой черт мне заключать свое крыло сим шишаком в открытом поле, где отовсюду я окажусь под обстрелом? Или у вас какая тайная мысль?
Кутузов отозвался не сразу. Вынув из бокового кармана мундирного сюртука платок, отер им вспотевшее от полуденного солнца лицо, затем белую пухлую шею.
– Тайны тут никакой у меня нету, – сказал. – А вот его, Наполеонову, тайну я сим Шевардинским редутом и хотел бы выведать. Говоришь, шишак? Верно. Вот и пущай он бросится в глаза Бонапарту, когда он подойдет к Колочи. Его зачнет штурмовать али, по своей излюбленной манере, ударит в центр, на село Бородино? Мне бы, не скрою, хотелось выманить его в чистое поле – к сему редуту. А тебя я в обиду не дам: вступишь в дело – сразу зачну переводить к тебе с правого крыла потребные силы. А теперь велю в тылы твои скрытно поставить третий корпус генерала Тучкова-первого – Николая Алексеевича. Пусть остается в Утицком лесу в сугубой непроницаемости до поры до времени.
Артиллерийский гул, что раздавался с самого раннего утра со стороны Колоцкого монастыря, часам к десяти уже превратился в отчетливо различимые пушечные залпы. А еще недавно чистое и ясное, без единого облачка небо за деревнею Шевардино вдруг закудрявилось черными космами дыма, которые стали быстро расти и приближаться вместе с громовыми раскатами.
– Началось, – произнес Кутузов и взглянул в лицо главнокомандующего Второю армией. – Ну, благослови тебя Господь, князь Петр Иванович!
Как всегда, когда начиналось дело, Багратион был невозмутим и предельно собран. Ничто в нем не выдавало не только беспокойства или, упаси Боже, тревоги, но простого волнения, свойственного каждому человеку в подобных условиях. И лишь тот, кто знал князя довольно близко и бывал рядом с ним не в одном сражении, по его вдруг воспламенившемуся взгляду мог безошибочно определить – пред ним бог войны. Точно какие-то невидимые магнитные волны враз побежали от него вокруг, сообщая каждому в его окружении тот заряд энергии, который необходимо сейчас проявить, чтобы они, эти заряды, слились в единую и несокрушимую силу, которая только и могла принести победу.
– Ну, я – туда, – спокойно произнес Багратион, уже вскочив на лошадь, и чуть заметно и как бы даже стеснительно улыбнулся Кутузову, словно извиняясь за то, что вынужден прервать их свидание.
Однако наружное спокойствие Петра Ивановича было обманчиво. Еще находясь рядом с верховным главнокомандующим, он по неимоверно быстро приближающейся пушечной пальбе безошибочно определил: арьергард генерала Коновницына разбит, поскольку отступает в такой поспешности. И весьма вероятно, что; отступая, несет на своих плечах если не всю Наполеонову армаду, то, по крайней мере, его авангардные силы. Вот почему ему, командующему левым сектором обороны, на котором это произошло, немедленно следовало самому оказаться на участке, грозящем если не прорывом, то уж неминуемыми смятением и расстройством.
От Семеновской до Шевардина было менее двух верст. Там, в верховьях ручья Чубаровского, на одном из холмов, что возвышался к юго-востоку от деревни, находилось только что воздвигнутое укрепление – редут.
Лишь поздним вчерашним вечером побывал здесь, на кургане, Багратион, а сегодня не узнал сей высоты. Вал на вершине был полностью закончен и представлял собою как бы пятиугольную земляную крепость. Под этой крепостью проходил глубокий, со всех пяти сторон опоясывавший ее, ров. Все силы были брошены на сооружение редута. Кроме солдат пионерной, то есть инженерной, роты, здесь вовсю трудилась пехота. И было совершенно необъяснимо, как менее чем в двое суток здесь, на холме, грунт которого едва поддавался лопатам и киркам – настолько он был тверд и каменист, – возникло такое сооружение.
– Землю пришлось носить с поля в корзинах за десяток сажен, – объяснял Багратиону инженерный поручик. – А все ж, глядите, ваше сиятельство, какой высоты бруствер! Уже закатили за него двенадцать артиллерийских орудий. Обеспечен круговой обстрел, причем на дальние дистанции. Остальные же пушки – еще двадцать четыре дула – расставлены в земляных укрытиях по всей линии за редутом. Да вон и князь Горчаков идет. Он вашему сиятельству доложит самым подробным образом.
Генерал-лейтенант Андрей Горчаков, только вчера назначенный командиром отряда для обороны Шевардинского редута, слегка дотронувшись щепотью пальцев до края головного убора, протянул руку своему начальнику.
– Полки двадцать седьмой дивизии я растянул в линию сразу за курганом. Фланги прикрыты так: правый – драгунами и конною артиллерией, левый – кирасирскою дивизией в сгущенных полковых колоннах. В кустах вдоль Колочи и дороги – стрелки и легкая конница.
– Отменно распорядился, князь Андрей, – пожимая руку давнему другу, похвалил его Петр Иванович. – У тебя что – двенадцать тысяч пехоты и четыре тысячи кавалерии? Полагаю, куда с добром! Чуть ли не третья часть всех моих сил. Так что смотри: пойдет неприятель в ином направлении – толику твоих войск заберу.
– Как бы мне у вас сикурса запрашивать не пришлось: поглядите, вон уже кавалерия Коновницына показалась – во весь опор скачет сюда. А за нею-то, за нею – пыль столбом! Неужто вся Наполеонова рать наседает? Да не иначе – так! Стал бы Петр Петрович да с кавалерией Уварова так поспешно отходить, ежели был хоть и двойной перевес? Тут, дорогой Петр Иванович, как бы не началом самого генерального сражения пахнет. Ну – давно пора! Разве не так?
– Так, истинно так, Андрюша! Ты верно сказал: давно пора! – с чувством произнес Багратион. – А то, что тебе первому предстоит открыть сие долгожданное дело – рад за тебя. Кому же, как не родному племяннику великого Суворова! Так что сделай, князь, почин, коего неустрашимость и стойкость осталась бы гордостью воинов русских. А я по линии – далее, к Раевскому. Всем, видно, придется вступить нынче в дело.
Хотя Андрей Горчаков был чуть ли не на пятнадцать лет моложе Петра Ивановича, но еще с Итальянского и Альпийского похода сошлись они и полюбились друг другу. Теперь, оставляя защиту кургана на тридцатидвухлетнего друга-генерала, Багратион нисколько не сомневался в том, что он не отступит, не сдаст занятой им позиции. Однако и осадок от разговора со светлейшим не проходил: зачем так расточительно заставил Кутузов раскидать и так мизерные силы Багратиона, чтобы, считай, со всех сторон поставить их под удар?
«Слева и сзади у меня – Старая Смоленская дорога и Утицкий лес, – рассуждал про себя князь. – Появись оттуда французы – крайний левый фланг защитить нечем. Теперь – вот этот, выдавшийся вперед курган у деревни Шевардино. Окажись он и впрямь, не дай Бог, на главном пути наступления французов, они обойдут его со всех сторон. И мало того, скрываясь за его огромною массой, вынырнут уже в прямой досягаемости пред Семеновской деревней и пред главною орудийною батареею на моем правом фланге, где стоит корпус Раевского. Не случится ли и он – гол как сокол, доступный вражескому обстрелу тож почти со всех сторон? Нет, что ни говори, а беда сия, когда чья-то высшая стратегия идет вразнотык с тактикою, проистекающей из возможностей войск, не на карте, а уже расположенных на местности. Не получится ли так, что, переменив Барклая, который не великий полководец, мы и тут потеряем? Получим уже не двух, а, скажем, трех главнокомандующих, у каждого из которых – свой взгляд и на методу, и на сам театр войны? Да, видно, делать нечего: не Михайле Ларионычу, а мне здесь с моими друзьями-генералами стоять до конца, а коли придется, то и умирать. Не с Кутузовым мне теперь спорить, а, знать, с самим Наполеоном и его маршалами. И только от меня, а не от Кутузова будет нынче и завтра зависеть, пройдет ли враг мою позицию».
А меж тем неприятель уже на расстоянии полной видимости всею своею мощью подходил к дотоле никому на Руси, наверное, не известной речке Колочи, что недалече отсюда впадала в Москву-реку и опоясывала собою немалый участок земли между Большою, или Новою, и Старою Смоленскими дорогами. Багратион вскинул к глазам подзорную трубу и увидел прямо пред Шевардинским редутом, от коего он только что отъехал, – три огромных клуба пыли. То были три колонны французских войск, двигавшиеся друг от друга на равном между собою расстоянии.
Впереди, сзади, с обеих сторон ухало, вздымались султаны дыма, а людские три реки продолжали течь и течь по широкой равнине, то скрываемые перелесками, то выходящие вновь на открытую местность. Солнце, выныривая из клубов пыли и дыма, сверкало на гранях штыков и стволах орудий, кои двигались в людском и кавалерийском стройном строю. Но вот движение враз замерло, остановилось, когда с Шевардинского редута грянули один, затем другой и следом третий залпы и защелкали дружные выстрелы егерей, расположившихся на дороге, ведущей к берегу Колочи.
Услышав выстрелы с правого берега, Наполеон, двигавшийся во главе средней колонны по Большой Смоленской дороге, приказал остановиться в деревне Валуево. Он тотчас обратил внимание на возвышающийся редут русских на противоположном берегу, откуда был как раз открыт огонь.
Как и за день до него Багратион, французский император сразу сообразил, что сей укрепленный холм – опасная помеха. Не столько своим огнем, но скорее самим расположением курган мешает наблюдению за неприятельскими войсками, скрывая их готовность к возможному нападению.
– Взять это укрепление! – повелел Наполеон, ничуть не сомневаясь в немедленном выполнении приказания, хотя время близилось уже к четырем часам пополудни и развертывать целую войсковую операцию на склоне дня было рискованно.
Начальник генерального штаба Бертье, дабы решить задачу без промедления, отрядил отменные силы. Два кавалерийских корпуса под командованием Нансути и Монбрена, три пехотные дивизии – Морана, Фриана и Компана – из корпуса Даву получили приказ переправиться на правый берег Колочи, вытеснить оттуда русских стрелков, атаковать и занять редут. Содействовать им должен справа пятый корпус Понятовского. Всего на редут было брошено сорок тысяч человек – тридцать тысяч пехотинцев и десять тысяч кавалеристов.
Левый берег огласился восторженными криками одобрения и приветствия войскам, коим выпала честь первыми открыть сражение с русскими. Ни у кого не было сомнения в блистательном успехе штурма, коли сам император, несмотря на поздний час, повелел начать атаку.
Первыми бросились в наступление поляки, как когда-то при переходе Немана и при осаде Смоленска. Получив приказ обойти укрепление с юга и зайти в тыл к его защитникам, Понятовский обрушил удар на егерские полки. Он словно заводил невод, поднимая рои стрелков и грозя загнать их в глубину леса. Но на польскую конницу нашлась с ответом и наша кавалерия: полковник Эмануэль со своими киевскими драгунами и полковник князь Кудашев с кирасирами спутали все замыслы атакующих.
Дивизия генерала Компана, поддержанная конницею Мюрата, тем временем перешла Колочь и сомкнутыми рядами двинулась прямо на редут. Впереди двигался шестьдесят первый полк, не раз бравший укрепления штурмом. Вот его железные солдаты, как их звали в дивизии, уже взошли на курган, вот подступили вплотную к брустверу. Но залп прямо в лицо – и железные шеренги отступили.
Дорога на курган уже усеяна трупами – так плотно, волна за волною, наступают штурмующие и отходят, вспять, оставляя убитых товарищей.
Солнце неумолимо, клонилось к зениту, в клубах дыма редут был едва различим. Сигнал к новой атаке, и уже не одна дивизия Компана, а целых три, как и определено было диспозициею Бертье, двинулись на приступ.
Моран и Фриан шли со стороны хутора Алексинки, Компан – от деревни Фомкино. Курган вновь близок – всего двести пятьдесят шагов надо сделать железным солдатам Компана, чтобы опять оказаться на бруствере. На сей раз осаждающие подкрепили себя артиллерией. Но потребовался целый час, чтобы пройти двести шагов. И все же последние пятьдесят оказались неодолимыми. Русские бросились в штыки, и атакующие опять отступили, усеяв телами склоны неприступного холма.
Ах, как мужественно держала оборону двадцать седьмая дивизия Неверовского! Словно она опять вернулась в те недавние дни, когда ее стальное каре проходило сквозь строй кавалерии Мюрата в Красном, а затем, спустя сутки, неколебимо стояла на крепостных стенах Смоленска.
Сумерки сизою пеленою уже легли на окрестные поля, в низинах закурились белые туманы, а Наполеон все еще продолжал напрасно ждать реляций о победе.
И все же Компан прислал к императору своего адъютанта с желанным сообщением, когда во внезапно сгустившейся темноте вспышки орудий стали видеться как яркие красные костры.
Наверное, то наступил момент, когда, по замыслу Кутузова, надо было начать отход, бросив на произвол судьбы и на радость Наполеоновых солдат сей героический редут. Но можно ли было отступить, когда воля защитников оставалась несломленною и жажда мщения обжигала солдатские сердца?
«Такое не в моих правилах – бежать!» – сказал себе Багратион и объявился в расположении Второй сводно-гренадерской дивизии генерал-майора Воронцова.
Граф, я сам поведу ваши полки, – сказал он начальнику дивизии. – Редут надо вернуть. – И тут же, обратившись к скачущему за ним следом Голицыну: – А ты, князь Николай, лети к гренадерам принца Карла Мекленбургского. Ему мой приказ: сниматься с места – и к Шевардину.
Как бешено забилось сердце Николая, когда он бросился исполнять приказ брата!
«Да, вот он наконец, мой долгожданный час, коего я ждал все последние недели, – восторженно подумал юноша. – И я докажу всем, что я не трус. Я не потому когда-то покинул строй, что проявил малодушие. Я тогда думал о том, что более всего люблю музыку, что мое призвание – служение искусству. Но разве любовь к отечеству – не самое святое чувство, которое теперь каждый русский должен поставить на первое место? И пусть знает князь Петр, что он не обманулся во мне».
С самого начала войны Николай Голицын, как и обещал когда-то Багратиону, вернулся на службу. Он спешил ко Второй армии. Но все сложилось так, что пробиться к Багратионовым войскам было не так просто, и потому он пристал к штабу Первой армии, оказавшись порученцем у генерала Ермолова. Лишь под Смоленском, когда армии соединились, Николай разыскал Багратиона. Теперь он, его ординарец, впервые оказался в настоящем сражении и дал себе слово совершить такое, чтобы слава о нем облетела всю Россию. А главное, чтобы им гордился тот, кого он всею душою считал самым родным человеком.
Гренадеры генерал-майора принца Карла Мекленбургского появились у кургана в самый раз. Их собратья под водительством Багратиона, Воронцова и Горчакова уже оттеснили французов от подошвы холма. Теперь, собрав всю рассеянную пехоту, надо было отбить редут.
– В штыки, мои гренадеры! – воскликнул начальник дивизии принц Карл и, спешившись и обнажив шпагу, бросился вверх по узкой дороге, усеянной трупами солдат в синей униформе.
– Ур-ра! – неслось здесь и там. Николай, стараясь не отставать от генерал-майора принца Карла, тоже во все горло громко кричал «ура» и несся вперед, расчищая дорогу шпагой.
Кто-то из бегущих сверху французских солдат оказался перед ним и попытался поднять на него ружье.
«Господи! Да что же это такое, неужели это моя смерть? Но как же князь Петр узнает о том, что у меня только недавно было в душе, чем я гордился и чем хотел обрадовать его, моего кумира?» – подумал он и в этот же самый миг увидел, как солдат, прицелившийся в него, вдруг уронил свое ружье и упал лицом вниз.
– Поберегите себя, ваше благородие! Верно, впервые в деле? – услыхал он голос за своею спиною.
– Ах, это вы, как вас зовут? – не ведая, что говорит, произнес он. – Я обязательно скажу князю про вас. Честное слово, скажу непременно.
Однако ни ответа высокого и ладного гренадера, спасшего его, ни грохота взрывов, выстрелов и криков бегущих рядом и навстречу, Николай Голицын более не услышал. Он, получив сильный удар в голову, упал ничком в грязь и сразу потерял сознание.








