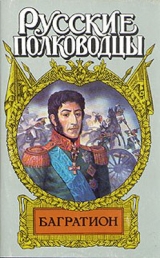
Текст книги "Багратион. Бог рати он"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 42 страниц)
Сквозь ажурную листву сначала промелькнула белая колоннада, и вдруг на следующем повороте аллеи открылся вид всего дома.
Дом был огромен – с высокою крышею и двумя просторными террасами, смотревшими в парк, состоящий из столетних дубов и лип. А перед парадным входом, обрамленным массивными колоннами, расстилалось множество цветочных клумб.
Усидеть в коляске более было невозможно, и Багратион велел кучеру остановиться за несколько сажен от дома, чтобы самому пройтись пешком средь царства жасмина и роз, обступивших его со всех сторон.
День выдался теплый самая макушка лета. И после долгой пыльной и тряской дороги чистый и прозрачный воздух, благоухающий всеми ароматами природы, и поразительная тишина показались нашему путнику волшебной сказкой.
Сколько же самых различных краев успел повидать на земле этот сорокапятилетний генерал, сколько открывалось пред ним самых разнообразных красот – от предгорий Кавказа и неприступных альпийских вершин до необъятных просторов Балтийского моря и выжженных солнцем степей Молдавии! Но, пожалуй, только одна вот эта с виду вроде бы и неброская красота среднерусской земли была способна вселить в человеческую душу чувство умиротворения и покоя.
– Ваше сиятельство, вы ли это? – услышал он голос и, подняв глаза, увидел у мраморной лестницы, ведущей к дверям, худосочного старичка, одетого в ливрейный фрак. – Тому две недели назад голубушка-княгиня Анна Александровна сказывали, что приедут-де князь Петр Иванович: И вот вы собственною персоною!
– Карелин? – откликнулся Багратион. – Ты жив еще, мой крестный отец. А я тебя нет-нет да вспоминаю добрым словом. Помнишь свой кафтан, что надел на меня в Санкт-Петербурге? Вот с того кафтана и до моего сегодняшнего генеральского мундира – весь мой ратный путь. Так что в моей славе – и твоя заслуга!
Багратион протянул дворецкому руку, а другою быстро обнял костистое старческое плечо.
Слезы брызнули из глаз старика.
– Господи! Князенька, Петр Иванович! Да сколько же слез пролила голубушка-княгинюшка, а с нею заодно и я, старый, когда доходили до нас слухи о ваших победах, в которых столько раз вас могла настигнуть неминучая смерть! Но, слава Богу, вот вы, живой и невредимый, и в таком благоуханном раю, как наши Симы.
– Рай! – с наслаждением повторил Багратион. – Попаду ли я, грешный, когда-нибудь в то царство праведников, куда открывает ворота сам Господь? Потому вот и решил хотя бы на время поселиться в сем земном раздолье. Николенька здесь?
– Здесь, здесь он, молодой князь! – радостно растворил двери дворецкий. – Вас с нетерпением дожидались. Так что – милости просим. Ваши комнаты давно уже готовы. Все – чин чином, как вы любите, чтобы просто, но опрятно.
Только успел Карелин договорить, как сверху перепрыгивая с ходу через две, а то и три ступеньки, – сам Николай Голицын.
– Ну, наконец-то! А то я, право, вас… тебя совсем уж заждался, – радостно просиял, обнимая гостя.
– Никак не привыкнешь – то «вы», то «ты»? – засмеялся Багратион. – Да ты ж погляди, как сам вымахал – меня давно перерос, а все в голову не возьмешь, что с тобою мы – двоюродные братья! Это когда бы ты под моим началом в строю был, тогда бы обязан был и «выкать» и, коль надо, сиятельством величать.
– Да я… – Широкое лицо Николая смущенно раскраснелось. – Я, понимаешь ли, из гвардии вышел. Разве мама с папа вам… тебе не говорили?
Они поднялись в комнаты Багратиона, куда уже из коляски были перенесены чемоданы. Багратион присел в кресло, вытянув ноги и расстегнув сюртук.
– Видишь, – продолжил начатый разговор, – у каждого своя планида. Я, как ты знаешь, в твои семнадцать лет уже тянул солдатскую лямку и не ощущал, как сие тяжело. У тебя с малолетства тож своя мечта: жить в мире звуков. Говорили: отменно играешь на виолончели?
– То верно. В Вене у Рейтора значился в первых учениках, – снова зарделся молодой Голицын. – Так что не баловство сие для меня. Потому собираюсь опять в австрийскую столицу, чтобы продолжить занятия по классу виолончели. Вена, ты же знаешь, музыкальный город. Там сам воздух – легок, светел и насквозь пропитан музыкой.
Вена… С каких пор при упоминании этого города точно ком подкатывал к горлу и перехватывало дыхание. С того лета, когда сам оказался с армиею на венских улицах? Но тогда поразило именно ощущение легкости, о чем сейчас сказал Николай. Спазма возникла позже. Вернее, совсем недавно, когда понял: Вена насовсем отняла у него ту, что, как это ни удивительно, продолжала жить в его сердце. Так что какой же это праздник души может быть связан теперь в его представлении с сим городом-разлучником?
И Николай Голицын, уловив на лице брата тень неудовольствия, невольно сокрушился, что задел больную струну.
– Конечно, и в других столицах есть прекрасные школы: фортепьяно, скрипки, той же виолончели, – поспешил он снять неприятное впечатление, которое произвел одним упоминанием своего любимого города.
– Не в том дело – Вена, Берлин или, скажем, Рим, – перебил его Багратион. – Война, Николай, на носу! Вот в чем суть, в чем ключ к нашим настоящим и будущим судьбам. К тому, брат, как каждому из нас определять свою жизнь. Конечно, можно стать венцем. Но оттого в твоих жилах не потечет австрийская кровь. Ты все равно останешься тем, кем ты есть, – русским человеком. И как тогда из того прекрасного далека ты и другие русские венцы будете смотреть, как я, такой же русский, как ты и они, буду драться с супостатами, не жалея своей жизни?
На сей раз спохватился Багратион: а не задел ли он ненароком в душе брата то, что невольно могло его обидеть?
– Прости, Николай, что я так резко и о тебе и о других… – Багратион встал и обнял брата. – У тебя золотое, доброе и чувствительное сердце. Я помню тебя с самого твоего рождения. И потом, когда ты рос и твоя мама учила тебя и твоих братьев и сестер называть меня дядею. А иначе ведь как? Большая разница в возрасте. Но теперь мы – взрослые. И потому равны. И потому я вот так с тобою – прямо и открыто.
– Да-да, брат! – просиял Николай. – Я очень хорошо понимаю тебя. И знаю, как это важно, всегда чувствовать себя русским. Вот граф Разумовский. Уж сколько лет живет в Вене! Казалось бы, и язык родной запамятовал. Ан нет! Там, в Австрии, он собиратель всех наших настроений, всех русских сил и интересов. И с ним – княгиня Багратион… Да-да, брат, уж коли зашла речь, ты должен знать: она истинный патриот! И у нее на устах – одно только твое имя, имя героя. – И, чтобы перевести разговор: – Да что наши, русские… Бетховен – я виделся с ним – последнюю свою симфонию, как известно, поначалу посвятил Наполеону. Но затем с гневом разорвал титульный лист сочинения с посвящением. Да ты и сам лучше меня знаешь: Бонапарта и французов ненавидят во всей Европе. И ты верно сказал: случится война, она заденет всех – и Вену, и Берлин, и Рим. А что, о войне ты с государем говорил?
– Был у него, – произнес Петр Иванович, благодарно оценив про себя сердечную чуткость Николая, который, коснувшись запретного – княгини Багратион, тут Же сменил тему. – Разговор с императором зашел в том числе и об отношениях с Францией – придется ли с нею воевать. Ну, будет. Еще наговоримся с тобою. Я так рад, что все лето пробуду в твоем обществе. И давай условимся: о войне – более ни слова! Отпуск, что предоставил мне государь, следует посвятить одной благой цели – отдохновению тела и души. Это же грех – в сем чудесном раю, как давеча назвал Симы старый Карелин, предаваться чему-либо иному, кроме благостного наслаждения божественною природой!
Легко было произнести: забыть о войне. На самом же деле как можно было забыть о том, что составляло главное занятие всей жизни, даже и того более – саму жизнь?
Представим себе, чем жил, какими событиями и успехами измерял, скажем, тот же Николенька Голицын дни, недели и месяцы, что то медленно тянулись пред его внутренним взором, то неслись вскачь, да так, что даже замирала душа.
Если отбросить в сторону утехи молодости, то главным останутся успехи в занятиях музыкой. Вот этот экзерсис, к примеру, он разучил тогда-то, и это несомненное его достижение было отмечено. Другою такою же победою могло стать разучивание новой симфонии, что еще никто до него не исполнял, а вот он взялся и удивил любимого профессора своею настойчивостью.
Конечно, не все были удачи. Подчас, чтобы чего-то достигнуть, следовало изо дня в день исполнять одни лишь бессмысленные упражнения. Зато каким сладостным оказывался тот долгожданный миг, когда все, что до этого представлялось лишь опостылевшим и нудным трудом, вдруг выливалось в истинное наслаждение.
Что ж сказать о военачальнике, для которого каждая его победа – это не просто личное достижение, но успех всего войска, им предводительствуемого. Даже того более – успех русского оружия и победа отечества. Ну а если представить, как у того же Багратиона, – лишь закончится одна война, так вскоре наступает другая, то и получается: жизнь – это и есть одно беспрерывное сражение, один огромный, с кровью и смертями, никогда не затихающий бой. Как сей бой исключить из жизни, как забыть о том, что и есть главное в его судьбе?
И если уж в самом деле не говорить вслух о сражениях, когда ты хотя бы на время отлучен от войска, то не думать об армии и о войне Петр Иванович никак не мог.
Три месяца минуло с той поры, как князь Багратион покинул должность главнокомандующего Молдавской армией, а все не мог с ней распрощаться.
Речь не о том, что давало знать о себе уязвленное самолюбие: почему так легко государь принял его отставку? Если уж что и раздражало, то другое: неужели царь не понял, что план кампании, предложенный им, главнокомандующим, – единственно приемлемый в создавшихся условиях? А уж коли не понял я не принял, осуществлять иные, чуждые ему цели он, князь Багратион, не намерен и ни в коем случае не станет.
Нет, не обиженным, а с достоинством и гордо поднятой головою уезжал из Молдавской армии вчерашний ее начальник. В ночь на пятнадцатое марта он написал, а утром на построении зачитал свой приказ:
«По именному его императорского величества высочайшему указу, на имя мое последовавшему, государю императору благоугодно было снизойти на всеподданнейшее мое прошение и уволить меня для излечения болезни на четыре месяца; на место же мое возведен наго степень главнокомандующего господин генерал от инфантерии граф Каменский Второй, которому вследствие того и сдал я главное над армиею начальство».
В строю пред ним стояли те, с кем летом в в самом начале осени прошедшего, восемьсот девятого года он одержал поистине громкие победы над неприятелем, которые принесли и пользу отечеству, и честь войскам, и славу оружию его императорского величества.
Можно смело утверждать, что каждый подвиг, каждое предприятие войск, под его начальством состоящих, ознаменованы были счастливыми успехами.
Об этом он в первую очередь и сказал в своем приказе. Но вместе с тем тут же не мог не отметить и другого, чего постоянно добивался в проведении своих операций и что почитал наипервейшей заслугою каждого настоящего военачальника, – бережение людей.
«Более же всего служит мне утешением, – так было сказано в приказе, – что все эти победы над неприятелем в поле, что все осады славные крепостей сопряжены были с весьма малозначащею потерею храбрых воинов наших».
И еще другою священнейшею обязанностью своею почел он необходимость засвидетельствовать торжественную признательность и благодарность как всем господам корпусным и отрядным начальникам и прочим генералам, равно штаб– и обер-офицерам, так и всем и каждому из нижних чинов. Благодарность за строгое исполнение обязанностей перед отечеством и монархом и за полную доверенность и любовь к нему, их бывшему главнокомандующему.
«Эта любовь, – заключил он, – которую во всех случаях обнаруживали ко мне вы, мои боевые товарищи, и которая составляла верховнейшее мое удовольствие в часы сражений, в походах и во всех трудах, нами переносимых, навеки запечатлена в сердце моем неизгладимыми чертами. И я увожу ее с собою, яко отличную награду, которая на всю жизнь мою будет сладчайшим для меня утешением.
С победами встретил я армию при вступлении моем в главное над оною начальство – с победами расстаюсь с нею».
Март в южных краях – самое торжество весны. Не на эту ли пору намечал он новое победоносное наступление? Расчет был на то, чтобы застать врасплох рассеянное по мелким гарнизонам, еще не оправившееся от прошлогодних поражений турецкое воинство. И принудить визиря к тому, во имя чего и возникла сия война, – к миру.
Спокойствие там, в дальнем Причерноморье, было достигнуто задолго до Тильзита. И сие состояние устраивало, казалось бы, обе стороны. Но за год до того, как Россия и Франция вступили в союз, Турция, пользуясь войною в Европе, решила попытать своего счастья. И коварно, в одностороннем порядке разорвала прежний договор, надеясь на то, что русский богатырь будет способен отбиваться одною лишь рукою – другая занята в драке с Наполеоном.
Ныне и сами турки хотели бы вылезти из бойни, в которую они ринулись слишком уж опрометчиво: у богатыря для драки освободилась и другая рука.
Русский богатырь хорошо развернулся – и левою и правою рукою так двинул по оттоманским башкам, что, если бы не угроза зимы, мог бы освободить и земли за Балканами. Но теперь-то зачем точь-в-точь повторять прошлогодние намерения? К чему нам чужие задунайские просторы, когда к своим собственным пределам с западной стороны приближается другая война, что может оказаться более грозной, чем сия турецкая?
Мысль эта и была главною в Багратионовом плане весеннего наступления, что он предоставил царю. Силой оружия, внезапно приставленного к горлу, принудить оттоманских нарушителей спокойствия к миру, который они так вероломно нарушили.
И что же, оставить мысль о Балканском походе? Оставить! И более того, если потребуется, вернуть Молдавию с Валахией. Зато прекратить потери солдат в ненужной теперь войне и вернуть их – а это тысяч пятьдесят – к западным границам, где вот-вот может вспыхнуть война уже не с визирем, а с самим Наполеоном.
На сей точке зрения Багратион продолжал упорно настаивать и когда объявился уже в Санкт-Петербурге и предстал в Зимнем дворце пред государем.
– Рад видеть вас, князь Петр Иванович, – встретил его император своей обворожительною улыбкою. – Однако не скрою: вы доставили мне истинное счастье, если явились бы не с левого, как теперь, а с правого берега Дуная.
– Смею заметить, государь, что я явился с левого берега, оставив там армию здоровую и отменно кормленную, не отдав ее на растерзание голода, холода и болезням. И не взятую потом в полон янычарами.
– Я не узнаю вас, князь Багратион! – Улыбка исчезла с бело-розового лица царя. – Никому иному, кроме вас, в той ситуации, что возникла в Молдавии прошлым летом, я не мог доверить армии. Решительность, быстрота, натиск – сии суворовские заповеди ни в ком другом не находят такого полного отзвука, как в вашем сердце, князь. И что же из сего вышло?
– Вышло, ваше величество, главное: я спас армию, которая теперь явится в состоянии заставить турок подписать мир, – твердо произнес Багратион.
– И даже ценою уступок неприятелю уже завоеванных территорий? – В голосе царя явно обозначились нотки неудовольствия.
Вот тут он и повторил вслух, что последнее время не выходило у него из головы:
– Простите мою дерзость, государь. Однако случаются в истории такие моменты, когда выгоднее вернуть чужое, дабы не потерять свое. Вашему величеству известно, что я не трус. И решительный разгром врага – завещанная мне великим Суворовым манера вести войну, как справедливо вы изволили заметить. Так вот, чтобы как можно сподручнее было встретить врага наисильнейшего – с развязанными руками, не озираясь назад, за спину, – следует помириться с врагом меньшим.
Царь опустил глаза и медленно двинулся к окну, что выходило на Неву.
– Так вы, князь, серьезно полагаете, что войны с Франциею не избежать?
«А разве не из сих соображений исходили вы, ваше императорское величество, когда понуждали меня во что бы то ни стало идти на Балканы, намекая на возможное вмешательство французов на стороне турок?» – хотел произнести Багратион, но остановил себя.
– Пожалуй, сие не тайна. – Император сам ответил на свой же вопрос. – И особенно не тайна от моих генералов. Кому же, как не вам, военачальникам, заблаговременно думать о том, что может ждать нашу армию впереди. Наверное, нам и впрямь не следует забираться на Балканы. Это, в случае нападения французов, значило бы оказаться в западне.
Багратион просиял:
– Ваше величество совершенно верно изволили понять мою мысль, почему следует отказаться от Балканского похода и мириться незамедлительно, но с честью. А в наступление – идти непременно! Только – в другом месте. И – на другого врага.
Александр Павлович был уже у своего письменного стола и взял в руки листок, исписанный чернилами.
– Вот, князь, депеша, что как раз накануне вашего прихода мне принесли из военного министерства. Это донесение одного из самых доверенных мне лиц из Парижа. Послушайте. Не уловите ли вы некие общие с вашими мысли? «Прошло для нас время переговоров. Никакие снисхождения не поколеблют отныне намерения Наполеона напасть на Россию. Он не может терпеть в Европе равного себе и потому ищет нашей погибели. Война неизбежна, ваше величество, посему готовьте войска, спешите миром с турками, заключайте тайный союз с Англией. Спасайте Россию: от ее жребия зависит участь Вселенной».
Багратион подался вперед, чуть ли Не вплотную приблизившись к царю.
– Ах, какой молодец, какой ясный ум и дерзость мысли! – воскликнул он и, несколько отступив, поклонился. – Не могу сдержать себя и не поздравить ваше величество с тем, какими верными помощниками вы окружили себя! И знайте, я буду первым из тех, на кого вы всегда сумеете положиться, коли разразится гроза. Нет, ваше величество, не тогда, когда она грянет и может застигнуть нас врасплох. Теперь, теперь же следует нам, вашим верным слугам, расчислить весь ход событий и, по возможности, дерзновенно его упредить!
– Вы не о том ли, любезный князь, о чем и мой тайный агент? – Улыбка вновь обозначилась в уголках губ императора. – Вот что он, кстати, советует: «Коль нам суждено будет не миновать войны и в нее вступить, мы могли бы, упреждая неприятеля, двинуться к Висле, занять там крепкие позиции, устроить мостовые укрепления, посылать легкую конницу к Одеру, когда основные силы Наполеона будут еще в сравнительном отдалении от наших пределов».
«Я же как раз об этом и думал, когда обмолвился только что о наступлении в ином месте!» – вновь радостное чувство овладело всем существом Багратиона.
– Однако, ваше величество, – вслух произнес он, – для сего предприятия потребен доскональный учет всех условий. Самое первейшее – вслед за Турцией следовало бы перетянуть на свою сторону шведов. Взяли у них Финляндию – могут за то не простить. А ежели задобрить? К примеру, пообещать вернуть Шведскую Померанию на германских землях, что недавно аннексировал Наполеон? Иль чем другим этих шведов подкупить. Но основное – Австрия и Пруссия. Коли их давней непримиримостью к Бонапарту заручимся, встретим его с опережением.
Александр Павлович ласково посмотрел в лицо собеседника.
– Надеюсь, ты, князь, не обиделся, как начал я разговор? – Неожиданно, как, впрочем, часто бывало, когда хотел подчеркнуть особую расположенность, император перешел на «ты», – Непросто найти единственно правильное решение, особо когда рядом с твоим мнением – десяток противоположных. А по тебе я как бы сверил то, что зрело во мне самом, но на что, сознаюсь, окончательно не мог решиться. Тебя же прошу, прежде чем убудешь из столицы, побывай у Михаила Богдановича. Военный министр он недавний, но мнения его собственные и других наших генералов тебе бы небесполезно прознать. В чем-то, верно, сойдетесь, в ином окажетесь по разные стороны. Общему же делу – польза. И – о здоровье похлопочи; Сам ведаешь: Дела ожидают нас серьезные. Так что след быть, как говорится, во всеоружии. Но о разговоре нашем – молчок. Пока сие, о чем толковали, – тайна.
По утрам, входя к князю Петру Ивановичу, старый дворецкий находил его уже за столом, склоненным над бумагою.
– Ключевая водица уже в кувшине. Так что в самый раз после прогулки принять; как вы любите, студеную ванну, – докладывал Карелин и добавлял: – В толк не возьму, ваше сиятельство, зачем вам на отдыхе жизнь казарменную? Простите старика, коли сказал не так. Однако сторожа говорят: в барском доме и в людской еще ни одного огонька, а князь-генерал уже в седло и что есть духу летит в поле.
– Первым, говоришь, встаю? – Багратион вскакивал из-за стола и, хохоча, стягивал с себя рубаху, обнажая до пояса мускулистое тело. – А ведь знаешь, что говорится в народе: кто рано встает – тому сам Господь подает.
– Так то ж про таких, как мы. Вот я хотя и до дворецкого дослужился, а все же – слуга у господ.
– Слуга, говоришь? – поднимал на Карелина мокрую голову Багратион, не смиряя смеха. – Вот, душа моя, верное слово – так и я же слуга! А как же иначе? Слуга царю и отечеству.
– То справедливо изволили заметить, – ответно улыбался дворецкий. – А все ж теперь вы не в войске – чего ж ни свет ни заря да в седло, когда вон князь Николенька в те часы самые лучшие свои сны наблюдает. Да и – что утром, что поздно уж к ночи – от бумаг вас не оторвешь. Слава Богу, что соседские господа, прослышав о вашем приезде, стали чуть ли не в очередь – визит за визитом. Так что и для вас, и для князеньки Николая – развлечения. Вот извольте убедиться: сосед наш, добрый барин, прислал давеча с казачком записку – будет у вас нынче в полдень.
Отбросив полотенце, коим растирал докрасна грудь и спину, Багратион пробежал строчки, нацарапанные вкривь и вкось соседским барином.
– Не принять – нельзя, – сдвинул брови и тут же щелкнул пальцами. – Проследи, чтобы стол – как у меня в Петербурге: все самое лучшее. И – вина лучшие из погреба. Не только столица, но и тут у вас должны узнать: если у князя Багратиона обед, столы должны ломиться! Да вот еще: земляники и фруктов из оранжереи поболе. И – зелени, травки разной. Ведь держит тетя, княгиня Анна Александровна, грузинский стол?
– Как же-с! – обрадованно закивал дворецкий головою в пышном парике на столичный манер. – Как же-с, ваше сиятельство, им забыть то, что обычаем было при ваших дедах и прадедах, хотя вы и княгиня уже наших, русских кровей? Потому князь Борис Андреевич, особливо когда гости, первым делом требует, чтоб была изюминка к столу. Кинза, другая какая приправа. А уж сациви иль лобио – то всенепременно.
– Вот-вот, – одобрил Багратион. – Гостей люблю. И люблю быть хлебосольным хозяином. Посему устрою-ка я на удивление всем соседям днями увеселительное предприятие – настоящий бал, а?
За завтраком, глядя в розовое со сна лицо Николая, Петр Иванович рассказал о своем желании дать соседям большой прием.
– Не удивлюсь, что сие – военная хитрость, – улыбнулся молодой Голицын. – Оказать внимание всем соседям, так сказать, чохом, чтобы потом оставили в покое и не докучали изо дня в день визитами. Угадал, господин генерал от инфантерии, ваш тайный замысел?
Багратион, откинулся на спинку стула и расхохотался:
– В самую точку попал! А еще плакался мне: нет-де в тебе этой самой военной косточки. Есть, брат, есть. Поверь моему слову: вернешься в строй! А маневр мой ты раскусил отменно: люблю гостей, но не люблю праздного гостеприимства, когда стоит дело! А у меня – запарка. Потому и студить надо свои мысли по утрам на свежем ветру, скача по полям и перелескам. А влечет меня нынче долг не к столу гостиному, а к уединенному кабинетному. Бал все ж дадим! Не сочти за труд, душа моя, возьми в свои руки заботы о сем торжестве. Тебе же гости более знакомы, чем мне, случайно залетевшему в чужое гнездо.
После завтрака Багратион вернулся к себе и, присев к бюро, единым духом вывел на чистом листе:
«Вашему императорскому величеству благоугодно было обнаружить мне неоднократно внимание, обращаемое прозорливым оком монаршим и с отеческою о благе подданных попечительностью на настоящее критическое положение России в отношении к Франции. Ободрен будучи таковою высокомонаршею доверенностию и сохраняя все то, как и чин и звание мое того требуют, в самой непроницаемой тайне, я осмеливаюсь повергнуть к священным стопам вашего императорского величества всеподданнейшее мое по сему предмету мнение, уповая, что сие дерзновение мое найдет пред лицом вашим, всемилостивейший государь, оправдание в неограниченном моем усердии к великому моему монарху и в любви к отечеству».
Начало далось легко. Оставалось лишь все дальнейшее, в чем и заключалась главная суть записки на высочайшее имя, изложить так же ясно и вразумительно.
Все пункты, которые предстояло нанести на бумагу, давно уже поместились в голове. Но он вновь и вновь возвращался к ним, чтобы до конца самому убедиться в правоте тех заключений, к которым привело его длительное размышление над тем, что происходило вокруг.
Нет, он не считал себя прежде всего государственным мужем, точнее сказать, человеком, главное занятие которого – политическое состояние дел. Он был боевым генералом. Однако прежде чем обосновать свои чисто военные меры, кои, по его мнению, незамедлительно следует предпринять, он не мог не коснуться обстановки в мире.
Как и подобает военному человеку, его политическое видение дел оказалось в изложении предельно кратким и четким.
«В неприязненном расположении императора французского к России никто, конечно, ныне более не усомнится, – решительно продолжил он изложение своих мыслей. Напротив того, вся Европа есть очным тому свидетелем, с каким заботливым старанием ваше императорское величество тщились с самого заключения Тильзитского трактата сохранить и утвердить мир и дружественную связь между обеими империями; но теперь вся надежда к достижению сей благотворительной цели исчезла, и нет покушения, которого бы от злобы и властолюбия сего завоевателя, алчущего всемирные монархии, не должно быть опасаться. Он выжидает только той минуты, когда с вящею для него пользою возможет водрузить пламенное знамя на пределах империи вашей.
Степень опасности, день ото дня увеличивающейся, определяет также и меры, которые к ограждению себя от оной необходимость предпринять заставляет. Война кажется неизбежною. Участь ее, конечно, первоначально зависит от Бога, но неограниченное усердие верных подданных вашего императорского величества, дух, в народе царствующий, и беспримерная храбрость, неутомимость и преданность воинства вашего преисполняют нас благими упованиями; впрочем, и несчастные в войне приключения, от которых сильное и могущественное государство, как Россия, не теряя даже предпринятого напряжения, оправиться может, кажется, гораздо менее пагубны, нежели бездейственное претерпевание повсечасного нарушений прав и достоинства империи. Известия же, хотя недостоверные, но из уст в уста переходящие, рождают утешительную мысль, что, может статься, не удалена эпоха, где в столпотворении Наполеоновом водворится смешение языков, долженствующее естественно, сильно споспешествовать к восстановлению права народного в Европе. Мысль сия получает еще более вероятия, если принять во уважение, что ни один из побежденных и завоеванных им народов не признает себя счастливым, а, напротив, с трепетом ожидает ежедневного углубления зла».
Главная мысль была высказана: признавая неизбежной войну, Багратион переходил теперь к тому, что было основным, на его взгляд, делом, которое следовало незамедлительно предпринять. И это дело заключалось в том, «чтобы, с одной стороны, оградить себя от внезапного нападения, а с другой – выиграть времени по крайней мере шесть недель, дабы сделать первые удары и вести войну наступательную, а не оборонительную. К достижению сих главных целей почитаю я удобнейшими следующие средства».
«О предварительных мерах к начатию войны» – так он озаглавил раздел своей записки, в коем не оставлял сомнения: да, Россия, дабы обезопасить себя, должна первой выступить против той страны, которая уже бесповоротно решилась на войну.
Что же следовало предпринять? «Без потери времени сообщить французскому двору ноту, в которой, с соблюдением в слоге всего дружественного расположения, но притом с твердостию, достоинству империи приличествующей, изложить, с одной стороны, все средства, употребленные вашим императорским величеством к вящему утверждению, мира и согласия между обеими империями, а с другой – все поступки императора Наполеона, таковому искреннему желанию вашего императорского величества противоборствующие и права народные нарушающие».
Весь ход дипломатических сношений, долженствующий уличить правительство Наполеона в двоедушии, был изложен Багратионом скрупулезно и самым подробнейшим образом. Общение в военном министерстве с Барклаем и особо доверенными чиновниками дали, князю обильную пищу для размышлений, и в первую очередь для того, чтобы прибегнуть к тем выводам, которые он теперь излагал в записке на высочайшее имя.
Там же, в военном департаменте, а также в Министерстве иностранных дел, где он был любезно принят канцлером Румянцевым, он немало почерпнул, чтобы уяснить положение дел в Пруссии и Австрии.
– Сии обе державы – заложницы Бонапарта, – заметил в своем откровенном разговоре канцлер Николай Петрович. – Австрийцы, к примеру, как мне конфиденциально передавал Меттерних по поручению императора Франца, обещают: «Австрия останется в будущей войне тайным другом. России, и никакой Бонапарт не заставит наших солдат стрелять в солдат русских». Король Прусский в отчаянном положении. Он боится Наполеона, потребовавшего от него войска, чтобы выставить их против России. Но он спит и видит, когда же русские освободят его страну от французских оккупантов.
– Ага! – подхватил тогда Багратион. – Фридрих-Вильгельм как бы открывает перед нами ворота Восточной Пруссии! Почему бы нам, кстати, не воспользоваться сим любезным приглашением?
Министр иностранных дел был до мозга костей дипломатом и потому лишь улыбнулся в ответ, давая понять известнейшему, храброму и дерзкому в деле генералу, что кесарю – кесарево, а уж им, генералам, – генералово.
Однако Румянцев не без умысла вел разговор. Он отлично знал, кто перед ним и по чьему повелению к нему пожаловал. Был уверен: князь Багратион, коли берется за какое дело, сумеет его отстоять и доказать свою правоту, не убоясь даже при сем пойти на крайности. Молдавия – тому доказательство. Посему министр, рисуя пред острым на ум генералом картины международных связей, и не стремился высказывать своих рецептов. «В сей кудрявой голове – и своих мыслей целый воз», – с удовлетворением отмечал про себя канцлер, следя за тем, как остро встречал Багратион каждое интересовавшее его сообщение.








