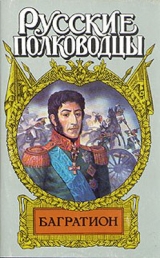
Текст книги "Багратион. Бог рати он"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 42 страниц)
– Баше величество, нет таких преград, которые бы не преодолел русский солдат, чтобы в который раз возвысить славу вашего величества! – восторженно воскликнул он. – И я, как ваш преданнейший солдат, совершил лишь то, что повелел мне мой долг.
– Спасибо, князь Петр Петрович. – Голос императора обнаружил нескрываемое удовлетворение. – Я никогда в вас не сомневался. Имея таких верных слуг и таких способных военачальников, моя армия не может не победить Бонапарта.
И, оборотившись к командиру арьергарда:
– Князь Багратион, передайте от моего имени по команде: всем нижним чинам за участие в деле выдать по чарке водки, а господ офицеров представить к наградам.
И государь, вновь одарив окружающих улыбкою, слегка натянул поводья.
Только теперь, тронув лошадь, чтобы проехать далее по улицам города, он заметил невдалеке от себя тело убитого французского солдата.
Поначалу Александру Павловичу показалось, что человек просто подвернул ногу – так нелепо он лежал, подтянув колени к животу и упрятав голову в плечи. И казалось: вот сейчас встанет, отряхнется и пойдет дальше. Но солдат в синем мундире не поднимался. Тогда царь поднес к глазам золотой лорнет и заметил, что рядом с лежащим – кровь.
Мгновенно лицо Александра Павловича стало бледным, похолодели щеки и лоб, а в желудке появилась какая-то металлическая тяжесть и тошнотный комок подкатил к горлу.
«Что со мною? Так ведь нельзя. Кругом люди, солдаты, а я… – в страхе подумал он о себе. – Это пройдет. Так бывает, говорили мне, со всяким, кто впервые видит смерть на поле боя. Надо ведь взять себя в руки. Разве я не затем прибыл к своей армии, чтобы одним своим присутствием поднимать ее боевой дух?»
«Нет-нет, со мною все хорошо», – пытался успокоить себя император на следующий день, когда переехал в Вишау с главной квартирой.
Легкое недомогание, хотелось верить, скоро пройдет. Тем более что победа при Вишау и впрямь поднимала настроение войск. К тому же доложили, что адъютант Бонапарта Савари вновь с белым флагом объявился на русских аванпостах. Его тут же привели к Александру Павловичу.
– Мой император хотел бы предложить вашему величеству личную встречу, – раскланялся французский генерал. – Осмелюсь повторить слова моего императора о том, что даже худой мир лучше доброй ссоры. Между тем у его величества к вашему величеству – самый сердечный респект…
– Пожалуй, я сделаю то же, что предпринял Бонапарт, – был ответ русского императора. – Я велю моему генерал-адъютанту князю Долгорукову продолжить предлагаемые вашею стороною переговоры.
Князь Долгоруков возвратился в отличнейшем расположении духа. А когда вышел от царя, весь прямо-таки сиял от возбуждения, отвечая на задаваемые ему вопросы с не сходящей с лица самодовольною улыбкою.
– Вы спрашиваете, что же Бонапарт? – усмехался он. – Скажу одно: празднует труса.
– Тогда, выходит, мы должны первыми на него напасть и покончить с этим чудовищем одним ударом? Что ж наш император, что решил он?
– А как вы полагаете, господа, пристало ли нам, русским, бояться сего авантюриста? Ежели бы он, мошенник, нас не страшился, не стал бы при мне так униженно заискивать и говорить о мире. Он на протяжении всей беседы со мною, так сказать с глазу на глаз, выражал испуг. Видно, шельма, опасается, как бы мы не отрезали ему пути отступления. Если не сегодня, так завтра он начнет отход всем войском, верьте мне, господа. Так что дело за тем, чтобы подготовить диспозицию. Эту обязанность государь справедливо возложил на генерала Вейротера. Он, как всем вам известно, отменный стратег и тактик, у коего следовало бы поучиться многим нашим военачальникам.
Глава восьмаяСтранная вырисовывалась картина. Главнокомандующим союзной армией был назначен Кутузов, генерал, прошедший не одну войну. А план боевых действий разрабатывал не полководец, а генерал-квартирмейстер Франц фон Вейротер, заскорузлый штабной чиновник, нанесший немало вреда Суворову в его Итальянском походе.
Но не только в этом была нелепица. Кутузов, оценив сложившееся положение, высказал государю мысль – отвести армию к Карпатам. Там можно перезимовать и дождаться подкреплений из России. Идти же в наступление теперь, после изнурительного отхода, значило, по его мнению, подвергнуть себя поражению.
Между тем не так думали российский император и австрийские генералы, уверовавшие в немецкую военную науку как в непререкаемую догму. Вейротеру и его штабу виделось: достаточно скрупулезно, во всех деталях нанести на бумагу маршруты Движения войсковых колонн, места их сосредоточения, определить время начала и окончания операций, и остальное совершится само по себе.
И – армия пришла в движение. Войска шли к Брюнну, навстречу Наполеоновым силам, по маршрутам и расписанию, рожденным в австрийских генеральских головах. Только чего стоили все их прожекты и подсчеты; если еще до сражения, на марше хваленая австрийская пунктуальность стала давать сбои. Колонны совершали небольшие переходы, но по таким маршрутам, что теряли напрасно по десять и более часов. В результате пути колонн перерезывались не по одному разу, позиции, что следовало занимать подошедшей колонне, оказывались уже занятыми.
Только война есть война. А на войне чем труднее, тем больше крепнет воля к победе. И только слабый силой и духом может спасовать, испугаться препятствий и опасности. Русская же армия ощущала свои силы не только как равные неприятельским, но намного их превосходящие.
И в самом деле, соотношение сил выглядело так: у французов под ружьем было до семидесяти пяти тысяч человек при двухстах пятидесяти орудиях, у союзников – до восьмидесяти шести тысяч и триста тридцать пушек. Причем из находившихся в строю семьдесят тысяч солдат были русскими, то есть воинами умелыми и отважными, уже здесь, в Австрии, проявившими свою удаль и стойкость.
Но не одно арифметическое превосходство вселяло веру в возможную победу. Все, что предшествовало предстоящему сражению, как бы говорило каждому русскому солдату и офицеру: гарантия успеха – ваша воля и ваша отвага, а вы их уже проявляли не раз.
До Брюнна, где находилась главная квартира французов, оставалось менее тридцати верст, когда союзной армии приказано было остановиться. Местность были болотистая, окаймленная небольшими высотами. А вдали, за полем, виднелась деревушка под названием Аустерлиц. Тотчас по колоннам развезли приказ: занять возвышенную местность, получившую тут же название Праценских высот, и в самых выгодных местах расположить артиллерийские батареи.
«Как счастливо все сложилось!» – обрадовались в полках, когда во тьме быстро опустившейся ночи впереди себя внизу, на топкой равнине, увидели бивачные огни французов. Огней во вражеском лагере было так много; а движение людей такое явственное, ничем, казалось, не скрываемое, что уже ни у кого не осталось более сомнений: неприятель отступает!
Тут же собрался военный совет. Кутузов встретил генералов как-то равнодушно и тут же, сидя за столом, стал дремать. Диспозиция Вейротера была настолько объемистой и подробной, наполненной непривычными названиями селений, озер, рек, долин и возвышенностей, что могла обратить в сон не только главнокомандующего, что был уже в немалых летах, но и многих других военачальников.
Некоторые руководители колонн, правда, пытались не только вникнуть в содержание того, что монотонно читал Вейротер, но и высказать свое мнение. Но все их замечания были как бы не по существу, и автор диспозиции резко прерывал высказывания.
Его особенно раздражали опасения отдельных участников военного совета насчет движения войск в лагере неприятеля. А вдруг это не ретирада, а, напротив, подготовка к решительному наступлению?
Кажется, это опасение первым высказал вслух генерал Ланжерон, но он тут же был остановлен Вейротером:
– Чепуха, герр генерал! Подлинная чепуха. Когда бы такое намерение было в голове Бонапарта, он давно бы уже нас атаковал. Еще в Вишау, к примеру. Вы же знаете, что со своими главными силами он был в тот момент недалеко. Но – не решился!
Милорадович обернулся, надеясь найти Багратиона. Но князя Петра в комнате почему-то не было.
«Ах да, он теперь со своим авангардом, – решил Милорадович. – Он-то как раз, наверное, теперь и старается выяснить, сколь сие возможно: отступает Наполеон иль с его стороны огни и передвижение людей – обман».
Однако опасения серьезны. И Милорадович вслух повторил вопрос Ланжерона.
Вдруг он встретился взглядом с князем Долгоруковым, и генерал-лейтенант Милорадович даже взмок.
– Прошу прощения, меня, верно, не так поняли, – поспешил он как бы взять свои слова назад. – Неуверенность и страх теперь в голове Бонапарта. Сие прозорливо изволил заметить и передать нашему государю князь Петр Петрович, когда встречался один на один с этим, скажем так, авантюристом. Но я что хотел сказать, господа: надобно бы усилить наши аванпосты. Чтобы точно знать, какие силы он снимает и в каком направлений совершает отход. Зная сие, можно было бы и в диспозиции предусмотреть какие-либо оперативные изменения.
Вейротер побагровел так, что даже шея стала свекольного окраса.
– Мое расписание не нуждается ни в чьих дополнениях, герр генерал! Не так ли, ваше сиятельство? – Ища поддержки, генерал-квартирмейстер обратился к князю Долгорукову.
– Его величество поручил мне передать, что он одобряет план, с коим мы сейчас ознакомились, – коротко сказал князь. – Потому, полагаю, всякие замечания и споры и в самом деле неуместны.
– Что вы сказали, ваше сиятельство? – приоткрыл набухшее со сна веко Кутузов. – Ах да, какие могут быть обсуждения, коли завтра, нет, уже нынче, с рассвета нам всем надлежит привести наши колонны в боевой порядок? А сейчас, перед сражением, не худо было бы хорошенько поспать. Не смею вас более задерживать, господа.
Костры и оживление в неприятельском стане, самоуверенно принятое многими союзными генералами за отступление, явились знаками совершенно обратными. «Великая армия» готовилась не к позорному бегству, а к решительному сражению.
В то время как к домику невдалеке от деревни Аустерлиц, занимаемому Кутузовым, стекались члены военного совета, Наполеон объезжал ряды своих войск. Был он в своей старой синей армейской шинели, известной многим солдатам еще по Италии, на голове – шляпа с двумя рожками по бокам, почему-то у нас прозванная треуголкой.
При свете костров и факелов в полках только что было зачитано его обращение к воинам, и они, завидя своего кумира, исступленно выкрикивали; «Да здравствует император!» – и порывались броситься следом за его лошадью.
Как всегда, приказ Наполеона был образцом слога, каждое слово его взывало к сердцу солдата и требовало от него высокого подвига. Составление приказов он не доверял никому из своих адъютантов и секретарей. Он писал их сам или же в крайнем случае диктовал.
Приказы по армии, как и главное дело своей жизни – Гражданский кодекс, он считал предметами особой гордости. «Могут со временем забыться многие мои сражения, – говаривал он, – но основа жизни народа, мой Гражданский кодекс, останется на века». Потому, наверное, думал он, что не пушки и ружья, а мысль, облеченная им в слова, будет диктовать людям законы и правила чести, высокой нравственности и достоинства.
Но пока не умолкли пушки, взывать к самым лучшим человеческим чувствам будут его приказы. Здесь, в обращениях к армии, как и в его кодексе, каждая мысль, облеченная в слово, должна доходить до сердца воина, поднимая его на подвиг чести и славы.
Теперь, при Аустерлице, в обращении Наполеона к войскам говорилось:
«Солдаты! Русская армия выходит против вас, чтоб отомстить за австрийскую, ульмскую армию. Это те же батальоны, которые вы разбили при Голлабруне и которые вы с тех пор преследовали постоянно до этого места. Позиции, которые мы занимаем, – могущественны, и пока они будут идти, чтоб обойти меня справа, они выставят мне фланг! Солдаты! Я сам буду руководить вашими батальонами. Я буду держаться далеко от огня, если вы, с вашею обычною храбростью, внесете в ряды неприятельские беспорядок и смятение; но если победа будет хоть одну минуту сомнительна, вы увидите вашего императора, подвергающегося первым ударам неприятеля, потому что не может быть колебания в победе, особенно в тот день, в который идет речь о чести французской пехоты, которая так необходима для чести своей нации.
Под предлогом увода раненых не расстраивать ряды! Каждый да будет вполне проникнут мыслию, что надо победить этих наемников Англии, воодушевленных такою ненавистью против нашей нации. Эта победа окончит наш поход, и мы сможем возвратиться на зимние квартиры, где застанут нас новые французские войска, которые формируются во Франции; и тогда мир, который я заключу, будет достоин моего народа, вас и меня…»
Удивительная вещь! Слова приказа заносились на бумагу еще задолго до того, как генерал-квартирмейстер Франц фон Вейротер открыл генералам свой великомудрый план. Смысл сего штабного труда заключался как раз в том, чтобы усиленным левым крылом из трех русских колонн обойти правое крыло французов и разбить его ударом во фланг и тыл. Но как же мог Наполеон узнать, что именно так будет построена атака неприятеля, и в своем обращении к армии ясно и четко обозначить направление сего главного удара? И не только предугадать действия русских войск, но загодя их упредить: «Они выставят мне фланг!»
И первый и второй приезд Савари в русский лагерь Наполеон предпринял с одной целью: уж коли они не пойдут на мировую, а в этом он в глубине души не сомневался, то следует разыграть видимость собственных колебаний и опасений. С какою же целью? Чтобы не дать русским повернуть в Венгрию, к Карпатам, дабы усилиться резервами, а заманить их в ловушку здесь, в австрийских пределах.
Сию ловушку, то есть место будущего сражения, Наполеон предусмотрительно выбрал сам. Местность у деревни Аустерлиц показалась ему особенно пригодной для того, чтобы ее одобрили русские и начали с нее атаку. И именно так, как будет им диктовать рельеф, если сам Наполеон расположит свои силы внизу, у подошвы Праценских высот, – с охватом его якобы ослабленного правого фланга.
В мундире рядового капрала император в течение восьми дней – с раннего утра до позднего вечера – обошел, облазил и, где надо, прополз по-пластунски каждый изгиб рельефа, каждую сажень равнины внизу. И – присматривался к направлению ветра, изучал, когда встает и когда рассеивается туман над долиною, что случится, если вдруг в день битвы зарядит дождь?
Грандиозная битва, прежде чем разразиться в этих вдоль и поперек исхоженных им за неделю местах, час за часом, даже минута за минутою проигрывалась в его воображении. Он выстраивал в голове один за другим варианты движения неприятельских колонн и, отбирай наиболее вероятные, тут же противопоставлял им колонны войск собственных. Но это было не главное, чего он хотел достичь. Выстраивая за русских движение их колонн, он хотел увидеть себя не обороняющимся, а, напротив, наступающим! Так родился его собственный план контрудара и определилось его направление – центр.
«Пусть они, наступающие, все свое внимание сосредоточат на моем правом фланге, – окончательно решил он, – я же ударю там, где они не ждут, и разметаю их войска на две части. А затем по частям уничтожу их, ошеломленных и сломленных.
Не они мне, а я им зайду во фланги и тыл и завладею Праценскими высотами. Как же иначе? Эти самые высоты я нарочно теперь оставляю им, чтобы они ими и приманились! Но, развертывая свое наступление, они с сих высот обязательно сойдут в долину, чтобы, по их затее, преследовать мои якобы отступающие войска. Я же тотчас займу Працен, где молниеносно размещу пушки и начну расстреливать в упор, сверху все их людское месиво! И тогда им, зазнавшимся, решившим обмануть мой военный гений, не будет пощады! Гибель и несмываемый позор – вот какая участь ожидает императора Александра и его воинство!»
Наполеон вспомнил приезд к нему на аванпосты личного адъютанта русского императора генерала князя Долгорукова.
«В каких выражениях и каким презрительным тоном говорил со мною этот избалованный придворный хлыщ! – подумал Наполеон. – Начать хотя бы с того, что этот зазнайка ни разу не обратился ко мне как к императору, а с подчеркнутою настойчивостью называл меня генералом Бонапартом. Что ж, не своим братом, как принято среди августейших особ, а главою французского правительства назвал меня император Александр в своем письме.
В самом деле, кто я для них, августейших особ? Солдат, который сам водрузил на себя корону. И пусть эту корону я заставил сиять всем блеском чистого золота и алмазов, они же, престолонаследники, запятнали свои цезарские наряды кровью отцеубийства, грязью междоусобиц, склок и предательства, – они все равно будут еще долго считать меня чужим в своей благородной семье. И чем больше станут меня бояться, тем сильнее будет их отчуждение от меня. Но я заставлю их не только считаться со мной, но и почитать меня в их наследственных августейших семьях самым достойным и самым великим!
Зная за собою силу и ум, я без всяческого лукавства и обиды мог бы сегодня предостеречь Александра вместе с его наглецом принцем Долгоруковым: по-настоящему смеется лишь тот, господа, кто смеется последним!
А как хотелось этому придворному шуту, которого подослал ко мне император Александр, унизить мое достоинство и честь! Право, он говорил со мною как с подневольным боярином, коего ссылают в Сибирь! Надо же, требовал от меня, чтобы я немедленно убирал свои войска из Австрии и изо всех иных пределов, где ныне они имеют место пребывать.
Что ж, хотел бы я посмотреть на лица моих недругов завтра в полдень, когда их армия понесет поражение.
Впрочем, это завтра уже наступило. Вон, окутанное еще легким утренним туманом, над горизонтом встает солнце. Это солнце моей победы, солнце Аустерлица!»
К пяти часам утра второго декабря 1805 года союзная армия изготовилась к бою в заранее определенном диспозициею порядке. Три первые русские колонны генерал-лейтенантов Дохтурова, Ланжерона и Пржибышевского составляли левое крыло под общим командованием генерала от инфантерии Буксгевдена. Четвертая русско-австрийская колонна генерал-лейтенантов Коловрата и Милорадовича означала центр, непосредственно подчиненный Кутузову. На правом крыле находились пятая колонна генерал-лейтенанта Багратиона и австрийского генерала Лихтенштейна. Этим крылом командовал Багратион.
Как и при недавнем следовании на марше, беспорядок и бестолковщина в движении колонн начались сразу после отдачи команд. Полки только что тронулись с места, а уже перепутали свои маршруты и, остановись в ожидании, стали уступать друг другу дорогу. К тому же туман оказался настолько густым, что внизу, под горами, куда двигались полки, ничего нельзя было разглядеть и в десяти шагах.
Но настоящая сумятица произошла, когда первая, вторая и третья колонны все же спустились в долину и услышали впереди себя дружный треск выстрелов.
Кто открыл огонь там, впереди; редкие аванпосты, которые наблюдались со вчерашнего вечера, или же главные силы неприятеля, так и не пожелавшего отступить?
И сами начальники колонн, и их подчиненные пришли в замешательство. Куда следовало наступать, если впереди не видно ни зги, а выстрелы уже раздаются не только впереди, но с флангов и чуть ли не с тыла? И почему центр, коим командует сам Кутузов, медлит вступить в дело, чтобы подкрепить левое крыло, как указывала на то диспозиция?
Меж тем Кутузов и впрямь стоял без движения в самом центре Працена. Здесь, наверху, туман давно рассеялся, и день обещал быть чистым и светлым. И точно предвестником этого ясного дня оказалось вдруг появление императора Александра вместе с австрийским императором Францем и пышной сопровождающей их кавалькадой.
Верно, недомогание, случившееся еще в Вишау, оставило государя. Он выглядел бодрым и совершенно здоровым.
Так, в веселом настроении, он подъехал к Кутузову, сидевшему на лошади, но по-видимому не проявлявшему ни малейшего намерения двигаться со своего места.
– Что же вы, Михаил Ларионович, не начинаете? – обратился император к главнокомандующему.
У Кутузова почему-то задергалась щека, когда он стал отвечать:
– Поджидаю, ваше величество.
Император сделал удивленное лицо, словно не расслышал:
– Поджидаете кого или что? Когда разгорится там, в долине, настоящее дело или когда подтянутся к означенным позициям остальные войска?
– Ваше величество совершенно правильно изволили меня понять – не все колонны еще собрались, – почтительно поклонился через луку седла Кутузов.
– Но мы с вами, Михаил Ларионович, не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки, – возразил Александр Павлович и обернулся к императору Францу, как бы ища у союзника одобрения.
Австрийский император и генералы обеих свит почтительно заулыбались. Лишь Кутузов казался спокойным, хотя щека его задергалась еще заметнее.
– Потому и не начинаю, государь, – громче, чем прежде, произнес Кутузов и повторил: – Потому и не начинаю, ваше величество, что мы не на параде и не на Царицыном лугу.
Лучистые глаза Александра Павловича похолодели. Из-за его спины раздался приглушенный ропот:
– Как он посмел?.. Право, даже в его годы подобная бесцеремонность…
Александр медленно повел красивой головой в сторону, давая понять свите, что он не расслышал ни слов Кутузова, ни замечаний окружающих. Напротив, он заставил себя улыбнуться.
Впрочем, и щека Кутузова, чуть вздрогнув, явила не гримасу, а как бы ответную улыбку. Искусство политеса, выработанное годами придворной жизни вперемешку со службою военной, взяло верх. Но все же Кутузов не смог удержаться, чтобы не уколоть своего августейшего собеседника.
– Однако если вашему величеству будет угодно приказать… – произнес он тоном человека, не только знающего субординацию, но всегда готового к беспрекословному выполнению любой монаршей воли. Но в его словах и смиренном тоне было много больше, чем просто понимание своего места в придворных отношениях.
Он знал, как многоопытный военачальник, что сражение будет проиграно, но до сих пор не сумел, вернее, не решался твердо и определенно высказать свое отношение к плану Вейротера. Да и теперь в его словах не было твердости и настойчивости, какие следовало проявить главнокомандующему накануне битвы, могущей принести столько напрасных жертв.
Он как бы хотел просто оттолкнуть, отстранить от себя возложенную на него тяжелейшую ношу, как бы заранее снять с себя непоправимую вину, переложив ее на другого.
Намерение Кутузова тотчас дошло до императора, и он, будучи сам человеком лукавым, понял, куда клонит генерал, в самом начале битвы решивший вдруг умыть руки. Но нет, допустить сего никак было нельзя.
– Так, выходит, Михаил Ларионович, вы ожидаете от меня приказа? – произнес император уже без улыбки. – Но я, как вам хорошо должно быть известно, здесь только зритель. А командуете – вы.








