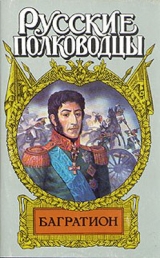
Текст книги "Багратион. Бог рати он"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 42 страниц)
– Будем умирать здесь все. Назади для нас другой земли нет.
Глава тринадцатаяПервый, кому он несказанно обрадовался, когда его, привезли на перевязочный пункт, расположенный за деревней Семеновской, был Николай Голицын.
Заметно порозовевший и уже без повязки на лбу, он тотчас кинулся к Петру Ивановичу:
– Ваше сиятельство, я вас здесь жду. Уже давно. Как только узнал, что вас… что тебя… Как ты? Очень болит? А меня, понимаешь, уже выписали – светлейший приказал явиться в его распоряжение. Но я выпросил, разрешение остаться пока при тебе. Ты ж понимаешь: как я могу теперь тебя оставить?
Бледное, заметно осунувшееся лицо Багратиона: осветила улыбка.;
– Спасибо тебе, брат. Но ты нужен там, где все.; Как там? В чьих руках флеши?
Старший врач лейб-гвардии Литовского полка Говоров, что привез Петра Ивановича в лесок, служивший походной перевязочной и операционной, вошел в палатку вместе с главным военно-медицинским инспектором русской армии и лейб-медиком императорского двора Вилье. На обоих были кожаные фартуки, которые доктора повязывают перед операцией.
– Ваше сиятельство князь Петр Иванович, не извольте беспокоиться, мы сей же час сделаем все необходимое, дабы оказать вам помощь. – Вилье взял руку Багратиона. – Ну вот, как я и ожидал, пульс хорошего наполнения. Остается лишь осмотреть рану.
На столе, куда его перенесли, к ноющей острой боли, что не отпускала ни на секунду, прибавилась новая, которую, казалось, ему уже не перенести. То доктора ввели в рану какие-то металлические инструменты, чтобы, как они заявили, произвести зондаж пораженного места.
На какие-то минуты раненый оказался в забытьи, а когда открыл глаза, обнаружил себя снова в палатке, но в более просторной, чем та, куда его внесли сразу же из кареты. Вокруг были те же врачи, санитары и Николай Голицын.
– Ранение, на наш взгляд, не так чтобы очень опасное, – произнес Вилье. – Мы прочистили рану и перевязали ее. Но следует вас везти далее – в Можайск, а лучше – в Москву. И как можно скорее. Не мне объяснять вашему сиятельству, какова обстановка там, в какой-нибудь версте от нас.
– Да-да, я хочу знать, что там, что с моею армией? Кто принял над нею командование? – Князь привстал, опираясь на локоть, и тут же, смертельно побледнев и покрывшись испариною, откинулся на подушку.
Голицын, опередив санитаров, кинулся к Багратиону и, схватив со столика салфетку, отер ему лоб.
– Наша армия дерется. Светлейший поручил ее Дохтурову, Дмитрию Сергеевичу.
Он вновь, дернувшись всем телом, силился приподняться, но Николай его удержал.
– Пусти! – потребовал Багратион. – Вы все что-то скрываете от меня. Французы что – взяли Семеновскую? Тогда где же Тучков?
Николай выпрямился и показал головою на раскрытый полог палатки:
– Генерал-лейтенант Тучков-первый… Николай Алексеевич, здесь, в палатке рядом. Он тяжело ранен. Генерал-майор Тучков-второй, Андрей Алексеевич, убит. Погиб генерал Кутайсов Александр Иванович. Он вместе с Ермоловым возглавил атаку на курганную батарею Раевского и отбил ее.
– А Раевский, что Николай Николаевич? – горячо произнес Багратион.
– Держится. Курганная высота вновь наша. Но за Семеновскую пришлось отойти. Теперь у французов уже нет более сил, чтобы сбить наши войска с позиции. Наша армия, как и правое крыло, не отступает ни на шаг. Да вот я теперь же приглашу сюда Левенштерна. Он здесь. Можно, господа доктора? – спросил Голицын и вышел вслед за ними на воздух.
Вилье остановил Говорова:
– Яков Васильевич, я был бы вам благодарен, если бы вы взялись сопровождать князя в Москву. Его состояние все же внушает мне опасение: не лучше ли подготовить его сиятельство к ампутации?
Услышав последнее слово, Голицын переменился в лице:
– Ваше высокопревосходительство, что вы сказали? Неужели?..
– Простите, князь, – остановил его Вилье. – Я бы не очень беспокоил его сиятельство рассказами о той катастрофе, что постигла Вторую армию после печального происшествия с ее главнокомандующим. Вам ли не знать: сия весть парализовала войска и они до сих пор не придут в себя. Вторая армия, можно сказать, уже не существует. Многие ее генералы и полковники пали на поле брани или – здесь, у нас. Так можно ли обо всем этом князю – теперь, в его положении?
Голицын вспыхнул:
– Князя Багратиона скорее всего может сразить не правда, а утайка ее. И разве не ваше высокопревосходительство высказали мысль о том, что его сиятельство лучше теперь же подготовить к наихудшему, что может ему грозить?
Майор Вольдемар фон Левенштерн, опираясь на руку Голицына, пряча повязку на груди под накинутым на плечи сюртуком, предстал перед Багратионом.
– Я хотел видеть вас, барон, чтобы узнать от вас, как там Михаил Богданович? – неожиданно обратился к вошедшему Петр Иванович. – Мне говорили, вы находились с ним до того, как вас недавно доставили сюда?
Адъютант главнокомандующего Первой армии не ожидал подобного вопроса и потому даже несколько растерялся.
Благодарю, ваше сиятельство, – пробормотал он, зная не только о натянутых, но скорее даже враждебных отношениях между князем Багратионом и своим непосредственным начальником. – Благодарю вас, князь, что вспомнили о Михаиле Богдановиче. Он очень переживал, зная, что происходило в расположении вашей армии. У него с утра не было во рту маковой росинки. Час назад он прямо-таки изнемогал от голода и попросил у меня лишь рюмку рома и кусочек хлеба.
Багратион остановил свой взгляд на получившем ранение верном адъютанте Барклая.
– Вы, барон, пролили кровь за наше общее с вами отечество. Я благодарю вас за сей священный удел доблестного русского офицера. Но скажите мне чистосердечно: в сей день Михаил Богданович появлялся в самых опасных местах и, как мне передавали, искал смерти. То верно?
– Я не скрою сие от вас, – проговорил Левенштерн. – Чистая и светлая душа Михаила Богдановича глубоко уязвлена и оскорблена тем недоверием и подозрением, кои его так безжалостно постигли. А ведь он…
– Я знаю, – мягко остановил адъютанта Багратион. – Потому я и завел с вами сей нелегкий и для меня разговор. И я хочу, барон, просить вас непременно передать Михаилу Богдановичу мое искреннее к нему уважение. Участь войск наших теперь во многом будет зависеть от него. В том числе и воинов моей Второй армии. Я буду счастлив знать, что судьба вверенных когда-то мне солдат и офицеров окажется ныне в верных руках генерала Барклая. А теперь ступайте, барон. Кажется, после перевязки вы намерены вернуться в строй?
Ехать Багратион мог лишь с частыми остановками. В Можайске же задержался на целый день. А в Больших Вяземах, в тридцати семи верстах от Москвы, распорядился сделать остановку на два дня. Только тридцать первого августа он прибыл в Москву, на улицу Большая Лубянка, в дом графа Ростопчина.
Состояние друга поразило Федора Васильевича. Раненый оказался слаб, бледен, черты лица его заострились, остался лишь большой не в меру нос да глубоко запавшие глаза.
Граф тут же распорядился пригласить лучших медицинских светил Первопрестольной, в том числе с медицинского факультета Московского университета. Светила переглянулись с Говоровым и вышли в соседнюю комнату.
– Настаиваю на немедленной ампутации, – сказал университетский профессор Гильдебрандт.
– Такое же мнение еще на поле боя высказал Вилье, – подтвердил полковой врач Говоров. – Однако же надо знать характер князя Петра Ивановича. Я пытался его подготовить, но он как отрезал: «В строю – и без ноги? Нет уж, я лучше помру…»
– Да-с, будь он рядовой, так сказать, генерал, каких немало, должно быть, легло нынче на операционные столы… – произнес кто-то из приглашенных светил. – А то ведь – герой, каких в России наперечет. Тут только одна воля государя могла бы склонить его к необходимому решению. С нами же у него – разговор короткий.
– Особливо со мною, – добавил Говоров. – Мне, как полковому лекарю, – кругом марш, и вся недолга.
В комнату влетел хозяин дома.
– Меня, меня одного, а не токмо государя послушает князь! – положил он конец консилиуму. – Однако сей день должна решиться главная задача – отстоим ли Москву. Коли Кутузов даст сражение и разобьет неприятеля – передам в ваши руки князя. А не то – вывозить его немедля отсель. Не токмо госпиталей, клиник и больниц – ни одного дома в целости не оставлю я, московский генерал-губернатор, проклятому Бонапарту!
Таких битв, как разразившееся пять дней назад Бородинское сражение, у Наполеона еще не было. Спустя годы, уже в ссылке на острове Святой Елены, бывший французский император найдет нужным признаться: «Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех».
Не будет преувеличением сказать, что сие ощущение, должно быть, впервые посетило великого полководца именно там, на поле Бородина, когда уже под вечер он выехал на линию и увидел, что русские войска стоят почти на тех же самых позициях, которые они занимали до начала схватки. Многие укрепления были разрушены, войска, особенно на левом русском фланге, были несколько оттеснены, но сбить их с позиций и особенно обратить в бегство у французов не было никакой возможности.
К девяти вечера, когда уже село солнце и окончательно смолк грохот орудий, все пространство между двумя трактами, устремленными к Москве, и рекою Колочью представляло собою гигантское кладбище без могил – так густо, почти неправдоподобно, была покрыта трупами каждая сажень земли. То были ужасные плоды кровопролитнейшей схватки, в коей французы с блеском проявили порыв и силу, русские же показали непреодолимые стойкость и мужество. И нельзя было оставшимся в живых в этом аду смерти на той и другой стороне, опустив головы в память павших, в то же самое время не воодушевиться сознанием своей победы.
Так, собственно, еще не остыв от лихорадки боя, и расценили тогда итог сражения французы и русские. И не случайно посему Кутузов в донесении царю, написанном в тот же вечер; сообщал: «Кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами». И тогда же он высказал вслух свое намерение: с утра возобновить сражение. Но утром русское войско уже шло в направлении к Москве, а первого сентября оно оказалось у Поклонной горы, на виду у Белокаменной.
Экипаж Ростопчина взъехал на Поклонную гору, когда уже там в окружении генералов находился Кутузов. Он сидел, по своему обыкновению, на маленькой низенькой скамеечке, что возил за ним один из конвойных донских казаков.
– А вот в главнокомандующий Москвы! – как-то бойком, зрячею стороною оборотился Михаил Илларионович к графу. – Как и подобает предводителю – сам впереди, дружина же боевая – следом! Ну-ка, любезный Федор Васильевич, представьте нам свое войско. Ныне оно во как нам необходимо – глядите, готовим оборону, чтобы защитить первопрестольную, не дать ворогу ею овладеть.
Аж пот прошиб генерал-губернатора. И он, дабы скрыть смущение, тоже взял ернический тон.
– Вот что значит сила моих афишек: сам главный наш полководец проникся верою, кою я намерен был вселить в каждого истинного патриота! – Ростопчин весь расплылся в улыбке.
– Выходит, ваши слова – пустая болтовня? – так же деланно изумился Кутузов. – А мне еще в канун сражения князь Багратион ваше, Федор Васильевич, письмецо зачитывал, где вы клятвенно грозились: на защиту Москвы выйдут силы несметные! Да вот и афишка ваша последняя – о том же.
Кутузов вынул из кармана сюртука сложенный вчетверо листок. Ростопчин наизусть знал, о чем в этой прокламации он сам писал. «Я жизнию отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот почему: в армиях 130 тысяч войска славного, 1800 пушек и светлейший князь Кутузов, истинно государев избранный воевода русских сил и надо всеми начальник, у него сзади неприятеля генералы Тормасов и Чичагов, вместе 85 тысяч славного войска, генерал Милорадович из Калуги пришел в Можайск с 36 тысячами человек пехоты, 3800 кавалерии и 84 пушками и т. д. А если мало этого для погибели злодея, тогда уж я скажу: «Ну, дружина московская! пойдем и мы, поведем 100 тысяч молодцов, возьмем Иверскую Божию Матерь да 250 пушек и кончим дело все вместе!»
– Ну-с, милостивый Федор Васильевич, коли ваши обещания – средство для поднятия духа и не более того, нам, воинам, следует дело делать. Я своею сединою поклялся: неприятелю нет другого пути к Москве, как только чрез мое тело! И Господь тому свидетель – мои слова верны. Видите, граф, какие работы начаты по укреплению позиций?
Только теперь Ростопчин увидел, как солдаты дружно рыли вокруг землю, тащили на горбах своих откуда-то привезенные бревна, пилили, рубили и колотили топорами вовсю, готовя, видно, редуты и флеши для артиллерии и пехоты.
– А я уж, ваша светлость, – не отходил от Кутузова московский губернатор, – распорядился вывезти из столицы принадлежащие казне сокровища и все казенное имущество. Спасены важнейшие государственные архивы. Многие владельцы частных домов укрыли лучшее свое имущество. Так что надобно ли уж так непременно защищать город, ежели, даже и овладев им, неприятель не приобретет в нем ничего полезного?
«Вот этого-то я от тебя и ожидал, Герострат[28]28
Герострат – грек из города Эфес, который сжег в 356 г. до н. э. храм Артемиды Эфесской (одно из семи чудес света), чтобы обессмертить свое имя; в переносном значении – честолюбец, добивающийся славы любой ценой.
[Закрыть] ты паршивый! – продолжая хранить любезную улыбку на припухлом своем лице, обрадованно сказал себе Кутузов. – Знаю, давно уже ведаю, что у тебя, завистника и стяжателя чужой славы, на уме: сжечь на глазах неприятеля дорогую нашу древнюю столицу и самому таким образом прослыть героем и первым русским патриотом. Не доставайся, дескать, злодею, коли тебя, нашу златоглавую, не сумели защитить воины! О сем ты, граф, уже сразу после Смоленска стал писать Багратиону, ища в сем герое первую свою поддержку, хитрющим умом своим пораскинув: коль самый прославленный генерал русский сию затею одобрит, то твое пожарное дело и выгорит. Что нет более честнейшей и преданнейшей отечеству души, чем у князя Петра Ивановича, – тут ты не ошибся. На все готов Багратион, чтобы спасти родную землю. И – своей собственной жизни для сего не пожалел. Ты же способен лишь на пустое подстрекательство и смутьянство в народе. И на то, чтобы воровато, исподтишка метнуть горящую головню в священные наши камни. Мне же теперь Москва покуда целехонькая нужна. Я знаю: защитить ее – нет у меня сил. И уйти от нее в сторону – смерти подобно. Неприятель пойдет за армиею нашею, чтобы добить ее до конца. И тогда не Москва одна – пропадет Россия. Посему одно остается: самим пройти чрез Москву, чтоб заманить в нее следом все Наполеоново войско. И тогда сама столица доделает то, что оказалось бессильно соделать храброе, но ослабевшее мое воинство. Есть такая способность у губки: враз всосать в себя сколь можно воды. Так и город – рассосет соблазнами то, что пока зовется «Великою армиею», превратит ее в скопище мародеров, воров и пьяниц. А тогда, граф, и твоего красного петуха подпустить – тут я с тобою не спорю. Но – не прежде, чем я столицу отдам и сам из нее уберусь».
Итак, граф, в одном могу вас уверить: мое убеждение – дать здесь, у стен первопрестольной, решительный отпор злодею! Правда, многие мои генералы, как и ты сам, сомневаются: а надо ли? – Набухшее веко чуть приподнялось на незрячем глазу. – Вон Ермолов, начальник главного моего штаба. Подойди-ка, Алексей Петрович, к нам с графом. Выходит, по твоим словам, сия позиция не совсем годна для решительного сражения?
Генерал, богатырской стати, широкий в плечах, явно смутился.
– Я о том вашей светлости уже имел честь доложить, что на сем месте – от Поклонной горы и до гор Воробьевых – не так будет удобно разместить шестьдесят тысяч человек.
Кутузов протянул к Ермолову свою руку и, пощупав его пульс, спросил:
– Здоров ли ты, Алексей Петрович? – И, оборотясь к Ростопчину: – Сей час получил я государев рескрипт: волею его императорского величества произведен я, в генерал-фельдмаршалы. Мне ли теперь, обласканному царскою милостью, не спасти Москву? Жди нонче уже к вечеру от меня письма, любезный граф Федор Васильевич, на тот счет, как поступать тебе согласно, моему решению.
В свой особняк на Большой Лубянке Ростопчин вернулся в возвышенном состоянии духа и с порога объявил страдающему Багратиону:
– На Воробьевых горах и на Поклонной – сам видел – готовятся к бою. Не отдадим, князь, древней нашей святыни – Москвы! А коль станет в нее ломиться неприятель – зажжем, как свечу, чтоб один только пепел закрутился по ветру.
– Истинно, друг мой, – ободрился Петр Иванович. – Лучше город предать огню, нежели сдать неприятелю. Эх, мне бы теперь встать и объявиться пред полками!
– Господь с тобою, князь, тебе чуть свет завтра далее надо ехать, – замахал на него руками Ростопчин.
– А куда? Кто и где меня, бездомного, ждет? В Симы податься? Там – никого. Князь Голицын Николай сказывал: его отец и мой друг генерал Борис Андреевич то ли во Пскове, то ли во Владимире готовит ополчение. Тетка моя, княгиня Анна Александровна, с дочерьми в Санкт-Петербурге. Помру – некому глаза будет закрыть и негде окажется похоронить – места своего не имею, где пустил бы свои корни. А Москву коли сдадут – умру не от раны своей, а от тоски безысходной.
– Будет тебе! – остановил его Ростопчин. – Да как можно такое говорить? Тебе жить, а не помирать. Тоже мне заладил, будто не первый герой отечества. А родня твоя – вся Россия. Да первый твой брат, коли на то пошло, – я, Ростопчин – граф. Только скажи я, что в дому моем сам Багратион обретается, тебя, друг мой, на руках до самого Ярославля понесут, дабы только укрыть и спасти!
А к ночи уже заходили ходуном двери в доме главнокомандующего Москвы. Вестовой офицер вручил пакет от Кутузова. Вскрыл его Ростопчин и ахнул:
– Провел меня старый лис, ох как подло провел! На улицах уже – армия наша: оставляют Москву. Ах, князь, каков сей гусь! Мало того, что отдает город злодею – так и мне не позволил зажечь столицу на виду неприятеля.
Так на самом деле и задумал Кутузов: он до поры до времени и от генералов своих, кто рвался в бой, скрыл, что судьба столицы им уже определена. Лишь в середине дня на военном совете в Филях, выдворив с Поклонной горы Ростопчина, он объявил свое решение.
– Поток неприятельских войск нечем ныне остановить, – сказал он, выслушав каждого из присутствовавших на военном совете. – Пусть же Москва станет на его пути губкою или лучше – западнею, в коей он и потеряет свою силу. Тогда и пожар в ней будет к месту.
Все, кто находился в доме на Большой Лубянке, высыпал на улицы. Бросился за вестовым, присланным светлейшим, и Ростопчин. Армия, как увидел он, шла через Дорогомиловский мост и Замоскворечье, через Арбат к Рязанской дороге.
Лишь назавтра, вернувшись домой, нашел он у себя на столе записку Багратиона: «Прощай, мой почтенный друг! Мне боле не жить. Рана моя смертельная – не в ноге, а прозванье ее – Москва».
Поутру второго октября из ворот голубого с белыми разводами генерал-губернаторского дома выехала четырехместная дорожная карета, запряженная шестеркою лошадей, и взяла направление на Владимирский тракт. За нею двигался целый поезд из колясок, экипажей и телег – по распоряжению Багратиона с ним следовали прибывшие в Москву из-под Бородина раненые воины. За каретою скакал казачий конвой.
Тяжело было на сердце Багратиона – нестерпимо мучила боль, усиливающаяся в дороге, и тревожили думы: что ожидает его впереди. Одно приносило хоть какое-то успокоение – сознание выполненного долга. И не только пред отечеством – пред товарищами, с коими был на поле боя. За два дня пребывания в Москве он составил список всех отличившихся своих подчиненных, начиная с генералов, старших и младших офицеров и кончая нижними чинами, кого следовало представить к наградам. Бумаги он вручил своему адъютанту Меншикову, чтобы тот передал их Кутузову.
Что оставалось сделать еще, о чем ни в коем случае не следовало забыть, пока он находился в сознании и здравом уме? Составить завещание? Но есть ли у него какое-либо имущество, которое можно было бы кому-то завещать? Какие-то оставшиеся суммы от жалованья да еще, кажется, деньги, полученные за дачу в Павловске, которую он продал императрице Марии Федоровне. Оставалось лишь отпустить непременно на волю людей, что были приписаны к нему в качестве крепостных, – всего пятеро душ.
Сию волю он уже также изложил на бумаге и засвидетельствовал подписью Николая Голицына, прежде чем отправить его назад, в кутузовский штаб.
Дорога укачала, и он встрепенулся от дремы лишь в виду Троице-Сергиевой лавры, когда услыхал голос Меншикова.
– Ваше сиятельство, извольте – вам почта из Петербурга. Ее передал мне светлейший, наказав, чтобы как можно быстрее – за вами вдогон.
– Что Москва? – нетерпеливо перебил его Петр Иванович. – Вошел в нее враг?
– Так точно, ваше сиятельство, французы уже в городе. Но она, святая, подожгла самое себя! Горит, как свеча, со многих сторон. Оглянитесь: даже отсюда зарево видать.
– Внял, внял ты, Господи, моим молитвам! – перекрестился Багратион на золотые купола лавры.
И, обратив свой взор на жидко подсвеченное пожаром небо позади их кареты, вспомнил свой разговор с Ростопчиным, «Да, хитрил сей гусь, новоиспеченный фельдмаршал. Хотел и Москву сдать, и себя вроде сим предприятием в потомстве не обесчестить. Мол, и первая мысль отказаться от новой схватки с неприятелем у стен Москвы не ему должна быть присвоена, а так-де решил военный совет! Он лишь подчинился его воле и тогда уж отдал приказ об отступлении чрез Москву. Токмо надо знать народ русский: даже безоружный, он последнее средство выискал, чтобы противостоять неприятелю, – красного петуха. И уже коли так получилось, первопрестольная станет для злодея вторым Бородином. Я же свершил свой долг в сей войне, должно быть, уже до самого конца».
Затем, взглянув на письма, взял в руки пакет с царскими печатями, которые адъютант уже успел сломать. На гербовой бумаге собственною рукою государя было выведено:
«Князь Петр Иванович
С удовольствием внимая о подвигах и усердной службе вашей, весьма опечален я был полученною вами раною, отвлекшею вас на время с поля брани, где присутствие ваше при нынешних военных обстоятельствах столь нужно и полезно. Желаю и надеюсь, что Бог подаст вам скорое облегчение для украшения деяний ваших новою честию и славою. Между тем не в награду заслуг ваших, которая в непродолжительном времени вам доставится, но в некоторое пособие состоянию вашему жалую вам единовременно пятьдесят тысяч рублей. Пребываю вам благосклонный
Александр».
«Царская милость ко мне всегда была благосклонною, – сказал себе Багратион. – За это я не могу не быть благодарным. А что не всегда давалась мне потребная воля, в том ничьей нет вины. У каждого – свой долг и свой ответ пред Богом. У него – за Россию свой. И у меня свой за нее, за мое благословенное отечество. И свой же ответ перед ним, Всевышним. К тебе, Царь Небесный, я и обращаю ныне свою молитву: коль нужна тебе чья-либо жертва – возьми теперь мою жизнь, но спаси и сохрани Россию! Более мне от тебя ничего не надо. Может, только – твое прощение за сотворенное мною на сей земле. Война и кровь. То, верно, не богоугодное поприще, однако ему-то я и посвятил свою жизнь. Только не из лютой ненависти ко всему живому и сущему – лишь затем, чтобы сие живое всегда защищать от тех, кто сам проявляет злобу. Впрочем, воздашь ли ты, Боже, за сей мой нелегкий труд, как воздал за подвиги мои мой земной государь, не о том обращенные теперь к тебе, может быть, мои последние мысли. Знай одно, Создатель наш и Творец: я вручаю тебе мою жизнь с радостью и светлым чувством, ибо жизнь моя – ничто, перед болью и судьбою моего родного отечества. Вот ее, Россию, я и молю тебя спасти».
Письмо другое было от Кутузова. Оно было исполнено сочувствия в связи с печальным отъездом князя от армии и выражало уверение в скорейшем восстановлении его здоровья. Петр Иванович положил это послание рядом с государевым, дав себе слово завтра же послать ответ царю и главнокомандующему.
Последнего письма, что подал ему адъютант, Багратион, признаться, никак не ждал. Но оно особенно его взволновало, лишь только увидел подпись: «Принц Георг Ольденбургский». «…Я пишу сии строки больному, но победоносному Багратиону. С большим сожалением Великая княгиня и я, мы видим раненым вас, надежду наших воинов. Дай Бог, чтобы вы скоро, опять могли предшествовать армиями… Великая княгиня поручила мне изъявить вам искреннее свое соболезнование…»
«Господи, так это же от нее! Как же я не начал сразу с этого письма? Она не могла сама – попросила мужа. А ведь у меня до сих пор хранятся листки, написанные ее рукою! Где же они? Ага, здесь, в моей дорожной шкатулке».
Он велел открыть ларец. Там, кроме писем, оказалось и другое, что сразу бросилось ему в глаза, – четыре медальона, четыре дорогих для него портрета.
Один из них – лик Суворова. Кумира, учителя и благодетеля, которого – так уж сложилось – он чтил, наверное, более, чем родного отца. Другим изображением было лицо императрицы Марии Федоровны. Табакерка, на коей был нарисован ее облик, хранилась, наверное, как память о большой семье, в которой он, рано лишившийся собственной, был радушно принят; вот этой женщиной, ее главою.
На следующем медальоне была она – великая княгиня Екатерина Павловна, которая теперь, узнав о его несчастье, не преминула послать свои слова сострадания и утешения, боли и надежды.
Он поднес к губам ее портрет, и в тот же самый миг глаза его увидели там, на дне ларца, лицо другой женщины, и тоже Екатерины Павловны.
«Господи! Что за наваждение – у них у обеих одно имя и одно отчество! – только теперь до него дошла сия простая догадка, которая, наверное, никогда не приходила раньше ему в голову. – Одно имя – и два разных, совершенно не похожих друг на друга ни внешне, ни душою существа! Но почему они здесь, рядом? Неужели их связало это случайное обстоятельство – сходство имен? Нет, сие не просто случайность. Связь сих существ – моя к ним любовь. Да, да, непохожая и совершенно разная. Как не похожи между собою тень и свет, добро и зло. Но связь сия, наверное, так же едина, как и сама жизнь, в коей всегда связаны ее начало и ее конец. Так, верно, вместе они и пребудут в моем сердце, когда я предстану пред ним, моим Создателем».
Сие озарение, пришедшее к нему в пути, теперь уже не отпускало его всю дорогу, до самого села Симы, куда он наконец приехал, поскольку двигаться далее уже не было сил.
Да и куда и зачем было ему направляться дальше, когда заканчивался вообще его земной путь. И все было так, как всегда бывает в жизни, – вот ее начало и тут же ее конец.
И всегда рядом – добро и зло, радость и горе, свет и мрак.
И вдруг он увидел въяве нестерпимо яркий свет вдали, который быстро стал к нему приближаться и окружать его со всех сторон. Ему стало легко и счастливо. Теперь свет этот уже был он сам.
И тут же он ощутил, что это – не свет. Со всех сторон его объял мрак – непроницаемый и вечный.
Счет дней его остановился, не дойдя до полных сорока семи лет.








