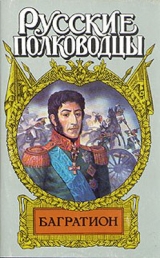
Текст книги "Багратион. Бог рати он"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 42 страниц)
– Ты о пряниках, Кульнев?
– О них, брат. И о том, что ребятишкам они страсть как понравились. Сладкие, медовые. Таких они не едали. Такие только у нас на Москве пекут. Радостно, брат, когда видишь детские рожицы и как они лакомятся сладким. Знаешь, какие у них при сем глаза?.. Эхма, не обзавелся я ни женой, ни чадами. А уж пора – переросток, сорок пять годков уж стукнуло. Только успею ли? – И вздохнув: – Ладно, поспи хоть чуток. Забыл тебе сказать: с утра в бой пойдем…
Рассвет еще как следует не наступил, а Кульнев и Давыдов уже были на конях. Ночные дозоры донесли: от селения Иппери навстречу движется неприятельский передовой отряд. Чтобы упредить его атаку, Кульнев выдвинул вперед три батальона пехоты и шесть пушек – Раевский укрепил авангард, в том числе и орудиями, против того, с чем он выступил из района Або.
Эта сила – в лоб. А в обход, по льду Ботнического залива, двинулись гусары и казаки.
Бой завязался на большой дороге и в лесу, сквозь который эта дорога проходила. Шведская пехота остановилась, задержанная нашим ружейным огнем. И тогда неприятельские драгуны, завидя русскую конницу, сами спустились на лед. Это был их знаменитый Ниландский полк, которым шведы гордились.
– Кульнев, гляди, как дружно понеслись шведы. Не одолели бы наших гусаров! – забеспокоился Давыдов. – А и верно: передовые казаки дрогнули и поворотили вспять.
Яков Петрович отозвался смешком:
– Это одна из моих хитростей. Казачьи фланкеры отъезжают с умыслом, чтобы заманить драгун. Айда, Давыдов, к нашим конникам – сам увидишь, какая сеча сейчас начнется и как дрогнут шведы.
Не успели они доскакать до задних рядов гусар, как передовые наши конные ряды уже врезались в строй драгун. Что это была за величественная картина! Гладкая снежная пустыня морского залива, и на ней врассыпную, спасаясь отчаянным бегством, – ряды еще за минуту до этого, казалось бы, грозной вражеской конницы. А по пятам за ними – казаки и гусары.
Один за другим, поддетые пиками, изрубленные саблями и палашами, сваливаются с седел драгуны. Многие бросают оружие и в страхе поднимают вверх руки.
Но что там впереди, откуда доносятся крики шведов? Кульнев с Давыдовым дали коням своим шпоры и устремились туда, где, окруженная казаками, отчаянно сопротивлялась группа неприятельских всадников.
– Ах так, немчура! – донесся грозный русский выкрик. – Счас изрубим всех до одного, как капусту.
И вдруг, разрывая морозный воздух, раздался отчаянный ответный крик шведов. Чей-то голос на французском языке завопил:
– Кульнев, Кульнев! Спасите нам жизнь!
– Стой, братцы, стой! – теперь закричал Кульнев и врезался в сечу, которая могла завершиться непоправимым, исходом.
Прямо перед ним, окруженный казаками, едва сидел в седле шведский генерал. По лицу его струилась кровь;
– Честь имею представиться вам, полковник. Я – генерал Левенгельм, адъютант короля, – произнес раненный всадник. – Всего несколько дней назад я прибыл на север Финляндии из Стокгольма для исправления должности начальника главного штаба наших войск. Со мною – мой адъютант капитан Клерфельд.
– Вы в безопасности, генерал! – воскликнул Кульнев и, соскочив с лошади, бросился к своему пленнику, которому уже помогли слезть с седла.
Оказалось, генерал ранен пикою в шею, но горло, на счастье, не было повреждено. Несмотря на то что пленник был в крови, Кульнев обнял его, чтобы окончательно успокоить.
– Отныне вы, генерал Левенгельм, не враг мой. Вы будете под моим попечением, как и все ваши соотечественники, которые сложили оружие. – Голос Кульнева был мягок и ласков.
Через несколько дней генерал и его адъютант были препровождены к князю Багратиону, а от него в главную квартиру русских войск. Кульнев же двинулся далее на север, вдоль побережья, и занял город Братештат.
Меж тем не все шло гладко. В Олькноках неожиданно авангард встретил отпор.
Чем ближе было до Улеаборга, тем сильнее становилось сопротивление шведских и финских войск. Здесь уже заканчивалось их беспорядочное бегство, и командир корпуса генерал Клингспор собирал разрозненные силы.
Однако Кульнев увлекся и, изменив свойственной ему осторожности, подставил себя под удар. Это случилось у Сиганокской кирхи. Казалось бы, что осторожничать и медлить, коли финский арьергард, с которым столкнулся Кульнев, сам снимается с позиций и готов бежать? Но тут произошло непредвиденное: на помощь арьергарду Клингспор бросил чуть ли не все силы своего корпуса.
Схватка была молодецкая, но превосходство неприятеля восторжествовало и должно было восторжествовать. Позже вспомнит Денис Давыдов о том сражении:
– Мы уступили место боя. Урон с обеих сторон простирался до тысячи человек. Со стороны нашей был убит двадцать четвертого егерского полка майор Конский, со стороны неприятеля – полковник Флеминг. Кульнева Бог спас: ядро пролетело так близко к нему, что раскаленным жаром обожгло ему ногу.
Так и шли с боями – вперед и вперед, тесня неприятеля. Только иногда на ум приходила мысль: что же такое происходит на этой войне, когда все, считай, главные силы сосредоточены на юге Финляндии, где уже закончились бои, а здесь, куда хлынула ушедшая от окончательного разгрома неприятельская армия, – лишь разрозненные наши войска? Да что там – войска, тут – клок, там – другой, как справедливо возмущался князь Багратион.
Только для военного человека приказ – святое понятие.
– Прикажут, брат, к самому Полярному кругу пойдем, – отшучивался никогда не унывавший Кульнев.
– Вот за это я тебя, Кульнев, и люблю, – признавался ему не раз в минуты откровения его молодой друг штабс-ротмистр Давыдов. А однажды ночью, в какой-то заброшенной халупе, во время перехода к Пигаиокам, предложил: – Я тут для смеху сочинил одни стихи. О тебе, Кульнев. Хочешь прочту?
– Валяй, Давыдов, пока кто-либо из дозора не подъехал.
– Ну тогда внимай, – сказал поэт-гусар.
Глава семнадцатая
Поведай подвиги усатого героя,
О муза! – расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.
Румяный Левенгельм на бой приготовлялся
И, завязав жабо, прическу поправлял,
Ниландский полк его на клячах выезжал,
За ним и корпус весь Клингспора пресмыкался.
О храбрые враги! Куда стремитесь вы?
Отвага, говорят, ничто без головы.
Наш Кульнев до зари, как сокол, встрепенулся,
Он воинов своих ко славе торопил.
«Вставайте, – говорил, – вставайте, я проснулся!
С охотниками в бой! Бог храбрости и сил!
По чарке, да на конь, без холи и затеев;
Чем ближе, тем видней, тем легче бить злодеев!»
Все вмиг воспрянуло, все двинулось вперед,
О муза, расскажи торжественный поход!..
Странное дело: война гремела не где-то за тридевять земель, а, можно сказать, – из Санкт-Петербурга рукой подать. А о ней долго столица не ведала ни слухом ни духом. Что уж говорить об остальной России, до которой любая весть докатывалась спустя чуть ли не годы!
Да нет, царские манифесты об объявлении войны против тех же французов что в Италии, что в Австрии, а затем в Польше и Восточной Пруссии зачитывались с церковных амвонов в самые первые же дни похода супротив неверных. И вся огромная Россия, посылая проклятия ворогу, молилась за успехи своих ратников, желая им скорейшей победы.
Тут же – ни царских манифестов, ни церковных молебствий.
Лишь когда почти вся Южная Финляндия с городами Гельсингфорсом и Або, все побережье Финского и части Ботнического залива были заняты русскими войсками, читателям «Санкт-Петербургских ведомостей» впервые сообщили о сих успехах. А заодно – и о причинах самой войны: «Стокгольмский двор отказался соединиться с Россией и Данией, дабы закрыть Балтийское море Англии…»
А через десять дней после сего сообщения был обнародован и манифест, в коем о начале военных действий говорилось так: «Явная преклонность короля шведского к державе неприязненной, новый союз с ней и, наконец, насильственный и неимоверный поступок с посланником нашим в Стокгольме учиненный сделали войну неизбежной». Под державой неприязненной имелась в виду Англия.
Меж тем при русском дворе шведская война не была тайной. О том, что она разразится, знали с Тильзита. И самая верхушка общества, начиная с императрицы-матери, никак не могла смириться с тем, что император Александр стал плясать под Наполеонову дудку. Это ведь он, французский император, оказавшись не в силах завоевать Великобританию, объявил ей континентальную блокаду. Но ему мало было закрыть собственные порты и гавани Германии. В Тильзите он поставил условие: Россия обязана не только прекратить торговлю с англичанами и объявить им войну, но потребовать от своей северной соседки – Швеции сделать то же самое.
Однако заведомо было известно: король Густав Четвертый Адольф не решится на этот шаг. Его бедная страна только и держится благодаря тому, что получает из Англии все необходимые товары, начиная, к примеру, с соли, без которой она не может вести промысел рыбы, что является главной статьей ее доходов.
Принятие условий блокады больно било и по российской экономике – рвались давние торговые связи с промышленностью Англии, и заменить их было, увы, нечем. Так что не только амбициям и гордости российскому правящему классу наносил удар Тильзит. От кабальных условий союза с наполеоновской Францией страдало купечество, расстройство грозило всей финансовой системе России, что особенно остро проявилось через каких-нибудь пару лет.
В другое время, верно, все общество восприняло бы как великую победу присоединение соседних земель Финляндии и безграничное владение Балтийским морем. Сие означало достойное завершение устремлений Петра Великого сделать Россию европейской державой. А с другой стороны, воспринималось бы как своеобразная и желанная точка в извечном ратном соперничестве с государством, которое еще с полтавского своего поражения не переставало стремиться к реваншу.
Теперь же, после унизительного Тильзита, во мнении высшего общества России, исключая, конечно, самого императора, война со Швецией выглядела как проявление беспрекословной покорности Александра его новоявленному августейшему брату, кровожадному тирану Бонапарту.
Первой открыто выразила свое отношение к государю его собственная семья во главе с императрицей-матерью. Предупредив, что его, царя, уже считают «приказчиком Наполеона» и что от него отвернется вскоре весь русский народ, Мария Федоровна гневно бросила сыну:
– Вы, ваше величество, рискуете вскоре потерять не только империю, но и семью.
Это была угроза, от которой дрожь пронизала государя с головы до пят.
«Что они мне готовят? Неужто судьбу отца и деда? – в невольном страхе подумал император и вспомнил другие гневные слова – брата Константина, требовавшего от него у Тильзита, наоборот, немедленного мира с Наполеоном. – Что ж это, западня? И почему они, самые близкие мне люди, против меня? Костя был прав: Тильзит – необходимость, Тильзит – временная мера. Это передышка, необходимая державе, чтобы собраться с силами и тогда уже окончательно подняться против Наполеона. Почему же этого не хотят понять мама и другие в моей родной семье? И почему мама подстрекает против меня всех моих подданных, почему именно она стала во главе недовольства?»
И что уж совсем повергло молодого императора в отчаяние, так это слухи об уже явленном против него заговоре, во главе которого якобы стоит его родная сестра Екатерина Павловна.
До него доходило: не только такие обиженные им и фрондирующие вельможи, как граф Ростопчин или один из цареубийц восемьсот первого года граф Толстой Петр Александрович, но и менее знатные господа осмелели до того, что открыто его предупреждают:
– Берегитесь, государь! Вы кончите как ваш отец!
Послы же иностранных государств, те сообщают в свои столицы как непреложный факт: «При Петербургском дворе говорят о том, что вся мужская линия царствующего дома должна быть отстранена, а так как императрица-мать и императрица Елизавета Алексеевна не обладают соответствующими данными, то на престол хотят возвести великую княжну Екатерину».
Слухи эти повергали императора в трепет: неужели самая любимая сестра, кою он любил безумно, до сумасшествия, в чем не раз признавался ей, способна греть на своей груди змею, чтобы ужалить его, родного брата?
С другой же стороны, он, как никто другой в семье, знал силу ее ума и мужественного характера, в коем как бы сбились воедино и способности Екатерины Великой, и воля великого Петра. Недаром, он знал, ее чуть ли не открыто стали именовать Екатериною Третьей.
Однако он, Александр Первый, тоже порождение своей великой бабки, сам был не прост и сам, несмотря на кажущуюся внешнюю мягкость и нерешительность, обладал упрямою волей и знал, к чему стремился.
Нет, он не поддастся Наполеону и не испугается тех, кто здесь, в Петербурге, стремится ему помешать. Или, более того, вынашивает мечту отстранить его от власти; Сему не бывать. Войною со шведами, исконными врагами России, он принесет своей армии победу. И после последних обидных поражений войска и русский народ вновь обретут в себе былую уверенность и силу. Но надо сказать народу о войне не тогда, когда он объявит поход. Такое уже бывало и крепко засело в оскорбленной памяти: сначала литавры, за ними – морда в крови. Теперь он поступит по-иному – предстанет перед державою и подданными уверенным в себе царем-победителем.
Когда свершились первые победные шаги, он так и поступил – возвестил на всю страну и всю Европу о своем несомненном триумфе. И поутихли слухи и недовольства: общее торжество всегда объединяет нацию и возвеличивает ее дух.
Меж тем самому ему хотелось войны более молниеносной и поражения Швеции более существенного. Лишь полный разгром врага и свержение с трона короля виделось ему самым достойным завершением кампании. Только почему сия кампания не завершилась с окончанием зимы? И почему ближе к весне, по многим признакам, боевые действия со стороны противника грозят новыми сполохами?
Теперь же близилась распутица, когда война на время приостановится в краю бесчисленных озер, болот и лесов. Это означало, что придет время подумать и пересмотреть кое-что в стратегии.
«Пусть-ка Аракчеев, военный министр, возьмет совет с генералами, начальствующими на финляндском театре, пусть прикинет, что надобно предпринять, дабы Швеция окончательно пала, – пришел к выводу Александр Павлович. – Говорят, князю Багратиону суровый северный климат пришелся не по нраву: всегда выносливый, и то занемог. Охотно предоставлю ему отпуск для лечения и тотчас же приму его по приезде из армии. Резок и прям он, князь Петр, хотя и политес ему ведом. Генерал же – выше всяких похвал. Почему же, однако, я в последнее время к нему не так мил и любезен, как в самое первое время под тем же, к примеру, Аустерлицем? Ревность – вот в чем, должно быть, причина, – не мог солгать себе Александр Павлович. – Не меня, царя, а его, генерала, сделала Россия своим первым героем, что, честно признаться, уязвило. Только не сие одно – вкупе с сердечностью чувств, что открылись вдруг к нему со стороны моей сестры Екатерины. Это уж к чему? И что великой княжне вдруг взбрело в голову – воспылать нежностью, страшно произнести – любовью, к сей персоне? Записочки, письма к нему на театр войны и – только самые восторженные отзывы о нем в разговорах со всеми окружающими, шутка сказать, – с мама и даже со мною, ее родным братом и императором.
Боюсь, ее поведение может быть неприлично истолковано и непременно нанесет вред замужеству. Кстати, с замужеством следует поторопиться. Другого средства избежать молвы и, не дай Бог, пересудов я не вижу. Неужто Катиша, со всем своим умом, не видит, куда могут завести ее отношения с князем Багратионом? Нет, единственная панацея от возможной беды – под венец! Но с кем, где достойная пара? Что ж, о том надо будет думать мне. Его же, князя Багратиона, по прибытии из Финляндии следует настойчиво склонить к отъезду на лечение. Ради сего я предоставлю ему денежный кредит. Только бы с глаз долой и из ее сердца – вон».
И мысли князя Петра были устремлены к той, чей образ постоянно, особенно в последние дни перед отпуском, неотрывно стоял в его воображении. Как она там, о чем хотела бы поведать ему из своих самых тайных мыслей?
Вспомнил ее письма, полные сарказма по поводу ее сватовства, которые получил он в Тильзите. И представить она себе не могла, что мама через князя Куракина станет сватать ее за такое ничтожество, как австрийский император Франц. И лишь когда сему воспротивился брат-император, она, чтобы показать родным, что не позволит ею вертеть как им заблагорассудится, бросила им с улыбкою:
– А вот захочу и выйду за него!
В одном из писем своих к князю Багратиону она так и написала о своем разговоре с братом, чтобы лишний раз и ему и мама доказать: у ней свой разум и своя воля.
«Брат, – сообщила она, – находит императора Франца некрасивым. Я же не придаю значения красоте, которая вовсе не обязательна мужчине. Он, говорят, неопрятен – я его отмою. Он глуп, у него дурной характер – великолепно! Он был таким в восемьсот пятом году, в дальнейшем он изменится. И еще. Ему – около сорока. Но разве в эти годы мужчина стар?»
Каждая строчка дышала сарказмом. Но Петру Ивановичу особенно запала в душу последняя – о возрасте. В ней единственной, казалось, не было насмешки, а были слова, как бы обращенные к нему, адресату. Разница в возрасте, не раз подчеркивала великая княжна в разговоре с Багратионом, ею никогда не замечалась – так они хорошо понимали друг друга, так были близки их мысли.
Что же скажет она ему теперь, после еще одной разлуки?
Сдав свою двадцать первую дивизию генерал-лейтенанту Раевскому, Багратион мчался средь мрачных финских лесов в Петербург.
Мысли его были о великой княжне Екатерине. Но он не мог в то же время не думать о том, что он обязан высказать в военном ведомстве и по возможности царю по поводу настоящей кампании.
По прибытии в Санкт-Петербург князю Багратиону первым делом следовало представиться военному министру, дабы доложиться и получить отпускные для следования на воды, куда его сиятельство пожелает – за границу или в пределах империи, на Кавказ, о чем не раз он говаривал в кругу близких ему друзей. Благо наступил май, я это означало, что в горах, где били серные и иные пользительные для организма подземные ключи, уже теплынь и благодать, такие желанные еще по воспоминаниям детства.
Как и с графом Ростопчиным, с графом Аракчеевым[26]26
Алексей Андреевич Аракчеев (1769–1834), русский государственный деятель, граф. В 1815–25 гг. – фактический руководитель государства.
[Закрыть] Багратион был коротко знаком еще с павловских времен по совместной службе в Гатчине. Разное говорилось в столице о бывшем императорском любимце.
Находились люди, которые божились, что чуть ли не сами видели, как сей зверь однажды на учениях оторвал солдату ухо. Иные, не оспаривая ревности к службе и даже излишней педантичности и суровости характера павловского фаворита, утверждали, что сии качества у Алексея Андреевича проистекают от исступленной любви к порядку и методичности.
Впрочем, и те, кто презирал эту «обезьяну в мундире», и те, кто автоматическую точность в исполнении поручений объяснял высочайшей преданностью вверенному делу, сходились в одном: у сего царедворца не отнимешь известных способностей администратора, а также поразительной работоспособности. И, как ни странно, исключительной честности, граничащей с совершеннейшей скупостью и аскетизмом в первую очередь по отношению к собственной персоне.
Происходивший из мелкопоместных дворян, Алексей Андреевич был беден и потому скромен. И всему, чего добился в жизни, в том числе графского достоинства, был обязан своим усидчивым трудом.
Особенно отменны были его знания артиллерийского дела. Поначалу за сии способности из преподавателей математики кадетского корпуса, который когда-то окончил и саму где его ненавидели все, начиная с директора, за нетерпимую в общежитействе мелочность и склочность, Аракчеев был назначен в Гатчину именно начальником артиллерии великого князя Павла Петровича. А стал затем главным инспектором его войск.
Казалось, после кончины императора время «свирепого бульдога» уйдет навсегда. Однако Александр Павлович, эдакий либерал и само воплощение гуманности и кротости, вскоре приблизил его к себе. Он даже кому-то признался: чтобы держать в повиновении армию, во многом представляющую сброд негодяев, пьяниц, трусов и казнокрадов, необходим именно такой человек – строгий до безжалостности и честнейший до щепетильности.
Не только не сделал бы карьеры, но попросту не выжил такой любимец армии, как Багратион, не умей он, в силу своих природных дарований, видеть в жизни не просто черное и белое, но, напротив, малейшие оттенки человеческих характеров. Что могло объединить, к примеру, такие диаметрально противоположные натуры, как Багратион и Аракчеев? Смело следует утверждать: конечная цель, к коей они оба стремились. И цель сия была – видеть русскую армию сильной и могучей, самой первой армией в Европе.
Ну а как же с оторванным ухом и выдернутыми с мясом у какого-то капрала усами? На сей счет добродушнейший Петр Иванович мог бы ответить: басни. Зато тут нее припомнил бы, как еще в той же Гатчине Алексей Андреевич был не просто любезен, но проявлял прямо-таки исключительные отеческие чувства к подчиненным. Вечерами, после учений, к нему на чай охотно собирались офицеры. И он за самоваром непринужденно вел с ними интересные разговоры, объясняя тонкости военной теории, вызывая их на расспросы и терпеливо отвечая на десятки и сотни «почему» и «зачем».
В армейских делах не было таких предметов, коих бы не ведал и в кои не вникал бы этот докучливый педант. Нет, он не был боевым офицером и даже не участвовал ни в одном сражении, но все, что касалось до устройства войск, начиная с отливки пушечных стволов и снабжения армии портянками, Аракчеев знал досконально. А главное, знал, сколько стоит каждый пушечный ствол и пара подверток в солдатские сапоги и сколь можно и нужно сэкономить средств, делая сие не во вред армии в целом.
Военное министерство Аракчеев принял и самом начале восемьсот восьмого года, лишь за какой-нибудь месяц до начала шведской войны. И эта война предстала пред ним не только в виде реляций о победном марше войск, но в виде костяшек на простых канцелярских счетах. Сии костяшки он, как добросовестный чиновник-счетовод, поджав узкие губы, со вздохом передвигал ежевечерне, суммируя те огромные расходы, которые несла Россия в Финляндии.
Чуть ли не в день приезда Багратиона в Санкт-Петербурге получили сообщение о взятии Свеаборга. Эта крепость считалась одною из самых неприступных цитаделей Европы, и потому овладение ею воспринято было как подлинная виктория наших войск. Невольно в памяти у многих возникли Очаков потемкинских времен, суворовские Прага, Измаил и Рымник.
Да и было чем возгордиться! Свеаборг, этот северный Гибралтар, являлся ключом ко всему Балтийскому морю. Расположенная на семи островах невдалеке от финляндской столицы Гельсингфорса, крепость имела самую мощную и самую современную фортификацию и защищена была двумя тысячами орудий. Кроме того, в шхерах крепости находился галерный флот из ста десяти судов. Крепостной гарнизон из семи тысяч человек обеспечен был порогом, ядрами и прочим снаряжением, а также запасами продовольствия, которые позволяли выдержать любую осаду.
И нате вам – твердыня пала за каких-нибудь полтора месяца после того, как русские войска подошли к ней вплотную со стороны суши. И капитулировала, притом без малейшего сопротивления!
– А значит, без малейшего, с другой стороны, для нас урона и лишних казенных трат, – звонко скинул круглые колесики костяшек на счетах военный министр, быстро глянув исподлобья на собеседника. – Разве сие не есть главный итог кампании, когда виктория достается без всякого разора для государства? Так что Потемкина с Суворовым вроде бы не к месту мы с тобою припомнили, князь Петр Иванович. Лили они, что ни говори, реки крови. А уж казну опустошали – не приведи Господь!
Произносились вроде бы чувствительные слова, а вот физиономия говорившего при этом словно ничего и не выражала. Еще далеко не стар – в будущем году исполнится лишь сорок. Ростом высок, хотя и сутул. На костлявых плечах поношенный артиллерийский темно-зеленый мундир, на шее, точно образок, – портрет покойного императора Павла Первого. Впалые бритые щеки, тонкие – в ниточку – губы. Мутные, неопределенного цвета, блеклые глаза никогда почти не глядят собеседнику в лицо.
– Изволили, граф Алексей Андреевич, намекнуть на то, что знаменитые наши предшественники по ратному ремеслу брали много из казны на войну, а тут вот – все задешево? – Багратион остановил проницательный, жаркий взгляд на сером лице министра. – Не торопитесь, ваше сиятельство, считать барыши. Вспомните-ка: скупой платит дважды!
– Это же как вас изволите, князь, понимать? – впервые, наверное, не сразу спрятал глаза Аракчеев.
– Да не тут, не тут, любезнейший Алексей Андреевич, скупость, что дерзнул я упомянуть, – указал Багратион рукою на массивный письменный стол военного министра с канцелярскими счетами. – Скупость, о коей веду речь, вовсе даже не скупость, а скудость. Да-с, скудость ума, за которую нам и доведется платить дважды!
Глаза военного министра спрятались за красными набухшими веками. Меж тем Багратион продолжал:
– Свеаборг взяли без крови – куда с добром! Так и следовало делать. Тому нас, своих учеников, Суворов еще в Италии учил. Это я в самом начале кампании Свеаборг обошел стороною, выслав отряд Раевского обложить крепость. А сам – далее вперед и вперед. Потому теперь вся Финляндия с юга – наша. Вот тут бы, по примеру свеаборгской осады, оставить на побережье самые малые силы, а главными – вдогон за отступающим неприятелем. Нет же – главнокомандующий все сделал наоборот: на побережье, где уже окончились бои, оставил две самые сильные дивизии, слабую же отрядил для острастки на север. И вот, собравшись, шведы и финны начали уже нас теснить. А летом непременно станут наступать и вновь брать уже освобожденные нами города и веси. Вот почему я изрек: предстоит платить дважды. И радоваться Свеаборгу – рано!
Круглая костяшка счетов резко стукнула под пальцами Аракчеева.
– Выходит, впереди еще год войны? – покачал он головою.
– Да уж все идет к тому, – развел руками Багратион. – А почему? Суворов учил: пока у противника есть армия, держава не побеждена. Потому считал главным: не довольствоваться захватом территории, а громить врага до полного его уничтожения. Мы же неприятеля лишь отогнали от себя, позволили уйти на север, а там – собраться в кулак. Теперь жди: кулак тот зачнет гулять по нашим же скудоумным головам.
Аракчеев встал из-за стола, старчески, не по годам, шаркая, подошел к стулу Багратиона.
– Верю тебе, князь Петр Иванович, как самому себе верю, – ласково произнес. – Оба мы с тобою радеем об общем деле пуще всяческих личных выгод. Вот почему нам с тобою правда дороже почестей. Одна святая преданность монарху и отечеству, преданность без лести – вот наш с тобою удел. А самим нам, воспитанным в бедности, никаких благ и не надо. Изношенный мундир на плечах, зато – мундир чести.
И, снова пошаркав вокруг стула Багратиона, склонился к его уху:
– Мысли твои, Петр Иванович, весьма дельные, хотя, признаюсь, несколько островаты. Однако о нашем с тобою разговоре я непременно доложу государю.
Говоря строго меж нами, его величество и сам недоволен тем, как повел дело Буксгевден: застрял, понимаешь ли, в краю лесов, шведам же за морем – и подавно никакого урону. А первейшее желание нашего императора – так наказать свейского короля Густава-Адольфа, чтобы упал на колени и запросил пощады. Так что, полагаю, государь непременно захочет тебя видеть. Посему погоди-ка пока ехать на воды. А я тотчас дам знать, когда сам назначит аудиенцию. В Гатчину не заглянешь? Вот-вот, я так и думал: как не повидать матушку-императрицу Марию Федоровну, нашу с тобою благодетельницу!
На другой уже день государь, выслушав Аракчеева, промолвил:
– Быстр, не скрою, и действиями и умом князь Багратион. Сего у него не отнимешь. Только бы к сей резвости да иногда – понимание своего места. Небось направился теперь в Гатчину и Павловск?
– Так точно, ваше величество, – елейным голосом произнес военный министр. – Доложиться ее императорскому величеству Марии Федоровне, полагаю, первейший долг летнего коменданта Павловска.
Намек на тончайшую улыбку чуть тронул губы Александра Павловича.
– Знаю, Алексей Андреевич, природную твою доброту – выгораживаешь товарища. Только что бы ему дождаться аудиенции у меня? – И, стерев с лица подобие улыбки, про себя уже сурово добавил: «Спешил к Екатерине, торопился. – И, хмыкнув, опять про себя: – Екатерина Третья… Нет уж, тому не бывать! Замуж ее – и быстрее». – Сам возьму сие дело в собственные руки.
Последнюю фразу император вдруг произнес вслух, и Аракчеев не сдержался, чтобы не спросить:
– Ваше императорское величество изволили выразиться о ходе Шведской кампании?
– И о ней – не в последнюю очередь, – отозвался император. – Финляндия отныне будет присоединена к империи Российской. Но я не успокоюсь, пока на троне будет оставаться этот зазнайка Густав-Адольф.
И, пройдясь по ковру кабинета, вернулся от окна к столу, возле которого продолжал стоять в ожидании военный министр.
– Ты вот что, Алексей Андреевич, поторопи князя Багратиона с поездкою на воды. К осени ему следует вновь быть на театре войны. Сам ведь он полагает: не все идет как следовало быть. Вот пусть и поправляет дело.








