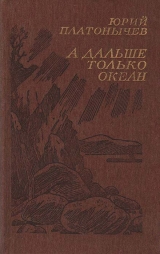
Текст книги "А дальше только океан"
Автор книги: Юрий Платонычев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
После замкнутого пространства подводной лодки мир казался Павлову огромным и удивительным. Прохладная ночь сильно пахла водорослями, на закатной стороне неба, по его нежной синеве, вызубривались далекие горы, чуть правее, на склоне сопки, возвышавшейся правильным конусом, спал военный городок. Под круглой луной холодным серебром плавился угомонившийся океан. Даже не верилось, что совсем недавно он гневался и клокотал, ярился и швырял пену.
Из приоткрытой рубки корабля, стоявшего у соседнего причала, доносилась широкая, волнующая мелодия. Чарующие звуки музыки заполняли все вокруг. Чудилось, что океан не только прислушивается к ней, но и вполголоса подпевает, сверкая по горизонту мелкой чешуей.
Мягко пели скрипки. Проникновенная их исповедь звучала сдержанно, доверительно, словно то не струны пели, а открывалась просторами Русь необъятная, по бескрайним ковыльным степям шумел легкий ветерок, теплый, шаловливый, ласковый. Потом ветерок начал крепчать, разгонялся, буйно колыхался в травах, в пшеничных нивах, в березовых рощах, гнул камыши у широкой реки… А может, то сам батюшка Океан заговорил? Сначала он радовался ветерку, ластился к нему, угождал, а как запел ветер в снастях, заскрипел в мачтах, засвистел в полную силушку, тогда и океан разошелся… Но почему степь, почему океан?.. Может, то звуки – слова притчи туманной, слышанной в далекой юности, может, чья-то душа рвется в смятении? Да мало ли что всколыхнется, когда слышишь настоящую музыку…
В последние годы Павлова все больше привлекал волшебный мир звуков. А началось это давно. Еще мальчишкой, делая уроки за отцовским столом, иной раз он забывал выключать картонный, в виде тарелки, репродуктор и с удивлением замечал, что репродуктор совсем не мешает, даже помогает думать, когда приносит тихие, задушевные напевы. Что там передавалось, он не знал, но постепенно музыка начинала нравиться. Особенно хорошо было под музыку читать книги: отважный д’Артаньян казался еще отважнее, Соколиный Глаз еще благороднее… Потом, уже в военно-морском училище, старенький капельмейстер так складно рассказывал о Моцарте, Григе и, конечно, о Чайковском, так образно дополнял рассказанное своим духовым оркестром, что Павлов всерьез подумывал: не будь такой профессии – моряк, непременно сделался бы дирижером.
– Приобщайтесь, молодые люди, к музыке! – с дрожью в голосе призывал капельмейстер. – Море и музыка – самое прекрасное!.. Приобщайтесь к прекрасному, и оно одарит вас сторицей!
Позднее, в лейтенантах, когда служил на малых кораблях, бывало, на рейдах, коротая ночи, с удовольствием слушали Москву: симфонии, концерты, оперы…
Как-то за полночь Павлов перечитывал в «Войне и мире» место, где Наташа, готовясь встретить раненого князя Андрея, находилась в крайнем смятении; а тут как раз по радио передавали песню «Во поле березонька стояла». Так с тех пор и остались в глубине его памяти вместе – несчастная, растерянная Наташа Ростова и одинокая, озябшая березка. Тогда и дошло, что большие чувства всегда рядом с большой музыкой, вернее, в самой музыке. Сама музыка – это любовь и ненависть, это восторг и уныние, это тревога и раздумье, это взлет и падение, это всегда надежда…
«Что у нас завтра? – подходя к городку, Павлов переключался на береговые заботы. – Ах, да!.. Ведь должен быть гарнизонный смотр самодеятельности… Ветров давно напоминал».
Жюри обосновалось в пятом ряду – грузный майор Скоробогатов – худрук местного ансамбля, незнакомая Павлову женщина в очках, блондин с усиками – начальник клуба, еще офицер и мичман. Сидят важно, даже пыжатся. Все хлопают, а им не пристало. Только крестики ставят на программках, да еще прикрываются, когда их ставят. В переднем ряду сидит сам Терехов, по левую руку от него – Павлов с Ветровым, по правую – Карелин с Игнатенко. Они сегодня соперники.
Только что румяный мичман с якорьками на воротнике объявил следующий номер. Занавес распахнулся, обдав первые ряды холодом, и на сцене появилось пять матросов с гитарами на ремнях, с контрабасом у плеча, с аккордеоном, к которому склонился в томительном ожидании чернявый парень, словно впервые видел клавиши, а маленький и белобрысенький певец застыл рядом с микрофоном. Синие матросские воротники у музыкантов – скорее, не синие, а бледно-голубые, видно, не обошлось без перекиси – подняты кверху. Брюки у всех обтягивали втугую бедра, а внизу ширились без всякой меры и еще имели скос назад, из-под которого виднелись каблуки явно с лишними набойками. Прическа у артистов тоже особенная: сзади и на висках волосы были такой длины, за которую даже добрые патрули в гарнизоне не колеблясь препровождают в комендатуру, и в книге задержанных появляется запись – «не стрижен».
Терехов заелозил на стуле и поставил в программке жирную отметину, Павлов с Ветровым недоуменно переглянулись, а Карелин уставился на своего зама Игнатенко, молчаливо укоряя, что тот недосмотрел за своими «артистами» и пропустил на сцену пижонов.
Павлов взглянул в программку, где против номера значилось: «Вокально-инструментальный ансамбль. Солист м-с Колотухин».
Гитаристы затренькали в лад контрабасу, аккордеонист вздрагивал тоже в лад, все вместе сильно вихляли бедрами. Матрос Колотухин снял со стойки микрофон, взмахнул, как лассо, проводом и с улыбкой начал двигаться по сцене. Мотив разобрать было трудно. Вступление – несложный ритм на четыре счета – явно затягивалось, Колотухин, пританцовывая, прошелся в один край сцены, потом в другой, не спеша подвинулся к середине, а гитары все вытренькивали свой голый ритм. Но вот солист остановился против жюри и только теперь поднес микрофон к самому рту. Еле слышно, «доверительно», он забубнил: «Ты ко мне не подходи, я к тебе не подойду… – потом перехватил микрофон в левую руку и чуть повысил голос: – Я к тебе не подойду, ты ко мне не подходи…»
Меняя местами эти две фразы, Колотухин взял еще тоном выше (потому можно было наконец понять слова, которыми он одаривал зал), сделал глубокий вдох, расставил ноги, выпрямил колени, подтянул живот и вдруг истошно завопил:
– Не подходи-и-и-и!..
Пауза. Только тихо бренчали гитары да попискивал аккордеон.
– Не подойду-у-у-у!.. – Здесь Колотухин поднялся к высоте для его голоса наибольшей.
Потом все это повторилось, после чего ансамбль враз крутнулся на пол-оборота влево, артисты перенесли упор на другую ногу, но солист вел речь все о том же, только дальше пошли вариации за счет лаба-даба-да и лаба-даба-ду-у.
Колотухин игривой скороговоркой произносил эту абракадабру и выкладывался на припеве: «Не под-ход-ди-и-и!..»
На пятом его заходе у Павлова шевельнулось желание поколотить этого Колотухина, а у Ветрова заныло плечо, не тревожившее его без малого пять месяцев.
Но всему приходит конец. Еще раз тренькнули гитары, взвизгнул аккордеон, буркнул контрабас, и Колотухин молча выдохнул остаток воздуха. Продлись песня еще минуту, неизвестно, чем бы все кончилось. А сейчас парень был награжден аплодисментами, возможно, потому, что песня все-таки благополучно закончилась.
Занавес шевельнулся, выглянула округлая физиономия мичмана Щипы и тут же скрылась.
«Ну, Щипа, – заметив мичмана, думал Павлов, – на тебя вся надежда!»
Месяца два назад дежуривший по камбузу Щипа зашел проведать матросов, чистивших картошку. Картошка картошкой, но парни явно не скучали и промеж дела пели, играли ложками на мисках, на табуретках, – словом, в дело пускали все, что попадалось под руку. Можно было представить, как они музицировали, если даже всегда невозмутимый мичман Щипа зажал уши и скомандовал:
– Ко-о-нчай децибелу!
Щипа понимал толк в музыке и очень любил такие вот звучные слова. Когда слушал протяжные украинские песни, он долго потом вздыхал и тихо приговаривал: «Це ж тоби не децибела, цэ ж кныш с изюмом!..» Так или иначе, но, закруглив очередную «децибелу», Щипа присел к матросам и вполголоса затянул свои любимые «Карие очи». Это было настолько неожиданно и хорошо, что парни разом смолкли и, забыв о картошке, затаив дыхание, слушали мичмана. Подхватил один, потом второй, потом вся команда – получилось здорово. Попробовали другую песню, за ней еще. Искали, как лучше звучит, распределялись на голоса, меняли темп, рассаживались, пересаживались, спорили, горячились до тех пор, пока не добились, что понравились самим себе. Так и появилась своя «капелла», которую матросы сразу же прозвали «Щипачи». Чтобы «Щипачи» нравились не только себе, но и зрителям, Ветров собирал их по вечерам на репетиции, а на генеральную репетицию позвал Павлова. Теперь оба они крепко надеялись показать карелинцам, что такое «кныш с изюмом».
Тесно прижавшись друг к другу, на сцене стояли семь матросов с мичманом Щипой посередине. Их гладко причесанные головы отражали огни сцены и казались очень светлыми, а на щеках играл яркий румянец – «артисты» крепко смущались.
Щипа выступил немного вперед и, мечтательно глядя куда-то вдаль, негромко запел:
Дывлюсь я на нэбо та й думку гадаю…
Голос, где-то на грани тенора и баритона, звучал сочно, певец ничуть не напрягался, а каждая нотка была слышна в последних рядах. Примечательными были глаза Щипы: слегка прищуренные, задумчивые, они в самом деле гадали думку и приглашали думать вместе с ними.
Что виделось им в эти минуты?.. Тихие ставки с плакучими ивами, уютные хатки в вишневых садочках, широкий шлях с тополями или развесистый орех у крыльца?..
Никто не догадывался, что мичман песней сейчас рассказывал о своей нехитрой сельской жизни, начинавшейся в далекой отсюда Херсонщине. Глаза его видели старую виноградную лозу, густо обвивавшую веранду, а сквозь красноватую листву – мать с запотевшим глечиком квашеного молока. Мать собирает ужин, но жара разморила, ни на что не хочется смотреть, только на этот запотевший глечик. Даже корж с хрустящей корочкой не притягивает взора, а уж хлеб у мамани! Она тут хлебопеком и кормит односельчан духовитым, вобравшим в себя все запахи земли и солнца хлебом… Жучка, тоже разомлев от жары, на правах общей любимицы нахально развалилась на камнях у порога, и нужно обходить ее. Маленького Щипу это возмущает, но ничего не поделаешь. Жучка все равно не сдвинется с места, пока мать не поставит и ей макитрочку с тюрей.
Вечером жара спадала. И когда небо становилось чернильно-черным и высыпали на нем алмазные звезды с туманной дорожкой Млечного Пути, у самого большого ставка, где серебристые ивы гляделись на себя и от усердия мочили косы, собирались хлопцы с дивчатами «тай починалы спиваты». Нет, не тягались в силе голоса, а именно пели. Да еще как! Мать вслушивалась, ежилась, как от холода, и тихо, почти шепотом, удивлялась:
– Вот поють!.. Аж гусына кожа пишла!
А маленькому Щипе иногда хотелось плакать безо всякой причины. Плакать или смеяться – он твердо не знал, знал только, что песня за душу схватила.
Самого Щипу природа наделила чистым голосом, хорошим слухом и завидной музыкальностью. После девятого класса и он начал появляться «коло ставочку», даже бежал туда, не чуя ног, на ходу затягивая самовяз и приглаживая смоченный водой непокорный чуб; там ждали друзья, ждали дивчата, одна краше другой, такие же веселые и круглолицые, как сам Щипа, как подсолнухи, из которых они, сверкая в полумраке улыбками, вылущивали семечки.
– Це наш Сашко-о!.. – с гордостью говаривала бабушка.
Как она выделяла тенорок Сашка, оставалось тайной. Бабушка была туговата на уши, но твердо верила – именно ее внук задает тон, именно у него лучший голос на селе, а может, и во всей округе. Уверенность эта зиждилась на отменном аппетите внука, – по бабушкиному непоколебимому мнению, основе основ всяческих талантов.
– У здоровом теле – здоровый дух! – не уставала повторять она.
«Эх, бабаня, бабаня! Вышлю я тебе фото, как стою на сцене с товарищами и спиваю свои любимые песни», – думал Щипа, а может, ничего этого и не думал, сам завороженный песней.
Чому я нэ сокил, чому нэ литаю?
Чому мэни, божэ, ты крылэць нэ дав?
Я б зэмлю покынув и в нэбо злитав…
Стройно вступили матросы, поддерживая своего мичмана. Тенора уносились куда-то ввысь, казалось, им тесно, они рвутся к солнцу. Баритоны тоже уходили кверху, но знали свой предел. Лишь басы никуда не уносились, никуда не рвались, наоборот, сдерживали других, хотя и сами тосковали… Голоса, как реки, достигнув моря, сразу обрывались, словно и не было их вовсе, а был единый поток – голос Щипы.
Дальше пели раскованнее, голосистее. Видно, распелись, да и смущение поубавилось, а когда Щипа вернулся к своей думке, всплакнул напоследок и резко оборвал, в зале сперва было тихо, потом как взорвалось! Люди что-то выкрикивали, вскочил с места майор Скоробогатов, которому как члену жюри вскакивать не полагалось; даже Карелин, отдавая дань искусству соперников, стоя бил в ладони.
Жюри собралось у начальника клуба, Терехов тоже решил принять участие в обсуждении программы, пригласил с собой Ветрова и Игнатенко.
– Ну-с, – Терехов добродушно поглядывал на жюри поверх очков, сползших в ходе долгих дебатов на нос, – хоры, пляски, чтения вы уже рассмотрели. А что скажете о вокально-инструментальном ансамбле Колотухина и о капелле мичмана Щипы?
– Мне представляется, – многозначительно заговорил начальник клуба, явно намереваясь упредить чью-то критику, – ВИА, так для краткости будем называть вокально-инструментальный ансамбль, где солистом матрос Колотухин, бесспорно на высоте. Динамизм, экспрессия, современность… Вы посмотрите, сколько сил у Колотухина! Может, это грубо, но двадцатый век из него так и прет!.. А чувство ритма?! Конечно, никакого сравнения со всеми другими ВИА. Моя отметка – круглое пять.
Терехов рассматривал начальника клуба и с грустью думал, в чьих руках теперь вкусы молодых людей. А Скоробогатов весь напружинился, но сдержал, что прорывалось наружу.
Адель Аполлоновна, женщина в очках, ведавшая в Доме офицеров музыкальным кружком, высказалась осторожно:
– Мелодии не слышала. Ритм, безусловно, значился, но уж очень упрощенный.
– Разрешите, Иван Васильевич, – резко поднялся Игнатенко. – Хотя у меня и совещательный голос, но хочу возразить Адели Аполлоновне. Какое имеют значение ритм, мелодия, если матросам это нравится?.. У нас почти в каждой команде есть свой ВИА. Так что плохого, если парни потянулись к песне? А уж как они там!.. – Игнатенко махнул рукой. – Раз нравится громко да хлестко, пусть себе на здоровье. Лишь бы заняты были.
Скоробогатов часто задышал носом, но, видно, опять сдержал в себе какой-то порыв.
– Евгений Осипович, ваше просвещенное мнение? – обратился к нему Терехов.
Скоробогатов разыскал в карманах и разложил перед собой бумажки с пометками, но заговорил, совсем в них не заглядывая:
– Здесь мы слышали, что из «маэстро» Колотухина прет двадцатый век. Я утверждаю, что из него прет вульгарность и нахальство. Надо же! Орать в микрофон благим матом! Микрофон выдержал, а каково нам?.. – Скоробогатов с жалостью воззрился на начальника клуба, потом на Игнатенко.
– Евгений Осипович, – в реплике начклуба звучало неподдельное сочувствие. – Наше поколение поет другие песни, чем ваше, и вам трудно нас понять…
– При чем здесь поколение! – возмутился Ветров. – Каждое поколение имело своих певцов и свою пародию на певцов. А Колотухин даже не пародия. Колотухин – крикун с микрофоном.
– Валентин Петрович, не надо, – поморщился Игнатенко, поднимая ладонь. – Разбирают нас с тобой. Посему давай помолчим. – И тихо добавил: – Не по-джентльменски…
– Я еще не договорил. – Скоробогатов скомкал свои бумажки, сунул их в карман. – Если в других ансамблях был хоть намек на пение, то у «маэстро» Колотухина и намека не было. Моя оценка – двойка!
– А ваша?.. – Терехов опять пригласил женщину в очках сказать свое слово.
Адель Аполлоновна засмущалась, засуетилась, стала рыться в сумочке, наконец решилась:
– «Удочка», я думаю… – И покраснела до такой степени, что стал пунцовым даже ее нос.
– Ну вот. – Терехов подвел черту на своей программке. – Средний балл есть. По арифметике выходит тройка. Но разве это правильно?.. Трояк есть, а песни-то нема! Где песня, молодой человек? – Он строго покосился на начальника клуба, словно тот спрятал песню в карман и не желает ее выпускать на волю. – Вот вы ратуете за двадцатый век. А ну, пропойте хоть один куплет из того, что орал Колотухин. То-то!.. Разве что «ла-ла, ха-ха». Повторять противно!
Неожиданно в двери появилась щель: за нею кто-то явно нервничал, пришлось начальнику клуба выйти и успокоить не в меру любопытных.
– …И последнее. – Терехов близоруко всматривался в программку. – Вокальная группа мичмана Щипы. Слушаем, товарищ начальник клуба.
– Неплохо, конечно, – кашлянул тот в кулак, – но… Архаизм. Песня ходила где-то еще в прошлом веке, а так… В общем, ставлю четверку.
Адель Аполлоновна опять что-то забыла в сумочке, но тут же с вызовом глянула на начклуба:
– Я бы рискнула поставить высший балл…
– А я его ставлю безо всякого риска, – убежденно заявил Скоробогатов. – Широта дыхания, напевность, очень профессионально… Щипа, наверное, с музыкальным образованием?
– Школа механизаторов и мичманские курсы, – пояснил Ветров.
– Говорите, прошлый век?.. – Терехов снял очки и стал их протирать краем большого платка. – Это же замечательно, когда песню поют сто лет! А сколько проживет ваша «ла-ла, ха-ха»? Когда выходили из зала, – Терехов будто размышлял вслух, – слышу, за спиной матрос напевает: «Гляжу я на небо…» Вот, думаю, здорово! Песня в кубрик пошла… Оно, конечно, и новые есть сильные, но и старые вспоминать не грех. Особенно такие…
Щиповский октет стал той гирькой, что окончательно перетянула чашу весов на сторону самодеятельности из коллектива Павлова. Ветров очень рассчитывал еще на фортепьянную классику Лили Городковой, но в самую последнюю минуту у той что-то заело. Ну да не беда, впереди День флота, там сыграет. Хорошо, что конфуз случился не на смотре, а на репетиции, хорошо, что Щипа со своими хлопцами оказался на высоте.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Как быстро уносится время! Давно ли встречали конструкторов, а скоро их провожать.
Новыми торпедами настрелялись вдоволь. Пока все текло как по маслу: ни поломок, ни отказов. В океане моряки добивались метких попаданий, не было случая, чтобы лодкам-целям удалось увильнуть, сколько бы они ни хитрили. Приготовители научились сноровисто разбирать, собирать, настраивать аппаратуру, находить любые разрегулировки и так же быстро устранять их.
Как-то в шутку Городков заявил Рыбчевскому, что может теперь готовить торпеды с завязанными глазами, однако Рыбчевский постарался охладить эту его пылкую самонадеянность.
Шутки шутками, а конструкторы полезный след оставили.
Стоило их главному толкачу Бучинскому столкнуться в эти дни с неотлаженным проверочным стендом, с неаккуратно разложенным инструментом или с тем, что в умывальнике к чистому полотенцу и куску мыла не добавлен кусок пемзы, как он, оправдывая свою фамилию, затевал такую бучу, что нарушители тут же зарекались допускать впредь что-либо подобное. Бучинский громогласно требовал сурового наказания всякого, кто даже в мелочах позволял себе неуважительно относиться к «торпэдам»; он утверждал при этом, что пользуется-де «мэтодом» Петра Первого – нерадивых таскает за бороду, покуда они не станут радивыми.
Так или иначе, но скоро многие стали удивляться, как это они жили до сих пор? Даже Самойленко, путь которого в когорту радивых еще только начинался, случалось, отказывался приступать к торпедам, если вдруг не обнаруживал пемзы и не мог потереть ею свои белы рученьки.
Правда, «торпэды» и «мэтры», «пэмзы» и «мэтоды» с легкой руки Бучинского были без промедления включены в лексикон местных острословов, но это не меняло дела.
Жесткость, неуступчивость, придирчивость конструкторов к торпедистам, а еще больше торпедистов к самим себе и приводили к успехам в океане. Торпеды на всех учебных стрельбах вели себя послушно. Моряки начинали думать, что у них появилась техника, которая никогда не ломается. Такое благополучие Павлова почему-то настораживало. Он слишком хорошо помнил прежние годы, когда поломки все-таки случались, и, возможно, не сознавал еще, что теперь годы другие, что печальный опыт учтен, что и на заводах теперь догляд не прежний. Однако в глубине души настороженность он носил.
Как-то в кабинет Павлова с испуганным видом протиснулся Рыбчевский, плотно затворив за собой дверь. Понизив голос, он поведал, что сам видел, как мичман Молоканов облокачивался о торпеды, чуть не обнимал их, а Самойленко даже сидел на торпеде с книжкой в руках. Сам Рыбчевский так, видно, опешил при таком «кощунстве», что не нашелся, как его пресечь на месте, а может, боясь привлечь внимание Бучинского, решил не подымать при нем шума.
Павлов понимал встревоженность Рыбчевского. Молоканов и Самойленко «доучились» до такой степени, что с торпедами обращаются уже на «ты». Опасно! Как ни постигай торпеду, все равно относиться к ней надо только с осторожностью, только с почтением, только на «вы». Любая фамильярность может скоро принести беду.
Нужна была срочная профилактика, и Павлов упросил Бучинского рассказать морякам о поломках, заеданиях, промахах, бывающих при подготовке торпед. Борис Михайлович сначала отнекивался, а потом такое нарисовал, что у слушателей испуганно округлились глаза. Павлову показалось, что Бучинский перенес на новую торпеду все грехи старых торпед, но он так твердо называл даты, причины, фамилии, что не верить ему было нельзя. Вряд ли Самойленко с Молокановым теперь будут допускать свои вольности.
В открытые настежь окна видна буйная зелень соседней сопки, за нею синеет бухта. Легкий сквознячок с океана прогуливается по комнате, парусом надувает полотняные шторы. За обрывом поет наутофон – скоро туман припожалует. Теплынь. Офицеры без кителей, в своих форменных желтых рубашках, а это не часто местная погода позволяет.
Бучинский читал еще не подписанный акт неторопливо, внятно, акцентировал важные места. Флотской стороне давались высокие отметки, выводы гласили, что моряки могут обращаться с торпедой уверенно и умело. Аудитории, состоявшей из приготовителей и лодочных минеров, это слушать куда как приятно. Бучинский кончил читать, а морякам еще слышались приятные слова в свой адрес.
– Осталась небольшая формальность, – важно сказал Жилин, сидевший во главе стола. – Осталось подписать акт. Или у кого есть вопросы?
– Разрешите? – Павлов легко поднялся и привычно поправил галстук. – Выражаю мнение своих: такую торпеду мы давно ждали. Спасибо за нее и за обучение. Однако у нас есть некоторые предложения…
– Может, об этом после? – недовольно пробурчал Жилин.
– Почему? – возразил Павлов, кладя перед собой лист бумаги. – Давайте включим наши предложения в акт, а потом и подпишем.
Туман, выползавший из-за обрыва, уже укутал бухту и теперь наплывал на берег. Казалось странным, что при слабом ветерке он так скоро наплывает, застилает собой, словно проглатывает, катера, причалы, нацеливается на сопки, на небо, на весь мир.
– Виктор Федорович! – Бучинский вопросительно моргал длинными ресницами. Его глаза подернула мутная поволока, похоже, опять желудком мучился. – Выводы для вас благоприятные, что еще надо?..
– Борис Михайлович, – мягко, но неуступчиво проговорил Павлов, – торпеда нам понравилась. Но давайте ее сделаем лучше, К некоторым приборам не подступиться. Скажем, датчик времени у нас научились устанавливать с ходу только три человека. Разве так можно?
– Товарищ Павлов, – с подчеркнутой официальностью настаивал Жилин, – сперва подпишем акт, а уж потом поговорим об этих ваших…
– Чего испугались-то? – неожиданно вмешался Федотов, удивленно поглядывая то на Жилина, то на Бучинского. – Предлагаю рассмотреть. Если увидим, что разумно, почему бы и не включить в акт?
Туман подобрался к самым окнам, сразу потянуло холодной сыростью, она юрко проскочила под рубашки и заставила поежиться. Туман приволок с собой запах гари, гниющих водорослей. Рыбчевский поспешил затворить окна, что выходили к океану.
– Петр Мефодьевич, – Бучинский вложил в это обращение, наверное, всю учтивость, какая у него была, – вы забываете, что Владимир Маркович не обрадуется таким коррективам.
– Не думаю, – Федотов хорошо знал главного конструктора, – совсем не думаю, чтобы Владимир Маркович был против здравых мыслей!
– А что скажет завод? – наступал Бучинский, с трудом сохраняя былую учтивость. – Ведь все пошло в серию!
– Ну и что? – не сдавался Федотов. – Зато дальше пойдет улучшенный вариант.
Глаза Бучинского забегали по потолку, по окнам, казалось, он ищет, чем бы еще возразить.
– Значит, настаиваете на рассмотрении? – Он как бы в последний раз предупреждал Федотова.
– Однозначно!
– Хорошо. – Бучинский как-то обмяк, словно скинул с себя тяжкую поклажу.
– Давайте, Виктор Федорович, – сквозь зубы процедил Жилин. – Только покороче, – он кивнул на акт, – и так длинный…
Туман прилип к окнам, как мокрая простыня. Сразу потемнело, будто на дворе вечер. Это мешало Павлову сосредоточиться, но, к счастью, все было уже подготовлено – недаром добрую половину ночи просидели с Рыбчевским и Городковым. Он читал короткие, ясные предложения и тут же рекомендовал, в каких местах акта их лучше разместить. Его слушали со вниманием, Федотов размашисто водил карандашом. Бучинский становился все мрачнее, а Жилин даже отвернулся к окну.
– Во-о-от! – пробасил Петр Савельевич, когда Павлов кончил. – Что же получается?.. Нельзя понять, о чем будет акт: об освоении техники или о ее переделках. Боюсь, нас не поймут!
– И мне так кажется… – Бучинский растерянно улыбался. – Могу заверить, там, в верхах, – он поднял глаза на потолок, – эти добавки энтузиазма не вызовут.
– Бросьте мрак наводить! – Федотов возмущался и от этого немного шепелявил. – Обычные доделки, всплывшие в ходе стрельб. И очень хорошо, что всплыли не слишком поздно.
– Петр Мефодьевич, – вкрадчиво увещевал его Жилин, – вы человек не военный. Для вас это – чистая наука, а у нас сроки. Да и не можем мы игнорировать прописные истины. – Он замолчал, делая знаки Рыбчевскому закрыть окно. – Нам было поручено освоить торпеду. Освоили? Думаю, освоили. Вот давайте этот факт зафиксируем, а уж всякие там особые мнения запишем отдельно.
– Настаиваю, – Павлов снова поднялся, – чтобы наши замечания включили именно в общий акт. Только тогда на них обратят внимание. Торпедой заниматься нам. Значит, мы вправе предлагать, как сделать ее более удобной. И нечего бояться, что кто-то не так посмотрит и не то скажет!
Жилин заерзал на стуле.
– Поддерживаю! – звонко вставил лодочный минер Кукушкин.
«Молодец, Боря! – повеселел Павлов. – Теперь три-два в нашу пользу».
– Ладно! – неожиданно расцвел Бучинский своей дежурной улыбкой. – Будь по-вашему! Не думайте, что мы уж такие консерваторы. Пустим ваш лист как приложение к акту, а чтоб долго не искать, напишем крупно: «Смотри приложение». Согласны?
– Стачивание острых углов, – недовольно проворчал Федотов.
– Эх, куда ни шло, пусть в приложении! – соглашаясь, весело махнул рукой Павлов. – Раз «прописные истины» того требуют!..
Павлов шел на компромисс, но все же не понимал, почему такие, как Бучинский, всегда принимают в штыки любые предложения флотских?.. Что, их вязали по рукам и ногам жесткие сроки? Или так учили где-то в верхах?.. Ничего подобного. Усердствовали, дабы все шло без единой «крапочки», а сами они смотрелись бы в розовом свете. Но разве без «крапочек» бывает?..
– Завтра несем акт на утверждение. – Жилин приосанился, защелкивая ручку и пряча ее во внутренний карман. – Думаю, хватит, если пойду я и Борис Михайлович.
– Прошу и меня подключить, – категорично заявил Федотов.
Жилин снова вытащил ручку, тут же сунул ее обратно и как-то уж очень вяло, сквозь сомкнутые губы, выдавил:
– Не возражаю…
Павлова такая поправка устраивала. Он знал, что многое, очень многое зависит от того, как доложить начальству.
– Итак! – Бучинский засиял, словно бриллиант в луче прожектора. – Приглашение на званые ужины заканчиваю принимать… – он мельком глянул на часы, – в восемнадцать ноль-ноль. Сегодня выпускаем вас из школы. Смотрите, – Борис Михайлович погрозил пальцем, – не подведите учителей!
У всех сразу отлегло. Невольно подумалось, что вот и еще одна веха в жизни позади, что учителя были строгими, иногда злыми, но подводить их нет смысла, – в сущности, они парни ничего, с нами и надо быть злыми!
Автобус фыркает, греется. Павлов посматривает на Федотова, на Бучинского. Пройдут какие-то минуты, и снова расставание. Надолго ли?.. Может, на неделю, может, на год, может, навсегда.
– Виктор Федорович, – негромко позвал Федотов, стоявший над обрывом, с которого хорошо виделось павловское хозяйство, – я вас должен предупредить…
– Слушаю, – с готовностью откликнулся Павлов и сам окинул взглядом свои владения.
– Так вот, – Федотов понизил голос, – надо вам оставить место для новой торпеды. Не для этой, тоже для вас новой, а для еще более новой.
– Вот как! – удивился Павлов. – И скоро мы ее получим?
– На выходе. Испытания закончены.
– Что-то принципиально новое?..
Федотов усмехнулся добрыми близорукими глазами и утвердительно тряхнул своей рыжеватой шевелюрой.
– По сравнению с той, – он помедлил, подыскивая слова, – эта уже пройденный этап.
– Кактус! – непроизвольно вырвалось у Павлова. – Зачем же мы положили столько сил?!
– Все правильно. «Эта», вы, наверное, поняли, – гроза для подводных целей настоящего времени, а «та»… «Та» для лодок будущего. В принципе, они могут появиться уже в этом десятилетии. Поэтому спокойно занимайтесь только что освоенной торпедой, она пригодится еще не год, не два. Ну, а потом…
– Вы, я смотрю, времени не теряете!
– Нельзя терять. – Федотов прищурился, словно хотел разглядеть что-то в океанской дали, и немного помолчал. – Отстанешь, и опять кто-нибудь начнет шантажировать монополией…
Гудок автобуса настойчиво и нетерпеливо вторгался в разговор: Бучинский самолично нажимал сигнальную кнопку.
– Идем! – вместе крикнули Федотов с Павловым, направляясь к автобусу.
– Давай лапу, Виктор Федорович! – Бучинский немного печален, но улыбается. – Теперь когда еще…
– Желаю всех-превсех! – Павлов долго не отпускает руки Бориса Михайловича. – По непроверенным данным, вы скоро будете на Балтике. Не сочтите за труд, передайте привет моим хлопцам. Ну, и Николаенко тоже…
Автобус ходко покатился с сопки, нырнул за обрыв, тут же вынырнул, а Павлов все стоял и думал, что лишь теперь по-настоящему скажется, пошла ли впрок учеба, которую они прошли под руководством уехавших конструкторов.








