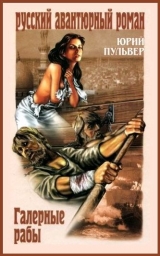
Текст книги "Галерные рабы"
Автор книги: Юрий Пульвер
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
* * *
– Ты должен во всем подражать отцу, сынок. Он был простым шэном, ученым без степени, но десять лет просидел перед лампой у окна и стал Сведущим в Канонах, сменил светское платье на официальный костюм чиновника. А теперь решил достичь Драконовых ворот…
То постигает смысл метафор. Сидеть перед лампой у окна десять лет – значит напряженно учиться в молодые годы. Сведущий в Канонах – одно из названий гуншэна, заслуженного сюцая, рекомендованного в государственное училище или на должность. Подняться к Драконовым воротам – сделать карьеру. Если рыбе удается пробраться вверх по течению через ужасные пороги в верховьях великой реки Хуанхэ до Драконовых ворот, она превращается в дракона.
– Есть ли известия от папочки?
– Отец твоего отца ежедневно посылает гонца к кунму-архивариусу списывать помещенные в «Ди-бао», «Столичных ведомостях», известия из Северной столицы. Но там пока ничего не опубликовано. И вестник, который первым является к родичам экзаменуемых, сообщает результат и получает вознаграждение, к нам тоже не приходил…
То огорчается, но скоро забывает печали. Предстоит новогодняя ночь, когда Цзао-ван возвращается с небес.
Богу домашнего очага устроили торжественную встречу. В середине часа Крысы, в полночь, над городом взорвались вонючие фосфорные бомбы, взлетели ракеты, рассыпав разноцветные огни фейерверков, затрещали хлопушки, завыли бесчисленные трубы. Горожане заколотили в котлы и кастрюли. Обитатели дома Хуа развели в самом большом дворе огромный костер из веток сосны и бамбука. Дедушка позволил внуку запустить несколько трещавших петард «бао чжу». Название ракет-хлопушек дословно означает «жечь бамбук». Треск горящей сосны и бамбука, как всем известно, отгоняет нечистую силу.
В доме повесили новое изображение Цзао-вана. Наутро То поздравил старших с Новым годом и получил подарки.
В первый день весны бучженсы – начальник провинции в сопровождении процессии из высокопоставленных чиновников и знатных шияо – богатых и влиятельных лиц, не занимающих государственных должностей (к ним относился и дедушка) – направился к восточным воротам города, чтобы принести жертву Божественному землепашцу – существу с бычьей головой на человеческом теле. Для этой церемонии у ворот рядом с сельскохозяйственными орудиями поставили большую статую буйвола.
Пятидневку назад дедушка привозил сюда внука посмотреть, как делали статую. Слепец по указаниям некроманта – вызывателя душ наклеивал разноцветные листы бумаги на деревянный каркас. Цветовая гамма листиков предсказывала погоду наступающего года. Преобладали красный и белый, значит, надо ожидать пожаров вкупе с широким разливом рек и изобилием дождей.
Знатные люди во главе с губернатором медленно обошли деревянного буйвола, при каждом шаге что есть силы колотя его разноцветными прутьями. Удары пробили дыры в каркасе, загодя заполненном разными видами зерна. Злаки посыпались на землю. Толпы присутствующих, давя друг друга, старались схватить отлетавшие клочья бумаги: те, кому это удается, будут благоденствовать в течение всего года. То не повезло, но он не огорчался, увлеченный зрелищем…
Потом закололи настоящего буйвола, тушу распределили между участниками процессии.
В первые четыре дня Нового года действовал «запрет Дверей»: чужие, переступивше в этот период порог жилища, могли принести несчастье его обитателям. На третий день явился вестник, желавший поскорее получить награду. Дедушка не знал, радоваться или печалиться. Запрет нарушен, однако новости пришли такие, что их впору доставлять благовестному существу – зеленой или синей птице с красным хвостом, которую держит на посылках благостная богиня Сиванму, владычица Запада – страны бессмертия, обладательница элексира вечности.
Отец Хуа То благополучно добрался до столицы. Все предъявленные им документы признаны достоверными – и биография, и свидетельство о хорошей репутации, заверенное соседями, и удостоверения о получении званий сюцая и цзюньчженя. Его благополучно опознали по описанию наружности. Оно прилагалось для того, чтобы подставные лица не могли проходить испытания вместо экзаменуемых. Хотя это каралось смертной казнью, находились люди, за деньги готовые на все. Его письменное прошение удовлетворено, комиссия допустила его к весенним экзаменам.
То собственноручно написал молитвенное обращение, в котором назвал свои фамилию и имя, место жительства, изложил суть своей просьбы к духам (пусть папочка станет ханьлинем), и громко прочитал его перед семейным алтарем. Затем бумажку сожгли. Оставалось ждать, прислушаются ли предки к такому ничтожному существу, как То.
Миновал праздник Фонарей, которым заканчивалось отмечание Нового года. В пятнадцатый день первой луны на домах было вывешено столько фонарей различных форм и окрасок, что каждое жилище превратилось в светящуюся гору.
Прошел Цынмин, праздник Чистых и Светлых Дней, Поминовения усопших, который приходится на пятый день четвертой луны. И вот тогда-то духи явили милость: в «Ди бао» появилось извещение, что отец Хуа То с честью сдал государственные экзамены в столице и стал ханьлинь-бянсю, чиновником пятого ранга в ведомстве по составлению исторических трудов. Перед его семьей открылся путь в десять тысяч ли.
Индийский океан, Аравийское море, 1604 год
Купец не обманул. «Горячая вода» сотворила свое волшебство. Очнулся Мбенгу в трюме завы, арабского торгового судна. Правда, сам он это понял не сразу, сначала подумал, что похоронен заживо.
Густую, душную тьму над ним лишь кое-где пронизывали световые иглы, проткнутые через щели наверху. В голове два разъяренных носорога били изнутри по дискам. Во рту ощущался вкус жижи, зачерпнутой из зловонного болота. Мбенгу со всех сторон стискивали какие-то теплые, мокрые и скользкие существа. Духота и вонь превышали всяческое воображение, жажда раздирала горло, на веках будто налипли комки грязи.
С трудом, расталкивая потные тела вокруг себя, Мбенгу поднялся на ноги. На него зашипели, заворчали, кто-то больно ударил его в ребра. В приступе внезапной ярости Мбенгу с силой опустил кулак на голову обидчика. Послышались странный хруст, хриплый стон, звуки судорог. Несколько истеричных женских вскриков быстро затихли, наступила зловещая тишина. Вокруг Мбенгу вдруг образовалось пустое пространство, что казалось немыслимым в тесном трюме.
– Есть здесь кто-нибудь, понимающий меня? – спросил Мбенгу сначала на уветском, потом на языках йагов и нгуни.
Из угла отозвалась девушка-зулуска.
– Подойди и оставайся все время рядом со мной, – приказал Могучий Слон. – Ты знаешь еще какие-нибудь наречия?
– Да, хауса. Они меня похитили несколько лет назад…
– Спроси, есть ли тут хауса, которые говорят на других языках?
Нашлись трое, знавшие готтентотский и банту.
– Все приблизьтесь ко мне и держитесь рядом, будете моими переводчиками. А ты расскажи, где мы находимся.
– Мы в брюхе лодьи меднолицых. Они повезут нас за соленое озеро, где мы будем прислуживать тамошним вождям.
Мбенгу издал яростный рык. Ах гиена-купец! Обманул, продал в рабство, как военнопленного! Впрочем, в чем обманул? Он обещал Мбенгу отправить его на лодью – отправил. Сказал: «Если выпьешь „горячую воду“ – очутишься у чужеземцев». Это оказалось правдой. Мбенгу захотелось на охотничьи угодья белых племен – его туда отвезут. Купец даже честно предупредил, что Могучему Слону скорее всего там не понравится… Так кого же Мбенгу обвинять, кроме себя? Увлекся буйвол молодой травкой – и в пропасть свалился.
К тому же, раз он попал сюда, значит, так захотели духи. Может, они желают его глазами взглянуть на мир, лежащий за бескрайним озером…
Могучий Слон сдержал обуревавшие его гнев и отчаяние. Что проку злиться и горевать? Мужчине надлежит действовать.
Для начала он сосчитал всех находившихся в трюме. Их оказалось много, целый крааль, втиснутый в одну большую хижину: сорок шесть мужчин, девяносто восемь женщин, двадцать детей. Еще восемь трупов, включая убитого им самим.
– Где вы хороните мертвых?
– Мы не хороним. Раз в день нам спускают большой чан с едой на всех, – объяснила зулуска. – Туда мы кладем один труп, и его вытаскивают наверх. Нам еще дважды в сутки спускают бочонок с водой, однако туда тело не влезает.
– Где справляете нужду?
– Под себя, – ответила девушка без тени смущения. Она не стыдилась этого, как и своей наготы, наоборот, даже гордилась ею. [128]128
На африканском юге одетых девушек до сих пор упрекают в распущенности.
[Закрыть]
– Когда я осматривал лодью снаружи, мне показалось, что она сужается книзу. В этой деревянной хижине внутри лодьи, насколько я могу судить, стены прямые, пол ровный. Шум воды я слышу с боков, но не снизу. Наверное, хижина стоит не на самом дне. Есть ли у кого-нибудь ножи, иглы, ожерелья из камней и ракушек, вообще острые предметы? Толмачи, переведите мой вопрос.
У рабов нашлись два металлических ножа, наконечник ассегая и четыре гвоздя, припрятанные от меднолицых, а также с десяток ожерелий из камней или клыков. Мбенгу забрал все острые орудия и сложил в кучку у стены.
– Пусть переводчики держатся рядом со мной. Всем остальным встать и разделиться. Мужчинам по одному подойти ко мне.
Мбенгу осмотрел, а точнее, ощупал всех мужчин, отправим в дальний угол несколько больных и раненых. Шестерых самых крепких молодцов он оставил возле себя.
– Вы составите мое импи.
Такой же процедуре подверглись женщины. Старые и квелые отправились в дальний угол. Трех самых здоровых и дебелых Мбенгу задержал:
– Вы теперь мои жены. Ты назначаешься старшей супругой, – обернулся он к зулуске. – Каждый из вас пусть возьмет себе по две женщины, какие понравятся, – разрешил он бойцам импи. – Переводчики-мужчины тоже удостаиваются чести иметь двух супружениц. Остальные мужчины после них могут подобрать себе пару. Каждый глава семьи отныне заботится о своих домочадцах и отвечает за них. Чтобы всем хватало места на полу, спать будете чередуясь: сначала мужья и старшие жены, потом младшие и дети.
Мбенгу принялся устраивать жизнь рабов, как в свое время порядки в зулусском импи. Несколько мужчин по его приказу за полдня вырезали примитивным инструментом дырку на стыке двух самых больших досок у стены. Женщины сгребли туда накопившиеся нечистоты.
– Вот отхожее место. Посещать его по очереди, не толпиться, чтобы подпиленный пол не провалился, – объявил Могучий Слон.
С помощью переводчиков отыскав старуху, немного смыслившую во врачевании, Мбенгу вместе с ней обследовал немощных. Шестерых, показавшихся ему безнадежными, приказал прикончить. Телохранители ловко и умело задушили несчастных.
– Жаль их, но они все равно умрут. А так нам достанется больше места, пищи и воздуха, – объяснил новоявленный вождь притихшей толпе.
Сверху открылся люк, на тросах спустили пищевой чан. Рабы заволновались и кинулись к нему, давя и оттесняя слабых и детей в стороны.
– Всем назад, иначе смерть! – проревел Мбенгу.
Крепыш-телохранитель ослушался, и Мбенгу раздавил непокорному кадык. Толпа отхлынула.
– Сначала, пока дверь наверху открыта, выкинем наружу трупы. Отверстие достаточно широкое и на высоте всего четырех локтей. Пусть мне помогут мои щитоносцы. Затем каждый муж съест по две горсти еды, по одной даст своим женам и детям. Все делать по очереди, быстро, но без суеты. Подошел, раздал доли домочадцам, взял свои две горсти, отошел, съел. Первой берет семья вождя, потом семьи телохранителей, затем переводчиков, далее все остальные. Если еда останется, можно взять еще. А пока выбросим умерших. Взялись…
К почтенному муалиму [129]129
Муалим (араб.) – наставник, шкипер, исполняющий и обязанности лоцмана, первый капитан арабского судна.
[Закрыть]Салему ибн-Джафару прибежал испуганный панджари – впередсмотрящий с расширенными от ужаса глазами. Заплетающимся языком он пролепетал, что в трюме бушуют джинны. Муалим сразу поспешил к люку, нахмурил брови при виде тел, вылетающих из-под палубы, и тут же рассмеялся.
– Зинджи додумались избавиться от мертвецов, – объяснил он обеспокоенному нахуде, [130]130
Нахуда (араб.) – судовладелец, он же обычно второй капитан арабского судна, командующий воинами.
[Закрыть]готовому поднять сигнал тревоги.
– Уверен ли высокочтимый муалим, что зава в безопасности? – взволнованно спросил судовладелец. – Не следует ли дать приказ пушкарям-топ-андазам подкатить пушку к люку, а матросам-харвахам приготовить оружие?
– Благословение Аллаха да не покинет нас, о достойный Саад ибн-Маруф! Мы плывем в зеленой воде, что означает: море под нами глубокое. Нигде не видно белых проплешин – признаков мелководья или бурунов от рифов. Берег достаточно далеко. Нет и примет, предвещающих изменение погоды, приближение урагана. Чужие корабли нас не преследуют. Что же терзает сердце храбрейшего из храбрых?
– Мне не до шуток, и я не понимаю причин твоей веселости, о Салем ибн-Джафар! Меня тревожат не природные стихии, а поведение зинджей! И я поражаюсь твоему спокойствию. Вспомни закон: если я потеряю судно, ты лишишься головы.
Муалим не успел ответить, как прибежал гунмати, откачиватель воды.
– Ручные насосы забиты дерьмом и грязью, о достопочтеннейшие! – завопил он, дрожа от страха.
– Поистине среди зинджей появился необыкновенный мудрец и вожак! – покачал головой муалим. – Он сообразил, как избавиться не только от тел, но и от нечистот. Рабы наверняка пробили дырку в полу трюма, и теперь грязь падает на дно завы, откуда вместе с забортной водой, просачивающейся через щели, попадает в насосы. Оставь все тревоги, мужественный Саад ибн-Маруф! Зинджи больше не причинят нам беспокойства! Этот их новый предводитель слишком умен, чтобы устроить бунт, он понимает: все чернокожие погибнут при попытке к мятежу. Наоборот, мы привезем рабов в лучшем состоянии и большем количестве, чем когда-либо раньше.
– Мир тебе, многомудрый, – поклонились Салему бхандари, хранитель запасов пищи, и каррани-писец, он же заведующий водоснабжением. – Мы теперь знаем точное число умерших рабов. Не стоит ли уменьшить количество выдаваемых им порций?
– Ни в коем случае! Пусть едят и пьют столько же, сколько раньше… Я хочу сохранить товар. Они и так живут впроголодь. Если это не сулит больших затрат, избранникам Аллаха наивеличайшего надлежит проявлять милосердие даже к презренным червям-неверным.
Взгляд из XX века
Торговля арабов с африканскими племенами началась с появлением у халифата собственного флота в конце VI – начале VII века и продолжалась более тысячи лет. Сокровища черного материка вывозились через пятнадцать гаваней восточного побережья Африки.
Торговлей это перекачивание ценностей с юга на север можно назвать только в очень приблизительном смысле, более правильные слова – грабеж, мошенничество. Золотые слитки, слоновые бивни, пряности, ценные породы дерева оплачивались горсткой начищенных медных монет или куском грубой материи для набедренной повязки, в самом лучшем случае – стальным клинком или штукой шелковой ткани.
Неравенство торговых отношений быстро переродилось в неравенство рас. Этому способствовала и мусульманская догма об избранном Аллахом народе, которая затмила ум арабам. Развернулась работорговля. Десятки веков акулы Индийского океана и Красного моря кормились миллионами черных тел, и лишь немногим зинджам – «счастливцам» удавалось добраться до северных стран, где они становились рабами.
* * *
«Повезло» и Мбенгу с его новым трюмным племенем. Еще не раз пищевой чан возвращался на палубу с грузом из мертвецов, но введенные Могучим Слоном строгие порядки сократили смертность. Когда рабов, наконец, вывели на палубу после многомесячного путешествия, Салем не удержался от довольной улыбки: зинджей осталось в живых даже больше, чем он рассчитывал. И самое главное, почти все женщины были беременны!
«Разумным» рабам в честь окончания плавания дали вдосталь еды. Чернокожие пели и плясали всю ночь, очутившись на твердой земле… Потрясенный муалим через переводчика спросил у Мбенгу, в котором сразу определил вождя:
– Почему вы так неистово веселитесь?
– Мы не радуемся. Мы вытанцовываем наше горе! – ответил чернокожий великан, вновь через много лет получивший от хозяев свое самое первое имя – Слон. На языке суахили, откуда его взяли арабы, оно звучало как Джумбо.
Азов – Черное море – Стамбул, осень 1604 года
В последний переход – в Азов – ясырь погнали на рассвете следующего дня. Сафонка брел, опустив голову и тупо глядя под ноги, вот города толком и не увидел. И моря тоже. Мелькнула мутно-синюшная полоса, смахивающая на Дон в весеннее половодье, и исчезла за крепостными стенами. Несколько сот шагов по кривым улочкам в окружении галдящей толпы горожан – гогочущих, потешающихся, тыкающих перстами, кидающих комки грязи – и рабы очутились на невольничьем рынке-суке.
В голову первым делом ударил страшный запах грязных тел, нестираной одежды, а главное, дерьма и мочи. Жители татарских городов справляли нужду прямо на улицах и площадях. Кое-где имелись уборщики, сметавшие грязь, но в большинстве городских кварталов, а уж на невольничьем рынке и подавно, никто ничего не убирал.
Взгляд из XX века
Чем более цивилизовывался человек, тем менее он зависел от своего третьего по важности чувства – обоняния. Первобытные люди, идя по следу кабана или прячась от пещерного льва ночью, полагались порой на свой нос больше, чем на глаза и уши. В лесу, скалах во тьме ничего не увидишь, стоит ветру завыть – и не услышишь. Вдобавок умеют звери прятаться и ходить бесшумно. А вот запах собственный устранить не могут, только и способны, что с подветренной стороны к добыче подкрадываться.
С дней, когда добили последнего мамонта, до наших дней, когда добивают последних слонов, люди, столетие за столетием, теряли замечательное свойство ориентироваться в мире с помощью носа. Однако Сафонка, намного уступая, скажем, кроманьонцу, дал бы сто очков вперед любому современному охотнику с его нюхом, «забитым» тысячами резких, да вдобавок искусственных, не существующих в природе запахов, отравленным промышленной гарью и копотью. Сафонка мог по запаху найти волчье логово или лисью нору, если проходил от них в десятке шагов, отличал, закрыв глаза и не дотрагиваясь, свежевыструганную дубовую доску от ольховой, а тем более от липовой, за несколько верст в чащобе выходил на костер, коли ветер нес дым в его сторону.
* * *
Русские привыкли держать тело в опрятности, и дух у них был чистый и свежий. Даже рабочий пот, впитываясь в свежевыстиранную рубаху, пахнул не так, как от рождения не мытый татарин. В плену, не имея возможности искупаться, а тем более отпариться в баньке, русские долго не могли привыкнуть к собственному запаху, вдруг ставшему непривычно едким и чужим. Потели в жаркий полдень, мерзли прохладной ночью. Пыль вбивалась в поры, на кожу налипали комки. Катышки грязи, как гниды вшей, вцеплялись в волосы, и по вечерам, в короткие минуты отдыха, было трудно очиститься. Удалось немного помыться и обстираться лишь на последней стоянке. Но в степи, на открытом ветру, жарком солнце и свежем воздухе даже та невероятная вонь, которой несло от коша, не так ощущалась.
В азовской же киссарии, рынке привозных товаров, на замкнутом стенами, не продуваемом воздушными потоками маленьком пятачке, где скопилось множество людей, ноздри у русских рабов как огнем жгло.
Еще сильнее жгли отчаянье и стыд. Здесь не было каких-то особых зверств. Татары натешились во время набега, в Азов пришли не наслаждаться чужими муками – торговать. Жестокость их была холодной, деловой. Разлучали, глазом не моргнув, сынишку и мать, жену и мужа, брата и сестру. Разве человек обращает внимание на визг суки, у которой забрали щенка, или ржание кобылицы, когда у той отлучают жеребенка? А чем невольники лучше скотины?
И обращались с ними ровно с быдлом. Раздевали догола, щупали, заглядывали в рот, шатали зубы, мяли места срамные – не больны ли. Того хуже приходилось девицам невинным. Их укладывали наземь при всех, и старухи-повитухи или евнухи-хадомляры из гаремов бесстыдно проверяли: подлинно ли девственницы, не обманывает ли ушлый нукер? Не хочет ли двух птиц одним камнем убить сразу – сначала нетронутой гурией насладиться, затем продать ее с выгодой как непорочную?
К счастью, Сафонке недолго довелось наблюдать сей ад кромешный. Будзюкей сразу повел его на край сука, предупреждая на ходу:
– У тебя сейчас только две дороги – или к вербовщику, или к моему палачу.
Пробились через толпу – и перед ними предстал навес о четырех столбах. Под полотняной крышей на ковре и подушках восседал меднолицый горбоносый турок лет сорока в широких штанах и невиданном плаще. Сафонка догадался, что это одеяние паломников – изар. Он никогда его не видел, но узнал по рассказам Митяя.
– Уважаемый Будзюкей-мурза утверждает, что ты ведаешь хорошо его язык, – сказал перекупщик по-татарски. – И что ты согласен вступить в орты йени-чери. Да простит меня твой хозяин, не из недоверия к нему задаю я эти вопросы, а чтобы мы с тобой быстрее столковались.
– Будзюкей-мурза сказал правду, – ответствовал Сафонка – тоже на вражьей мове.
– А почему вдруг ты решил вступить в армию султана?
– Я еще не решил.
Будзюкей тревожно посмотрел на раба: неужто сумасшедший урус именно теперь, в последний миг, пойдет на попятный или взбесится? А тот нагловато ухмыльнулся, подмигнул мурзе и уточнил:
– Я сначала выслушаю тебя, о купец, узнаю, какие мне прибыли посулишь, а уж потом решу. Может, я со своим благодетелем, – он отдал поклон Будзюкею, – останусь.
Вербовщик понимающе кивнул. Приятно встретить разумного невольника, который, даже в дерьме сидя, старается не упустить свою выгоду. Из таких неплохие наемники получаются. Их йени-чери в свои ряды охотно принимают: блоха блоху не съест.
– Это хорошо, что ты стремишься возвыситься из низкого положения, в каком находишься. Человек без стремления – глина, учит мудрость предков. И еще говорят: идешь в чужой дом, сначала найди выход. Посему я тебе расскажу о том, что тебя ждет, если ты вступишь в «новое войско». Но – коротко, чтобы не задерживать твоего славного хозяина.
Знай, о любознательный невольник: йени-чери набирают в основном из девширме, «дани кровью» – детей мужского пола, коих берут у христиан, подвластных империи, или полонят при взятии новых стран. Их называют свободными – чилик. Однако мальчиков нужно долго воспитывать, потому нанимают и взрослых пленных-добровольцев. Таким дают наименование пенджик – несвободные.
– Это что ж, выходит, я опять в рабах останусь?
– Мне нравится твое беспокойство о будущем. Сказано: кто не думает об исходе дел, тому судьба не друг. Но утешься. Различие лишь в том, что чилик имеют право на наследование имущества, а пенджик – нет, во всем остальном они равны. Попасть в «новое войско» – большая честь. Йени-чери, а их при дворе около четырех тысяч, охраняют священную особу султана и в Серале – султанском дворце, и в шепире – полевом шатре, закрывают его своими телами в бою.
– А сколько им дают на корма?
– Простой воин получает один золотой на десять дней. Кроме того, каждому в год выделяют один золотой на лук, хазуку – верхнюю одежду, восемь локтей полотна на рубашки и три локтя – на большие штаны.
– И так всю жизнь?
– Если отличишься в бою, тебя назначают юз-баши, а то и торбаджи. Значит, станешь предводителем десятка или сотни, будешь получать золотой на два дня. А можешь дослужиться и до помощника янычар-аги, который командует большим отрядом йени-чери. Ему выдают золотой в день!
– А коли я стану этим… янычар-агой?
– Как обширны твои аппетиты, человек из северной страны! Трижды три раза прав мудрейший из мудрых Али Сафи, изрекший: «Обжора тот, кто один кусок жует, второй в руке держит, в третий взглядом впивается». Однако, по здравому рассуждению, ты не столь уж неправ. Многие бывшие рабы добились высоких званий алай-бея, полковника, или янычар-аги, жалованья десять золотых в день и права ездить на коне!
– Разве янычары совсем не имеют конницы?
– Нет, лишь их аги и помощники ездят на лошадях, остальные – пехота: стрельцы из мушкетов, луков, самострелов, пушкари.
– А как жить-то придется?
– Поначалу поучишься воинскому ремеслу в школе Аджами Огхлан. Если умеешь хорошо сражаться, тебя в ней долго не продержат, быстро определят в орту. Там будешь есть из общего священного котла, ночевать в казармах. Коли повезет в походах, быстро защеголяешь в добротных одеждах, цветных шелковых поясах, сможешь похвастать дорогим оружием, красивым долбандом – это такой высокий головной убор с пучками перьев наверху. Житье привольное, не пожалеешь! Правда, жениться нельзя, семьи и дома заводить – тоже! И еще учти: упражняться в боевом искусстве придется чуть ли не каждый день!
– Такое мне любо! Согласный я!
– Что ж, теперь слово за твоим хозяином. Сколько хочешь за раба, эфенди? [131]131
Эфенди (тур.) —господин.
[Закрыть]
– Триста золотых, досточтимый Нури-бей!
Сафонка аж рот разинул от непомерной цены, однако вербовщик лишь радостно улыбнулся, предчувствуя любимое развлечение – долгий, хороший, упорный торг.
– Побойся Аллаха, доблестный Будзюкей-мурза! С одной христианской головы в султанате берут джизье, подушный налог, всего в сорок серебряных аспров – то есть один золотой!
– Только с тех, кто сам не зарабатывает…
– Даже тех, кто работает, облагают лишь вдвое большим налогом! Мальчик, пригодный для йени-чери, стоит всего-навсего пять золотых. А я предлагаю тебе… в шесть раз больше!
– Покуда мальчика будут обучать десять лет, он съест на полтыщи золотых да на столько же сносит одежды. Он может легко заболеть и умереть в новом месте, и тогда все расходы на него пропадут. Да и выйдет ли из него прок в конце концов, только святой Хызр заранее определить способен. А я продаю тебе испытанного бойца. Знаешь, скольких нукеров он мне стоил? Пятерых! И ушел бы от нас, когда бы я сам его не полонил! Тигр лютый, а не урус! А я сумел его поймать и приручить!
«Вот брешет – не подавится, цену набивая», – поморщился Сафонка.
– Так что, сам понимаешь, – заключил Будзюкей, – дешевле, чем за двести пятьдесят золотых, такого силача уступить просто глупо.
– Какой он воин – слишком молод еще, опыта набраться не успел! Его не то что испытанный йени-чери, а любой слабосильный азеп-пехотинец одной левой побьет. Ну-ну, не гневайся, благородный мурза, – торопливо добавил купец, видя, как побагровело лицо Будзюкея, – я не думал обвинять тебя во лжи, просто турецкие бойцы самые сильные в мире…
– Настолько сильные, что слабейший из них одной левой рукой свалит багатура, с которым не справились пять моих отборных торгутов? Ты смеешься надо мной. Нури-бей!
– Вовсе нет, славный мурза! И чтобы доказать тебе свое уважение и подтвердить полное доверие к твоему рассказу, я куплю невольника – заметь, себе в убыток! – за целых сорок золотых…
– Э нет, купец! Ты усомнился в моих словах, теперь я должен доказать свою правдивость. Сразись с урусом тупым оружием. Если победишь, я сам заплачу тебе шестьдесят золотых, а его продам в каменоломни!
– Аллах акбар! Ты, видно, хочешь, чтобы я очутился в маристане? [132]132
Маристан (араб.) – мусульманская больница.
[Закрыть]И не от руки этого юноши – ты знаешь, мне приходилось сражаться, хоть я и не воин, а купец, некогда мечтавший стать ученым и поэтом, – а от непосильной для моих лет перегрузки. Но предложением твоим я воспользуюсь. Пусть бьется с моим телохранителем. Он обучался у наставников Аджами Огхлан и был у них на неплохом счету. Темир! – возвысил голос торговец.
Из стоявшей неподалеку кучки слуг Нури-бея отделился крепыш с иссеченным шрамами лицом. Одет он был по-монгольски: чекмень из верблюжьей шерсти, перетянутый поясом, нагрудник из шкуры жеребенка, мягкие сапоги, на голове заимствованная у кипчаков шапка-боряк, отороченная лисьим мехом.
– Испытаешь боем этого юнца – годится ли он для йени-чери.
Темир поклонился, ощерив в радостной ухмылке рот.
Будзюкей понял, что попал в ловушку, расставленную хитрым купцом. Урус-шайтан давно не упражнялся с саблей, жил впроголодь, прошел пешком не меньше двухсот фарсахов. [133]133
Фарсах (араб.) – шесть километров.
[Закрыть]Для поединка он негож, а ему придется мериться силами с отменным рубакой, которого Нури-бей, по всему видать, держит как раз для таких случаев. Выгоду купец получает двойную: сразу определяет, стоит ли покупать раба, и сбивает цену – ведь вряд ли кто побеждает Темира.
Будзюкей еще раз убедился в том, что все подстроено заранее, когда Темир, зайдя в палатку, стоящую у навеса, почти сразу же вышел оттуда облаченный в кожаные нагрудник и шапку, кои одевают под кольчугу и шлем. Он нес две учебные сабли – тяжелее обычных, с закругленным острием и затупленным лезвием. Сафонке никакой защитной одежи не предложили.
Челядь Нури-бея и кэшиктены мурзы расступились, образовав большой круг. В мгновение ока выросла толпа базарных зевак.
Сафонке стало страшно. Не смерти он боялся – такой саблей не убьют. Не боли, не увечья, коль удар пропустит. Позора, что на глазах у всех уступит вражескому бойцу, наверняка грозному, что честь русскую уронит. Был бы в полной мощи, да не усталый, да поупражняться бы седмицу – хоть с самым сильномогучим поединщиком померился бы удалью молодецкой. А так… Стыд единый, а не брань…
Сафонка и Темир вышли на круг. Уже по тому, как быстро передвинулся татарин, оставляя солнце за своей спиной, чтобы оно било в глаза противнику, Сафонка понял: перед ним бывалый воин. Правда, уловка Темиру пользы не принесла, светило было скрыто завесой туч.
Пошла игра боевая. Выпад – отбив, атака – уход, обман – отскок… С первых столкновений клинков зрителям, многие из которых поднаторели в ратном деле, стало ясно, что казак превосходит выученика янычар силой рук, равен в ловкости и быстроте, но уступает в мастерстве и выносливости. Ужом ускользнув от нескольких, будто хлыстом нанесенных (до того резкие!), боковых ударов, парировав с полдюжины прямых тычков в грудь, Сафонка почувствовал, что скоро выдохнется и долго не протянет. Соперник тоже понял это и сбавил темп, настраиваясь на затяжной бой, чтобы сначала вымотать гяура, а уж потом добить.
Отчаянье опять нахлынуло на казака, но он постарался перебороть себя. Поддайся одной боли да сляг – и другую наберешь. Надо бы закончить схватку сколь можно быстрее, да как? Раздумывая, он для сбережения сил отступал, отмахиваясь от Темира, пользуясь тем, что руки у него длиннее, чем у татарина.
Телохранитель Нури-бея не спешил, дыхание со свистом, ровно, размеренно вырывалось из полусомкнутых губ, в то время как невольник втягивал и выпускал воздух, ровно гончая после заячьей травли.
– Поджал хвост, урусский шакал? – вызывающе прошипел Темир, чтобы вывести гяура из равновесия, заставить сделать опрометчивое движение. – Сейчас я проломлю тебе башку.
«А, раньше смерти не умрешь!» – вдруг решился Сафонка. Он вспомнил одну не весьма честную уловку, коей лет восемь назад научил его батюшка. Отскочив от Темира подальше, парень огляделся, увидел кучку мокрой грязи, перемешанной с дерьмом, и перепрыгнул через нее, оставив горку между собой и врагом. Будзюкей осуждающе покачал головой, бусурманы неодобрительно загудели: трусит гяур, бегает от правоверного, как пугливый олень от барса!








