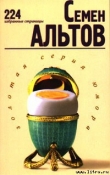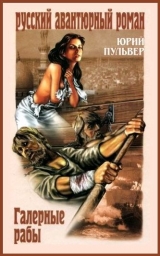
Текст книги "Галерные рабы"
Автор книги: Юрий Пульвер
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
* * *
Так что родичи казненных не испытывали ненависти ни к вождю, ни к ворожее, ни к палачам: все они просто соблюдали закон племени. Ни один зулу не усомнился в справедливости наказания: так потребовали духи. Ни один, кроме Мбенгу.
Но Могучий Слон и был главной причиной гибели скота. Это он совратил своих несчастных друзей, заставил идти за собой черным путем!
Когда Тетиве шлепнула его метелкой, выразив общее мнение, ненависть народа зулу тропическим ливнем пролилась на вожака импи.
Мбенгу и глазом не моргнул.
Не четверо – восемь стражей с опаской приблизились к нему.
Он не пошевелился.
Один из палачей протянул руку, чтобы отобрать у него копье.
Лишь тогда Могучий Слон с силой отшвырнул наглеца щитом, выступил вперед и сам подошел к вождю, сохраняя бесстрастное лицо.
Однако и у Мбенгу сперло дыхание при виде подарка, который приготовил ему облагодетельствованный им народ: четыре бамбуковых колышка длиной в пол-локтя и палец толщиной с закаленными на огне, острыми, как костяная игла, концами.
…Десять лун назад бесноватый Мсангу, никчемный воин и муж, нажевавшись наркотических трав, которые украл из жилища Тетиве, в омрачении ума совершил страшнейшее на свете преступление: потоптал захоронение предков. После короткого суда двое силачей схватили святотатца за колени, еще двое согнули вперед. Ндела самолично не спеша деревянным молотком заколотил в зад осквернителю могил четыре колышка. Извивающейся, как раздавленная рогатая гадюка, захлебывающейся от крови, которая текла из прокушенного языка, жертве пропустили под мышками кожаный ремень и подвесили на ветке дерева. Вопли Мсангу не стихали день и еще ночь…
– Могучий Слон, – уважительно обратился вождь, – ты пришел к нам из неведомых краев от неслыханных народов. Тебя приняли в племя, доверили место в воинском строю среди лучших щитоносцев, потом – главенство в импи. Я отдал тебе в жены свою самую красивую дочь. Правду ли я сказал?
– Истина в твоих словах, о отец моей первой жены.
– Почему же ты навлек несчастье на приютивших тебя?
– С тех пор как я прополз между ног моей второй матери Нонсизи и взял в рот сосок ее правой груди, приложившись ухом к ее сердцу, как того требует обычай усыновления, я стал настоящим зулу. С тех пор как я стал настоящим зулу, импи не потерпело ни одного поражения, захватило для племени не счесть сколько скота и много молодых девственниц. О каком же несчастье говоришь ты, вождь? Мор, из-за которого ты, совет индун и Тетиве затеяли вынюхивание, наверняка накликали колдуны соседних народов сиколобо, хауса, мабуване, нгване, которых мы унизили нашими великими победами. Вы зря убили лучших воинов, они пригнали бы вам больше скота, чем унесли бы десять падежей!
– Но предки указали на тебя и на них, как на причину мора!
– Предки не ошибаются! Не будь нас, не было бы и побед зулу. Не было бы побед зулу, не стали бы чародеи из посрамленных племен наводить на нас порчу. Тетиве услышала слова духов, да не поняла их смысл!
– Казненные сами признали вину!
– Как могли они не поверить твоей мудрости и тайным знаниям Тетиве, ведь они не умеют разговаривать с духами!
Ндела не стал спрашивать, беседует ли сам Могучий Слон с Теми-Кто-Счастливее-Нас. Как иначе бы он всего за три года выучил язык зулу и сделался великим щитоносцем, грозой армий?! Да вот добрые ли духи шепчут ему на ухо? Но вдруг и вправду ворожея ошиблась, и тогда на него, Нделу, падут невинно пролитая кровь соплеменников и месть родственников?
Вождь почувствовал, что зять снова загнал его в ловушку для вилорогов, из которой нет выхода. О мои прапрапрадеды и их потомки, вплоть до первого от меня колена, ну почему этот сын греха всегда заставляет меня сомневаться в собственной мудрости и менять решения?!
Дикое поле, июнь 1604 года
В который раз за не столь долгую жизнь необозримые просторы Дикого поля наполнили душу и взор Сафонки трепетом и восхищением. С чем сравнить бескрайнюю степь, ковыли да емшан, траву равнинную? Раскинулась она привольно на все четыре стороны света, докуда глаз видит. Лишь изредка перемежают ее балки и овраги, прочесывают гребешки невысоких холмов и курганов.
С морем? Но его Сафонка доселе не знал, не ведал.
С лесом? Но гигантские чащобы не охватишь взором, разве что с высоты птичьего полета.
А что еще есть огромнее, чем окиян-море, степь да лес?
Небо…
Степь – опрокинутое зеленое небо. И его попирали копыта казацких коней. Где-то вдали зелень переходила в зыбкую серость, потом в голубизну: горизонт, искусный портной, мелкими-мелкими стежочками сшивал землю со сводом небесным, так что между ними не оставалось и щелинки единой.
Как маленькое темное облачко, плыли по зеленому небу верховые – вершники, одновременно и желая, и боясь наткнуться на огромную грозовую тучу, готовую испепелить грады и селения русские – на воинских людей хана крымского. Желая – чтобы отчизну от удара внезапного спасти. Боясь – потому что смертью та встреча грозила.
Ехали с бережливостью великой, с коней не сседали, станов не делали. Каждый миг ожидали наскока вражьего, потому что очутились у самой пасти диаволовой – пересекали Ногайский шлях.
За все в ответе атаман. Никто ему не указ, в станице он сам и царь, и господин. Волен «ехати, которыми местами пригоже», действовать «посмотря по делу и по ходу», решать, что для станицы «поваднее и прибыльнее».
Многогрешен Семен: и до баб охоч, и до хмельного, и в казну царскую запускать лапу навык. Но воевода и голова станичный твердо знали: в бою ли, в разведке Иванов не подведет, голову за Русь сложит, не быв на сакме и не сметив крымцев али ногайцев, «не доведовав допрямо, на которые места воинские люди пойдут», с ложными вестьми домой не поедет, хотя за это и не полагается никакой кары.
И сейчас сотник выбрал что ни на есть опасные места. Появись тут поганые – враз их сакма замечена будет. Однако и самим уйти без потерь – близко к невозможному.
И место худое, и время худое. Осенью еще можно отбиться от орды, если лишить конницу вражью подножного корма, «жечь поле в осенинах, в октябре или ноябре, по заморозом, как гораздо на поле трава посохнет, и снегов не дожидаяся, а дождався ветреные и сухие поры, чтоб ветр был от государевых украинных городов в польскую сторону», дабы не пострадали крепости и леса.
Зимой поганые опасны более всего вблизи речного льда. По снегу глубокому от них на снегоступах или лыжах уйти можно. Степные легкие мохноноги проваливаются в сугробах, пешком же татарин ходит разве что нужду справлять…
А вот летом беда. Бахматы татарские неказисты, некрасивы, да выносливы необыкновенно.
Уйти от погони трудно, помощи ждать неоткуда. Позади, в нескольких днях пути на север, караулят на постоянных ухожеях-стоянках по десятку казаков. Четверо ждут в местечке укромном, остальные по двое рыщут в поисках следов конницы татарской, кою станичники – проведчики дальние – пропустить могли.
Дальше цепочками, в виду друг друга, до самого леса столбятся курганы высокие. Через них идет связь световая между крепостями и сторожами. Огни на курганах известят ночью воевод пограничных о набеге, днем же при сполохе над вершинами поднимутся клубы дыма.
В лесах кроются засеки-завалы. Не на опушке, а в глубине, в самой чащобе, чтобы вражий глаз до сроку не заметил. Деревья рубятся выше роста людского – «как человеку топором достать мочно». Стволы пилят так, чтобы падали они по направлению к «полю», к неприятелю и чтобы комель оставался на пне. Получается линия надолбов, между которыми рушат малые деревья, насыпают валы, роют рвы, волчьи ямы. И – пожалуй, гость дорогой, незваный, угостим на славу!
Однако и в лесах силы ратной нет, лишь горстка засечных сторожей, кои должны предупреждать лесные пожары, устранять неполадки на засеках, дежурить на постах дозорных на деревьях высоких, к которым приставлены лестницы. Каждый караульщик имеет кузов с берестою и смолою и зажигает их в случае нужды, чтобы «в подлесных селах и в деревнях про приход воинских людей было ведомо».
Трудно туменам пройти через засеки да реки топкие, болота гибельные, если только не ведают ихние мурзы и беи про броды-перелазы. Вот почему поганые в первую очередь ловят пленных, знающих участок границы и пути сторожевых разъездов. Станичники для них самые ценные язычники-языки.
…Едва в дорогу тронулись, как прыгнула на сердце атаману жаба грудная. Невидимая глазу – ан ощутимая. Невесомая – а грузнее ее нет. Впору сравнить с тягой земной, кою таскал в своей сумочке Микула Селянинович и кою не сподобились поднять ни Святогор-богатырь, ни Вольгина дружина. Навалилась она на отца – и камнем придавила души трех его сыновей.
Ночами спать не мог Семен, дышать себя заставлял, уставая от усилий и не имея возможности отдохнуть. Только смаривал его сон, тише становились вздохи, голова валилась набок, тело вздрагивало в расслабляющей судороге – предвестье забытья, как будто вдруг чья-то безжалостная рука зажимала рот и нос. Сердце с уханьем – как в яму, как при езде на санках с кочковатой ледовой горки – проваливалось куда-то вниз. И приходили жуткие братец с сестрицей – страх да отчаяние. И снова нужно было трудиться, трудиться до изнеможения – дышать.
Стонал в полудреме Семен жалобно, звал сыновей, и те прибегали сразу, так как сами не спали, в тревоге за него не знали покоя. Могутные парнюги, переплывавшие Дон и не боявшиеся с рогатиной выйти на медведя, стояли, опустив бессильные руки (Михалка с Сафонкой подковы ими ломали), и проклинали себя за беспомощность…
Знали они, как болести гнать. Не убоялись бы лихоманки, от нее немало верных средств есть. Можно стереть в порошок головную кость щуки, коя наподобие креста, и выпить со святой водой и четверговой солью. Или выйти в полночь на перекресток дорог с хлебом-солью и попросить: «Матушка-лихорадушка, на тебе хлеб-соль, а с меня больше не спрашивай».
Да лихорадки-то у отца никакой нет…
Зубы, скажем, тоже легко исцелять. Укуси мертвеца за палец больным зубом или прополощи рот водой, которой его обмывали.
Сафонка-книгочей, тот заговаривал и блох, и тараканов, и мышей, и даже пожары.
Поболе же всех ведал про врачеванье сам батюшка. Пил настойку травяную, коей загодя в Воронеже у бабки-ворожеи запасся. Молитвы лечебные да заговоры верные против жабы читал. Сначала малый: «Жаба, жаба, синючая, больнючая, выйди из раба божьего. Жаба наедена, жаба напита, я тебя изгоню, я тебя истреблю. Иди ты в черта, в болота, где солнце не всходит, собаки не брешут, кочета не поют. Живой кости не ломай, мово сердца не замай, червоной крови не пей». И при том крестил себе сердце.
Пущей же верности для и большой заговор повторял девять раз, как подобает: «На горе стоит престол, на нем святая богородица булатный держит меч жабу сечь, коль не уйдет. Сечь будет жабу грудяную, колючую, ломучую, гниенную, жгучую, пухловую, нутряную, водяную, глазовую, мозольную, вихревую. Матерь божия, иссуши жабу раба божьего. Аминь!»
Раньше облегчение немалое слова заветные да снадобья приносили. Теперь – нет. Все больше и больше росла жаба.
И уже не мог Семен ни на коне скакать, ни сиднем сидеть, ни лежмя лежать даже. И так ему было худо, и эдак нехорошо. А ведь ватага еще и трети пути не одолела!
Понял Семен: поймала его костлявая старуха. Сколько раз ускользал от нее во всяких переделках. А тут вот загнала, шишимора, в угол – это во широкой-то степи! И никуда от нее не деться.
Чем возвращаться назад, лучше живьем в гроб лечь. В Уставе особо говорится: «А которые сторожи, не дождавшиеся себе отмены, с сторожи съедут, а в те поры государевым украинам от воинских людей учинитца война, и тем сторожем от государя, царя и великого князя быть кажненными смертью!». И обмануть воеводу нельзя. Надо добраться до назначенного им места и положить в тайник «память» – наказную записку. А старую, оставленную прежней сторожей, забрать из ухоронки и привезти в Воронеж как подтверждение.
Оставаться на месте, покуда не выздоровлю али не умру? Татары могут пройти незамеченными, и тогда на Русь падет беда неминучая, словно Змей Горыныч пролетит. Ватага же все равно погибнет.
Коли даже поганые не пойдут в набег нонешним летом, все едино охулка может выйти. Украинные воеводы и станичные головы часто проверяют станицы и сторожи, сами объезжают свои участки. Коли выяснится, что проведчики дальние «стоят небрежно и не усторожливо и до урочищ не доезжают, а хотя приходу воинских людей и не будет, тех станичников и сторожей за то бити кнутом». Лучше сгибнуть, нежели перенести на старости лет, после службы беспорочной, такой позор, да и сыновей подвергнуть опале. И за пса смердящего никто почитать не станет!
Выход единый – ехать вперед. Ан мочи нет…
Хотел Семен предложить, чтобы бросили его. Не решился, ведал: и помыслить о подобном не способны сыновья.
Имелось еще решение: кому-то оставаться с ним до конца, остальным продолжать разведку. Конечно, сидельца, скорее всего, тоже ожидает погибель. Только скорость, только передвижение постоянное могут спасти от поганых. А если на месте сидеть, и не заметишь, как очутишься в татарских путах.
Да кого ж выбрать? Матфейку с Ширяйкой нельзя. Чужие чада, страшный грех на душу ляжет, коли что с ними приключится. И сыны не допустят, чтобы посторонний отца в путь последний провожал. Но ведь кого-то из своих оставлять – все равно что за собой в могилу тянуть! Бремя такого выбора потяжельше колодок!
Так и не одолел Семен головоломку эту – дети сами решили. Подошли, поклонились в пояс, попросили разрешения речь держать. Старший, Михалка, сказал:
– Надумали мы дак что [33]33
Дак что (рус.) – только что.
[Закрыть]батюшка, ежли на то согласие твое будет, разделиться. Я поведу Матфейку и Ширяйку дальше – сакмы смечать. Глебка поскачет за подмогой до оседлой сторожи – может, там, у леса, повозку какую спроворят, он ее сюда приведет, для того ему третьего коня дадим. Сафонка останется тебя беречь, покуда Глебка али мы трое не вернемся. Ежли будет телега, до Воронежа наверняка доберетесь, а там тебя лекари да ворожеи враз излечат, коль господь милость явит…
Согласился Семен: премудро дети рассудили. Михалка теперь головить в семье будет, его жена в тягости ходит, ему надо дать живым до дома добраться. И опыта у него поболе, чем у остальных, в деле станичном. Глядишь, и убережет ватагу новый атаман. Глебка молодшенький, сын единый у Марфы, второй жены. Последыша тоже спасти надобно попытаться. Конечно, одному ехать опасней, но ведь назад, по проторенному уже и вдвое более короткому пути. Вдобавок к своим.
А Сафонке, знать, выпала доля такая – умереть за братья свои… Лечь в мать-сыру-землю с отцом рядом…
Заплакал тут Семен. И зарыдали сыновья его в голос. Невдалеке же залились горючими слезами Матфейка с Ширяйкой.
Взгляд из XX века
Неправдоподобным покажется такое поведение нашему современнику. Как же так, героические казаки – и плачут, ровно дети малые.
Что поделаешь, так уж вели себя европейцы и русские, жившие в конце средневековья, в подобных случаях. Чувства принято было скрывать перед лицом врага, но никак не перед своими. В лирике немецких вагантов (создававшейся, кстати, на рубеже XVI–XVII столетий) есть песня про студента, который уезжает на учебу в другую страну и призывает товарищей: «Плачьте ж, милые Друзья, горькими слезами…» Этот призыв следует понимать в буквальном смысле. И средневековые европейские рыцари, в том числе знаменитый английский король Ричард Львиное Сердце, образец высочайшей воинской доблести и бессмысленной звериной жестокости, и русские витязи, короче, и высшие, и низшие мира феодального весьма бурно выражали свои эмоции. Рыдали на людях, не стеснялись публично выказывать печали и радости. От нервных потрясений падали в обморок даже силачи (эту черту сохранили благородные девицы до начала двадцатого века). И умирали от неразделенной любви, от позора, от внезапного горя, что в наши дни случается крайне редко.
Свидетельств тому тьма в былинах, легендах, песнях, лирике, эпосе – и в исторических документах тоже.
Но те же самые «плаксы», не моргнув глазом, шли на смерть, если надо. Без стона терпели жесточайшие пытки. Предпочитали гибель бесчестью.
Они были не хуже нас, люди шестнадцатого столетия, но другие. И уж, конечно, не такие, как их порой описывают в иных «исторических романах», в которых на нашего современника одевают шелом и броню и автор недрогнувшим пером посылает его на Куликово поле умереть «за Родину, за Сталина!», или, говоря без иронии, дает его действиям мотивацию, совершенно абсурдную в тех исторических условиях, какие описывает.
Наши предки далеко не во всем соответствовали современным идеалам и представлениям. И нас наверняка бы назвали (не без оснований) лежаками-лентяями да лакомогузками-сластенами, которые больше болтают, чем работают.
Так что не будем мерить их на свой аршин. И судить сурово тоже не надо. Они ведь нас осудить не могут…
* * *
Поплакали, погоревали казаки и начали искать место для стоянки. Нашли скрытую лощину, поросшую терном и боярышником, в полуверсте от родничка малого. Рядом с водой стан делать не годится. К источнику человек чужой в первую очередь явится. Далеко от воды тоже нельзя. Ее придется тащить к ухоронке с бережливостью великой, каждый раз путями нехоженными, дабы тропку не натропить…
Остающимся выделили запасов поболе (бог ведает, сколько времени подмоги ждать?), а коней, не говоря о том лишних слов, – по одному на человека. Семен все равно скачки не вынесет, даже если татары нападут не врасплох и будет время оседлать лошадей.
Расцеловались, посидели на прощанье, потом четверо отъезжающих отдали Семену и Сафонке поклон земной. И в две противоположные стороны разъехались вершники, исчезли за горизонтом быстро-быстро, как пущенные из лука стрелы. Сгинули – и нет их. А душу новая глыба тысячепудовая придавила. Мало что себе спасенья не видишь, так еще о них беспокойся.
Стали отец с сыном жить-поживать в дикой степи да ожидать, кто придет к ним раньше: подмога, вороги или Семенова смерть.
Сплел Сафонка из кустарника шалаш, на крышу войлок пристроил. Укрыл двух кобыл в овражке поблизости, стреножил. Нарезал им утрами травы по полпуда. Много времени это отнимало, потому что косить приходилось понемногу в разных местах, дабы следы слишком явные не оставлять. Благо еще ячменя с собой взяли, им лошадей понемногу докармливали. Да воды бурдючка по четыре в день принести каждой нужно. Костров не разводили, ели всухомятку – ни каши, ни юшки – супа.
Через две седмицы жара спала, и вроде полегчало атаману. Принялся он вставать понемногу, дышал свободнее. Не бил уж его колотун, не трясло от холода внезапного – до судорог, до лязганья зубов, которое страшно пугало Сафонку: не в упыря ли отец превращается? Не порчу ли на него навели каменные бабы-истуканы, торчащие на степных холмах, вперившие слепые и тем не менее всевидящие глаза в мир иной – тайный, волховской? Вдруг не зря шептуны болтали, что писания святого Семен Иванов не навык, не сведущ в нем, зато в чернокнижии горазд.
Положим, лжа то. Так ведь и вправду батюшка не больно охоч церкви одаривать, лучше в кабаке деньгу спустит. Всех сынов заставил обучаться грамоте и языку варварскому – татарскому. Самому Сафонке то любо. Однако попы Леонтий да Никита из Ряжска не раз сотнику пеняли, угрожали карой вечной в геенне огненной…
Как полегчало отцу, страхи Сафонку отпустили. Взбодрился чуть-чуть сын, и Семен духом воспрянул: коли на поправку здоровье пойдет, можно потихоньку-полегоньку домой ворочаться. Припас-то съестной иссякает.
В Иванов день, 24 июня, рано утром пошел Сафонка к источнику – и обмер: земля выбита копытами. Может, тарпаны, одичавшие кони, попробовал успокоить себя. Ведь не подкованы. Но бахматы тоже железной обувки не носят.
На четвереньках начал Сафонка обшаривать траву, пригляделся к родничку. На поверхности воды плавали, на травинках вокруг корчажка висели дюжины три волосков. Бараньи – с шубеек, вывернутых мехом наружу. Так поганые носят их летом, а зимой выворачивают наоборот.
Видать, пил татарин прямо из родничка. Войско вражье близко. Малая ватага соглядатаев побоялась бы оставлять следы у источника. Убрали бы волосинки, прикрыли бы поврежденный дерн. А так, знать, не страшатся никого…
Набрав воды в бурдючок, Сафонка медленно, сторожко (ничто так не привлекает взгляд хищника и охотника за ясырем, как резкое движение), прячась за кустами и в извилинах лощины, пробрался к шалашику – совет держать с отцом. Татары обнаружить могут ухоронку. И Устав требует: если станичники и сторожа, даже точно не установив угрозы, «подозрят людей на дальних урочищах», то нужно «послать с вестьми своих товарищев в те городы, из которого города кто на заставу ездит», а остальным продолжать наблюдение. То есть по всем правилам нужно немедленно скакать в Воронеж. Может, отец сумеет одолеть этот путь, ведь ему вроде полегчало?
На корточках Сафонка забрался под переплетение веток, замер, чтобы не разбудить внезапно. Семен в это время обычно спал. Страдалец, только на рассвете забывался на часок-другой.
Чуткое ухо уловило непривычную тишину. Батюшка во сне всегда тяжело дышал, постанывал, а тут вдруг дышит так легко, будто здоровый… Или вовсе не дышит – ожгла жуткая мысль. Дотронулся до отца – теплый. Да нет, наверное, крепко задремал. Окликнул потихоньку, потом погромче. Дернул слегка за рубаху, потормошил – никакого ответа.
В отчаяньи вскочил Сафонка, свалил войлочную крышу. Лучи утреннего солнца осветили родное лицо. Был Семен такой тихий, спокойный, умиротворенный, как будто отпустили его боль и муки, как будто избавился навсегда от грудной жабы. Как будто живой. Как будто…
У Сафонки длани холодом облило, язык к горлу присох, часто-часто забилось сердце. Он протянул дрожащие руки к отцу и, как учили когда-то казаки, попробовал нащупать признаки жизни в шейной вене. Но как ни прислушивался, как ни хотелось ему этого, не почувствовал слабого биения пульса.
Аминь…
Сотни раз за тягостные и тянучие недели, проведенные в степи, Сафонка представлял себе этот момент, цепенел, мысленно рисуя одну и ту же картину: безжизненное тело батюшки у своих ног. А подготовить себя ни к чему не сумел. Да и в силах ли такое человеку?
Явь оказалась куда хуже предчувствий. Голова будто наполнилась песком, отяжелела, мысли пробивались в ней с трудом. Ноги заколдобели, руки как чужие сделались. Горе ли то было, ужас – он не знал. Но чувствовал: еще немного – и сердце разорвется. Так, наверное, бык, оглушенный обухом топора, падает, подставляя беззащитное горло под тесак мясника.
Опустился Сафонка на колени рядом с телом, сжался в комок. Не боялся он смерти собственной – не раз она проходила на волосок от него. Не страшился чужой кончины – не одного ворога самолично отправил в преисподнюю. А вот смерть отца ни умом ни сердцем постичь не мог. Семен был для него всем – батькой, другом, атаманом, наставником, судьей. Без батюшки ничего не было и быть не могло. И уже не будет.
Всяк человек закрыт от могилы теми, кто его породил, словно двумя стенами. Легли в домовину дед и бабка – упала внешняя загородь, считай, ты сделал первый шаг к погосту. Умер отец или мать – все, никто тебя от смерти не закрывает, ты возглавляешь очередь, загораживая собой собственных детей и внуков.
Трясущимися дланями Сафонка начал страшный обряд, который каждый человек проделывает не раз над другими и который однажды будет проделан над ним самим, если ему посчастливится умереть среди людей. Выпрямил и связал отцу плотно ноги, скрестил руки на груди и скрепил ремешком, подвязал нижнюю челюсть. Глаза закрывать не пришлось – Семен отошел легко, во сне.
Мучился при жизни, так хоть тут повезло, подумал Сафонка, да не утешился этим соображением.
Вытащил тяжелое тело на ровное место, распрямил. Обмыл принесенной водой, одежил в запасную чистую рубаху и порты. Накрыл с головой тегиляем. Закончил скорбный труд, попробовал было по обычаю поплакать, попричитать. Плакальщиц-то нет… Но слезы не шли, крик рвался из души, а из горла не хотел.
Сел Сафонка, стал думу думать.
Самое разумное – тотчас уехать. Одвуконь, на отдохнувших лошадях и без груза можно уйти от татар, даже если наткнешься на них. Только не надо медлить, неровен час нагрянут…
Бросить батюшку непогребенным? На такое лишь Каин способен.
Инда ладно, похоронить недолго. Земля мягкая, теплая, саблей и кинжалом, ссыпая землицу в вещевой мешок, можно за полдня вырыть могилу достаточно глубокую, чтобы до покойника не добрались стервятники и степные волки. Опасно, то так. Ан разве жалко потратить время и рискнуть ради святого дела?!
И будет труп лежать в яме без домовины, и будут расти у него волосы, удлиняться ногти и зубы, краснеть и толстеть губы, пока наконец в черную полночь, когда бесовские чары особо сильны, не выскребется из чернозема вурдалак. И пойдет блукать живой мертвец по ночной степи, покуда не наткнется на человека или селение. А то и до Воронежа добредет, упырей тянет в родные места, помнят они, где им при жизни хорошо было… И понесется горе-злосчастье по земле русской, будто мало она и без того лиха хлебнула.
Станут множиться упыри, вовлекая в круг заклятый все новых и новых живых. И с каждой жертвой станут множиться смертные грехи Сафонки, который выпустил вурдалака на свет божий. Не ждать тогда ни отцу, ни сыну прощения от бога.
Плохо, дурно, грешно думать так о батюшке дорогом. Так ведь умер-то атаман без покаяния и отпущения грехов, хоронить его придется без освященного гроба, не на погосте, в земле неосвященной, без ладанки, кадила, без обряда должного, без отчитывания попом грехов покойного. И много душ, убиенных им и за вину, и безвинно, занесены в его книгу судеб, что пишет ангел-хранитель в чертогах небесных. И много проклятий неотмоленных лежит на нем – от тех, кого он осиротил, обездолил, живота или членов телесных лишил. Пусть и не по хотению своему, а по воле государевой, однако проклятья-то и на него пали. Ан и последний грех – казнокрадство – не отпущен ему. И болестью он странною свален – недаром в ознобе так жутко зубами лязгал. И почил с Аграфены купальницы на Иванов день [34]34
Ночь с 23 на 24 июня.
[Закрыть]– самую колдовскую ночь. Все признаки налицо.
Начал тут Сафонка припоминать, что же про ведунов-то люди сведущие учили.
Колдуны могут наговорить на человека, и тот станет дурачком, припадочным. Коль захотят, посадят на любого ячмени, прыщи, сыпь. Превращаются в кошек, собак, поросят, колесо, пук соломы, светящийся шарик и в таком виде вредят людям. Мачеха сказывала, будто одна колдунья в Воронеже обернулась кошкой и доила молоко у коровы. Хозяева заметили ее, стали лупить, да никак не попадали. Потому что сглупили, забыли: ведьму надо бить только осиновым колом или бутылками, налитыми кипятком.
Еще колдуны закручивают шерсть у поросят, и те дохнут. Волхвы также часто берут мертвую воду (которой обмывали покойника) и поят ею людей. Тогда опоенные начинают мучиться, потому что за ними приходит смерть. Они занавешивают окна, закрываются, никого не хотят видеть и кончают с собой. Сафонка сам такому свидетелем стал. Истомка Бахметьев ногу и руку в бою потерял, женка от него сбежала. Он запил люто, от народа прятался, а потом сам себя спалил вместе с избой. Только тогда соседи и прозрели: несчастья-то Истомкины – от сглаза!
А как же избавиться от ведьмака? Ах да, держать фиги на пальцах и читать «Отче наш»…
Сафонка быстро сложил пальцы в кукиши, пробормотал молитву и продолжал вспоминать…
Колдовство передается из рода в род. Ведун не может уйти на тот свет, пока не передаст кому-нибудь чары свои, потому перед смертью мечется, стонет, ужасно мучается, все время криком кричит: «Нате, возьмите!». Если несведущий или дурак руку протянет да брякнет: «Давай», тоже станет колдуном.
Если никто не берет, надо прорубить потолок над тем местом, где лежит волхв, чтобы его колдовство могло улететь.
Да не говорил так никогда батюшка, не предлагал ничего. И не кричал, стонал только…
Ведуна с полуночи начинают мучить черти, хоть он с ними и дружит, потому как вместе изводят род людской.
Так батюшка день-деньской задыхался, не только после полуночи… Не все приметы сходятся. Вот и определи тут…
И то сказать, был он славный казак и отец, немало врагов земли родной положил, много услуг царству оказал. И неизвестно еще, какие его дела – хорошие или скверные – перевесят на весах судьбы. Но жизнью загробной вечной рисковать нельзя, как бытием земным временным…
Эх, положить бы тело в колоду с медом и довезти до первой попавшейся церкви. Да где ж взять ту колоду.
Или пробить бы труп осиновым колом, прострелить серебряной пулей, отрезать голову и набить рот диким чесноком и трилистником, чтобы обезвредить будущего упыря. Да нет с собой ничего такого. А коли и было б, разве поднялась бы рука?!
Три дня и три ночи поститься буду, пить лишь чистую воду и молиться без сна и отдыха над телом дорогим, решил Сафонка. Крестами обложу могилу со всех сторон, чтобы никуда он выйти не мог. Попаду в полон к поганым – моя жертва зачтется батюшке на небесах. Удастся спастись – костьми лягу, последние порты продам, но привезу попа на могилу и службу исправлю погребальную.
Сказано – сделано. Без устали копал Сафонка, делал сотни крестов из веточек, связывая их нитками. Нательный крестик отцов положил ему на уста, чтобы не мог он разомкнуть их. Проработал весь день, не заметил, как и ночь подошла.
Храбрился парень при свете солнечном, а как тьма подкралась, страх великий обуял. Мара [35]35
Мара (рус.) – призрак, злое существо, отождествляемое со смертью.
[Закрыть]ведь совсем близко притаилась, ждет. И отец…
Вон, лежит… Неподвижный, уже холодный. Ну как встанет и медленными тяжкими шагами подойдет? И ведь все был отдал на свете, чтобы действительно ожил, чтобы встал снова, подошел, обнял, милый, родной батюшка, чтобы сбросил с души эту ношу невыносимую.
Но ведь если на самом деле встанет, тут же умрешь от ужаса. Или того хуже – станешь оборотнем-кровососом. А вдруг наоборот, как в сказке, восстанет мертвый отец-колдун и одарит волшебным конем, сивкой-буркой, вещей кауркой?!
С тоской и дрожью глянул Сафонка на ясное звездное небо. Впервые набрал сухих веток, развел в степи костер (коли татар привлечет, что уж поделаешь), положил по бокам рядом с собой две сабли. Мертвые боятся холодного железа, можно будет отпугивать до зари, ведь петухов тут, ни первых, ни третьих, за сотни верст в округе не сыщешь. И стал читать молитвы – все, каким научил дьячок. И заговор особый…
Раньше степные ночи были тихими и быстрыми, как прыжок кошки. Эта же ночь никак не кончалась. Месик-месяц светил дурным светом. В каждом шорохе слышались стоны древних царей, погребенных под высокими курганами, посвист шемел, [36]36
Шемела (рус.) – метла, помело.
[Закрыть]на которых ведьмы летают к Лысой горе шабашить, визг младенцев, заживо зарытых над тайными кладами, которые припрятали в этих местах волхвы. Сафонка сжимал в руках рукоятки клинков, поминутно оглядывался назад и в стороны, хотя и окружил себя кострами (нечисть не терпит любого огня, кроме адского).