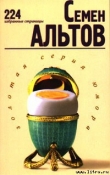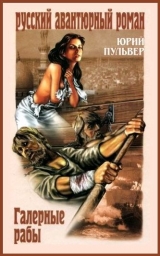
Текст книги "Галерные рабы"
Автор книги: Юрий Пульвер
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Митяй и нукеры с неописуемым ужасом смотрели на него. Это было неслыханно: человек обещал отдать себя нечистой силе, да еще божился, клялся в том господом и святыми угодниками. Только колдун способен на такое – и то тайно, в одиночку или перед своими собратьями. А этот признается прилюдно. И все – ради мести!
И для спасения души отцовой – отметил про себя Митяй.
Даже полонянница подняла распухшие от слез глаза, глянула на Сафонку и закусила кулачок, чтобы не закричать от испуга, хотя не поняла из разговора, шедшего по-татарски, ни словечка.
Сафонке и самому невдомек было, что на него нашло. Бессильство свое тяготить начало, отчаянье. Да еще, может, упрямство и ненависть к врагу, отлично выраженные в русской пословице: «Себя изведу, а тебя дойму. Сам наг пойду, а тебя по миру пущу». Оттого и духу хватило клятву страшную произнести.
Будзюкей переводил взгляд с Сафонки на толмача, с Митяя на нукеров, с них на полонянку, окончательно трезвея. Неглупый и храбрый, он все же оставался сыном своего века и сбрасывать со счетов загробную месть не решался. Чингиз-хан не велел трогать длиннополых урусских попов и вообще всех жрецов, священников любых религий. Непобедимый воитель изрек: «Кто более велик – Аллах или христианский бог, я не знаю. Но если они действительно велики, то пусть оба помогут мне».
Ни Золотая Орда, даже став мусульманской, ни Крымское ханство не уничтожали православные церкви, хотя татары и грабили их. Пророков Моисея и Ису, которых зиммии, люди писания, [66]66
То есть иудеи и христиане, чтящие Библию, которая признаётся и мусульманами.
[Закрыть]почитают, последователи истинной веры признают святыми и считают официальными предтечами хатяма набийина – «печати пророков», последнего и величайшего из 124 тысяч наби и 300 расулей [67]67
Аллах посылает людям пророков двух типов – наби и расулей, числом соответственно 124 000 и 300. Главными из расулей были последние шесть: Адам, Ибрагим (библейский Авраам), Нуха (Ной), Муса (Моисей), Иса ибн-Мариам (Исус сын Марии) и Мохаммед.
[Закрыть]– Мухаммеда. Что шайтан, что дьявол – суть одна, опасно навлекать на себя его особое внимание.
Да, недаром незадолго до встречи с этим гяуром звезда Кейван [68]68
Сатурн.
[Закрыть]появилась на горизонте – верный признак того, что путника постигнет неудача, а воин в походе попадет в беду. Путник – это сам урус, воин – Будзюкей.
Однако сан мурзы, происхождение от великих ханов да и просто воинская, чисто мужская гордость не позволяли Будзюкею терять лицо перед своими нукерами, а тем более перед презренным ясырем.
– Вах, вах, – процедил мурза. – Тебе бы, гяур, гнилой хурмой на бахчисарайском базаре торговать. Речистый ты, большим бы купцом мог стать. Однако угрозы твои – не дирхемы, на них мое согласие не купишь. Я не собираюсь лишаться барышей, причитающихся за твою продажу, а потому с самого начала не намеревался убивать тебя. Волей Аллаха мудрейшего и всеведущего, глава войска ногайского Аллегат – нойон возьмет ясырь немалый. Правда, по дороге в Азов полон дохнет, как мухи на отраве. И все же рабов будут продавать дешевою ценою: простые урусы по десять – пятнадцать золотых, молодые и сильные по двадцать. За тебя – мало, надо набить цену.
– За меня навряд ли выкуп заплатят, мурза, – предупредил Сафонка, немного успокаиваясь: раз татарин заговорил о деньгах, дела к ладу ближе пошли. – Отец только по чину был сын боярский, не по достатку, добрым, богатым то есть, никогда не считался. В поход, как подобает ратнику, в сапогах ходил, однако дома осметками-лаптями изношенными довольствовался…
Сафонка кривил душой, прибеднялся. Ему претила мысль, что братья отдадут последнее добро, лишь бы вернуть его из неволи. Да и живы ли они? И не обманут ли поганые? Слишком много сомнений…
– Ты сам можешь поднять свою стоимость, гяур. Примешь веру истинную ради отца своего?
– Не могу, мурза. Тогда отпевание силу потеряет, мой грех на батюшку покойного перейдет, и его все равно рогатый возьмет…
«Сын за отца, отец за сына не ответчик», – хотел было поспорить мурза. Да вспомнил о шелковых шнурках для самоудавления, кои султан посылал своим пашам, беглербегам и крымским ханам в отместку не только за их собственные провинности, но и за грехи родственников, в том числе дальних, и даже подданных. Вдруг Аллах – нет бога кроме него! – тоже думает, как стамбульские повелители, иначе зачем он подчинил Блистательную Порту [69]69
Блистательная Порта (порог) – официальное название правительства турецкой империи, которое перешло на государство.
[Закрыть]падишаху?
– Слушай, гяур, мое последнее слово. Ты поклянешься пророком Исой, что не убежишь, – не станешь бунтовать ясырь и не лишишь себя жизни, покуда я тобой владею. В Азове при продаже тебя вербовщикам санчака, если Аллах всемилостивейший позволит, ты дашь им согласие стать мусульманином и вступить в янычарские орты. Тогда я получу за тебя не меньше ста золотых. Обманешь ты вербовщиков или нет, меня не касается. Клянись на том…
– Не хитришь, Будзюкей-мурза? Дам я слово быть верным холопом твоим, а ты меня оставишь у себя навеки…
– Воистину нагл ты, гяур, коль осмеливаешься сомневаться в истинности слов моих! Сам себе поражаюсь, сколь долготерпелив я. Не нужен ты мне: нукером не станешь, против соотечественников воевать не пойдешь. А для домашнего слуги слишком велик, неуклюж да прожорлив, будто буйвол. Еще одно слово извергнут твои поганые уста, и велю отрезать тебе язык и затолкнуть его в глотку вместо кляпа. Вот тебе мой окончательный ответ! Клянись на верность…
Сафонка тоскливо глянул на Митяя. Тот незаметно кивнул головой: соглашайся, мол. И бывший казак добровольно приговорил себе к холопству, целовал на том нательный крестик.
– Хорошо, раб. Приговариваю тебя к двум десяткам плетей, дабы запомнил ты навек, как мне противоречить и угрожать, в моем обещании сомневаться. Кто нагл, тот раскаивается…
Без звука выдержал Сафон порку, отлежался полдня, а потом начал к похоронам готовиться. Немало полонянниц захотели проводить соотечественника в последний путь. Поучаствовать в обряде – в качестве охраны – вызвались и многие татары, отчаянно скучавшие в коше от безделья. Среди награбленного в русских селах имущества нашли кое-какую церковную утварь и на время вручили Митяю. В числе пленниц отыскались плакальщицы.
Но Будзюкей отпустил на могилу лишь десять русских и столько же своих. Выкапывать тело не стали, спели обходную над холмиком, уже успевшим просесть в землю, поплакали вдосталь, справили поминки из скудных запасов, накопленных из тех объедков, что татары выдавали каждому на день. И вернулись в кош.
На душе у Сафонки одна тяжесть спала: отца вроде от участи страшной спас. Но ее сменила другая: по небрежению в полон попал, по согласию в нем остался…
– Не кручинься, чадо, – попытался развеять грусть-тоску Митяй. – И навоз даже можно в пользу пустить, коль им пашню удобрить. Присмотрись к татаровям поближе, поучись у них – добрые вои! У ворога перенять ладное – не зазорно. А и сам готовься к испытаниям лютым. Коль ты оянычариться сперва согласье дашь, ан потом-то на попятный пойдешь, тебя крепко казнить будут. Могут и до смерти, конечно, однако вряд ли: за тебя изрядный куш к тому времени будет уплачен. Чтобы возвернуть хоть часть утраты денежной, тебя, скорей всего, на каторгу продадут. А оттуда, бог даст, вырваться важко, ан можно. Ладьи царь-салтанские с кораблями немцев ишпанских, генуэзских, венецианских и прочих каждодневно воюют. Твою каторгу и отгромить могут. А не то на стоянке в порту христианском сбежишь, если вдруг перемирие случится али на торговую галеру попадешь. Так что не принимай полон к сердцу. Двум смертям не бывать, одной не миновать.
Сафонка прислушался к совету: стал за татарами приглядывать. А те скучали до одури. Привыкшим к постоянному движению кочевникам надоедало подолгу сидеть на одном месте, да еще в то время, когда более удачливые их товарищи, пошедшие с главным войском, резвились на урусских просторах.
Какой-нибудь Исуп-багатур скрежетал зубами при мысли, что его приятель Акинчей, сопровождающий Аллегат-нойона, может, как раз сейчас пробует тупым концом копья землю на подворье урусского землепашца. Ищет мягкое местечко – признак, что хозяин именно здесь устроил свою ухоронку. Тычет, тычет – и вот он, желанный тайник, а в нем – глиняный горшок, на треть наполненный серебром!
Анда – побратим Ахтотыр, наверное, отобрал у купца, заезжего с севера, шубу кунью, кою на полдесятка отменных жеребцов обменять можно.
А брат третьей жены Тутай полонил белокосую гурию с щечками нежными и румяными, как персик, и сейчас пересиливает похоть, чтобы не тронуть ее, девственной продать в гарем какому-либо паше.
А недоброжелателю Исламу вислогузому досталась не девка, а баба нестарая, и он о том не жалеет. Располовинил саблей ее сына-щенка, дабы не мешал, саму завалил на траву и вкушает из райского источника Зем-Зем под ее плач и стоны…
Горе мне, Исупу-багатуру, коему жребий несчастливый выпал кош охранять!
Завистливым глазом Исуп смотрел, как сотники и десятские уводили пленниц урусских в свои шатры, как простые нукеры, кому достались в ясырь женщины, отвязывали свою добычу от общей цепи и тут же, на глазах у всех, опрокидывали, удовлетворяя похоть.
Видели это русские и плакали навзрыд, – женщины, подростки, немногие молодые мужчины. Стариков да детей малых татары не брали – мороки много, прибыли нет. Резали им горло на месте.
Видел это и Сафонка – и каменело его сердце, закладывало уши от надсадного душераздирающего крика насилуемых и довольного уханья насильников. Сначала женщины сопротивлялись, бились об землю, рыдали в голос. Затем смирялись, покорялись тупо и безразлично. Иные даже и удовольствие получать начали. А рядить их он права не имел, не судья, сам в хомуте покорствует.
Только и оставалось, что закрыть на эти страсти глаза, о будущем со страхом мыслить да татар изучать. Впрочем, ничего нового, чего не знал раньше, он в коше не выведал.
Каждый нукер вооружен саблей, луком с саадаком о двадцати стрелах, за поясом нож. У любого всегда кремень для добывания огня, шило и сажен пять ременных веревок, чтоб ясырь связывать. Лишь самые богатые на походе носят кольчужные рубахи.
Ловки и смелы поганые в езде верховой: во время самой крупной рыси скачут с уставшей лошади на запасную, которую до того вели за повод. Скакун, не чувствуя на себе всадника, тотчас переходит на правую сторону от хозяина и бежит рядом наготове, чтобы тот мог, если нужно, вмиг поменять коня.
Бахматы Сафонке очень нравились. Неказисты с виду, сложены некрасиво – высота два с половиной локтя, тулово широкое, похожее на ствол древесный. Большая широколобая и горбоносая голова с маленькими глазками. Толстая, короткая, низко поставленная шея, низкая же холка. Волосаты изрядно – грива и хвост до земли, густые, как собачья шерсть. Однако выносливы они необыкновенно. До ста верст пробегают без отдыха. И корма им везти с собой не надо, сами найдут, даже зимой из-под снега мерзлую траву копытами выбьют.
Поразило Сафонку, что масти у них почти все темные: соловые, серые, пегие, каурые, рыжие, саврасые, гнедые, буланые. Отец покойный, мастак по части конской, учил бывалоча: чем темнее масть, тем лошадь крепче и выносливей.
Сафонка сравнивал бахматов с русскими лошадьми вятской породы, к которым привык. Это лесная, не степная порода. Во многом похожи на бахматов: тоже массивное тулово (правда, растянутое), короткие ноги, длинные хвост и грива. Тут сходство кончалось. Голова широколобая, но с вогнутым профилем. Густая шерсть и толстая кожа защищали вяток от зимних морозов и летних комаров. Масть саврасая с черным ремнем на спине. Большие копыта помогают двигаться зимой по глубокому снегу, а осенью-весной по раскисшим дорогам. Вятки хороши для ямской службы: тройка может свезти кибитку без отдыха по заснеженным путям верст до шестидесяти, а за сутки – с передыхом – и вдвое больше.
В степи вятки проигрывали бахматам, в лесу были сподручнее.
Сафонка знал, что иные казаки пытались скрещивать обе породы. [70]70
Есть предположение, что от них пошли битюги – порода упряжных лошадей, выведенная в Воронежском крае.
[Закрыть]А в Гавриловском посаде под Москвой еще при царе Грозном Иване Васильевиче завели завод лошадей, где выращивали особых тяжеловозов владимирской породы.
В табунах, что бродили вокруг коша, паслись жеребцы, кобылицы да мерины почти поровну татарские и русские, добытые в набегах. Сафонке они были неинтересны…
Татары не обременяли Сафонку работой по лагерю – он был личным пленником мурзы, а тот, казалось, забыл о нем. Парень проводил все время с дедко Митяем, которого беспокоило будущее молодого друга.
– Чадо, вот попадешь ты на каторгу, вот убежишь, коль господь смилостивится, а дальше что?
– Домой пробираться почну.
– Так ведь брести придется через тридевять земель, где народы говорят на двунадесяти языцех. Како объясняться станешь?
– А ты что присоветуешь?
– Покуда мы вместях, давай изучать язык латынский. В любой стране немецкой немало людишек – монахов ли, купцов, мудрецов, менял – его ведают. Походит он на многие языци европские – ишпанский, италийский, инные, легче их потом понимать станешь. А без мовы – как без рук, лишь она тебя из стороны закатной сначала до Киева доведет, а уж потом и до Москвы, и до Воронежа.
– Нешто ты латынскому горазд?
– Узнал немного в странствиях своих, потом друг на каторге, книгочий, о коем я тебе сказывал, доучил меня. Не мешкая давай упражняться. Через седмицу-другую войско татарское вернется, еще месяц будем до Азова брести, а там и расставание грядет. За полтора-то месяца лишь азы да буки мовы чужеземной освоить мочно…
Никогда еще и ничему не учился Сафонка так истово, как латинскому. Когда изумленный его рвением наставник буквально изнемогал от усталости, ученик продолжал зубрить странно звучащие слова и прерывался лишь для сна и еды.
Не через две, а через три недели вернулся Аллегат-нойон. Будзюкей выехал ему навстречу и по какой-то прихоти захватил Сафонку с собой, на всякий случай дав ему захудалого мерина, который еле тащил на себе тяжелого всадника.
Мурза и его спутники выехали на пригорок и остановились. Подавая приветственный сигнал, загудели большие «певучие» раковины, которые употреблялись как боевые рожки. Будзюкей протянул руку на север.
– Посмотри, гяур, на великое войско и трепещи! – сказал он торжественным тоном.
На горизонте поднималась черная птица-туча, которая росла все больше и больше по мере приближения, наводя ужас. Деревья не настолько густы в лесу, как всадники в поле. Сафонка ведал: видимость обманчива, поганых не так много, как кажется. В походе орда обычно шла фронтом по сто вершников в ряд, что составляло триста лошадей, так как каждый татарин вел рядом с собой двух запасных скакунов. Таким образом, в ширину колонна занимала до тысячи шагов, а в длину простиралась на несколько верст.
И это в случае, если нукеры держались тесно, сбивались в кулак для удара. А когда орда растягивала свои линии, то занимала уже десятки верст. Семен Иванов видел раз стотысячное крымское полчище с тридцатью тьмами [71]71
Тьма (рус.) – тысяча.
[Закрыть]коней и говорил сыновьям, что это было самое грозное и изумляющее зрелище в его жизни.
Даже теперь, при приближении в сто раз меньшей орды, у Сафонки дух захватило. Накатила какая-то подавленность, гнетущее ощущение собственной ничтожности, неуверенность в будущем своей страны: силища-то какая прет, одюжит ли ее русский народ?
Впереди колонны ехал нукер и бил в дауылпаз – большой кожаный походный барабан.
Пропустив передовые сотни, Будзюкей поскакал к центру колонны, где находился лашкаркаши – предводитель похода Аллегат-нойон со своими телохранителями-кэшиктенами и свитой. Увидев командующего, почтительно соскочил с лошади, низко поклонился. Аллегат тоже спустился с седла. Они поздоровались по-монгольски: прижались грудью друг к другу. Сопровождавшие нукеры спешились и пали ниц. Сафонка приветствовать ногайского главинника не стал, спрятался за конские крупы, притворяясь, будто держит лошадей. Впрочем, на него никто не обращал внимания.
После приветствия мурза присоединился к Аллегату. Толстый старик с оплывшим багровым лицом был одет по-хански. На плечи наброшен легкий зеленый чапан, расшитый серебряными узорами. На бедрах широкий, отделанный золотом пояс, на ногах сапоги, на голове малахай с перьями орла – символом власти. Будзюкей пустил своего драгоценного аргамака позади коня нойона. Его нукеры смешались с телохранителями. Многие из них были знакомы друг с другом, начался обмен последними новостями.
Сафонка улавливал лишь обрывки разговоров, но, зная татарские обычаи и тактику набегов, легко мог из отдельных кусочков составить целостную картину завершившегося похода.
Зимой переход на Русь по степям представлял трудности для неподкованных бахматов, потому в холодные снежные поры татары чаще ходили на Польшу. Русские украины они предпочитали тревожить в теплый сезон.
В роковой для Сафонки набег лета 7112 года от сотворения мира, 1604 от Рождества Христова, орда Аллегат-нойона, собранная из охочих людей, которые принадлежали к различным кочевьям Ногайского улуса, преодолела полосу незаселенных степей с предельной скоростью. Войско двигалось, избирая путь по тянущимся друг за другом долинам. Татары выискивали их специально, чтобы, быть прикрытыми в поле и идти незамеченными. Вечерами, останавливаясь лагерем, они по той же причине не раскладывали огней, посылали вперед разведчиков для добычи «языка». Все было подчинено одной цели: напасть на урусов внезапно, застать их врасплох.
Верстах в тридцати от границы ногайцы перестроили походные порядки, разделились на сотни и растянули их по фронту в два десятка верст. Вперед рванулось сторожевое охранение. Дабы быть в безопасности, отряды перемещались по дуге, держась тесно друг к дружке, чтобы иметь возможность сойтись в назначенный день в заранее определенном месте сбора – уже по соседству с границей, в четверти часа хорошей скачки. Этой уловкой кочевники обманывали казацкие сторожи и передвижные заставы: станичники могли извещать украинных воевод лишь о том вражьем отряде, который они непосредственно увидели. Выяснить, большая идет орда или набег совершает шайка какого-либо захудалого улусного мурзы, было очень трудно. Сафонка вышел на сакму уже после объединения войска, иначе он так точно не смог бы определить количество врагов.
Перейдя границу, неприятель двинулся по водоразделу крупных рек – по самым высоким местам, между истоками ручейков, речушек и речек, впадающих в крупные водные пути. Этим способом татары испокон веков обходили естественные преграды, и лишь такие великаны, как Волга, Дон и Днепр, задерживали их надолго, заставляли искать броды или переправляться вплавь на надутых бурдюках. А хитроумный Джучи-хан, сын Чингиза и отец Бату, однажды преодолел бурную Сейхун-дарью по мосту из надутых и связанных между собою бычьих шкур.
Обычно при набегах крымчаки и ногайцы пустошили пограничные зоны, но не вторгались в глубь края, не оставались там дольше, чем на два-три дня, предпочитая быстро вернуться обратно, разделить дуван и разъехаться по кочевьям. Наскоки на русские украйны совершались настолько стремительно и внезапно, что рати московского царя не успевали встречать кочевников и старались настигнуть их при отступлении, чтобы отбить добычу и полон.
Ан и это было нелегко сделать! Выйдя в степи, татарские полки разделялись на сотни, которые расходились лучеобразно на все четыре стороны света. Затем каждый отряд делился на три части, потом снова натрое… Чуть ли не в мгновение ока огромное войско могло рассеяться по степи, и лишь дуван и ясырь затрудняли татарам бегство.
Зная степь, как лоцманы – прибрежные воды, в назначенный срок все шайки точно выходили к условному местечку – обычно укромной лощине, где есть вода и хорошая трава, в часе езды от границы – и делали привал. Продолжали путь уже целым корпусом, по дороге назад иногда брали приступом какой-либо пограничный городок, застигнутый врасплох, а уж потом начинали свое отступление.
Встретить крымцев или ногайцев на походе было трудно, разве что случайно – за едой, питьем или ночью во время сна. Но и тогда они все время держались настороже и тотчас разлетались, как вспуганные воробьи, в разные стороны, отстреливаясь на ходу из луков. Руки их были тверды, рысьи глазки необыкновенно остры – с сотни шагов по скачущему всаднику промашки не давали.
Поход Аллегат-нойона, однако, проходил не совсем так, как обычный набег. Вот уже третий год подряд татары не встречали должного отпора в Московском царстве, проникали на его земли глубже, чем всегда, и бесчинствовали там не два-три дня, а целыми неделями. И обратно ногайцы шли без бережения, не разбивались на части: русские рати в погоню не пойдут, а от небольших казацких ватаг легче отбиваться объединенными крупными силами. Кош с собой взяли для вящего сохранения добычи, что делали весьма редко.
Дуван и ясырь Аллегатова орда добыла немалый. Правда, мужчин взяли немного, не давались они без боя в полон, прекращали сопротивляться лишь убитыми или тяжко ранеными, а с увечных какой прок? Их тут же приканчивали.
Баб и девок нахватали порядком, вымели дочиста десяток селищ. А вот крепости ни одной не взяли. Не решились идти приступом. Города, как сообщали летописцы, «всеми людми и женским полом крепили и колье, и каменье, и воду носили». Слишком велики были бы потери даже при удаче. В уездах же можно погулять безнаказанно. Зачем на стены под пули, ядра, стрелы и клинки лезть? В набеги за добычей и славой ходят, не за гибелью или увечьем.
…На другой день, отдохнув, орда двинулась в родной улус. Обоз шел в середине колонны. Огромный кош с сотнями палаток, тысячами телег и табунами не в одну тьму голов развернулся в змею походного строя необыкновенно быстро. Кочевники вообще скоры на подъем, а тут еще и повод был хороший – возвращение домой, у одних после удачного набега, у других после скучного сидения в обозе.
Повозку, к которой были прикованы Митяй и Сафонка, загрузили рухлядью мурзы, оставив на ней место для толмача. К телеге прикрепили цепь, к ней привязали кожаными ремнями, словно пескарей нанизали на снизку из прутика, самых отборных полонянников – личный ясырь Будзюкея. Мужчин, бывших в цене из-за их малочисленности, вели отдельно от женщин.
Сафонка доселе не общался почти ни с кем из соотечественников кроме Митяя. Его не подпускали к остальным, а перекликиваться татары запрещали – боялись, видно, заговора. Стражники и теперь следили, чтобы ясырь не болтал, охаживали не в меру разговорчивых ногайками.
Но все же, когда идешь рядом, чаще удается перекинуться словечком, чем на расстоянии в полсотню шагов. Правда, два попутчика Сафонки и Митяя – больше мужиков в полон Будзюкею не досталось – поначалу были неразговорчивые, мрачные. Переживали позор плена, боялись будущего, страдали от сабельных ран – не тяжелых, но обильных. Сафонке и Митяю особо не доверяли – какие-то у них непонятные отношения с мурзой, бог их ведает, что за людишки, лучше держать язык за зубами.
Сафонка и сам стеснялся первым затевать с ними разговор. Неловко ему было: мужики посеченные в плен попали, а он-то сам целехонек. Митяй тоже не лез им в душу, по опыту знал: охолонут от первого потрясения, чуть обвыкнутся, обмякнут, сами пойдут на знакомство.
Так и случилось. Вскоре Сафонка уже знал имена своих новых попутчиков.
Один из них казался спокойным, уверенным в себе, и этому впечатлению не мешали даже его путы и грязная оборванная одежда. Невысокий, коренастый, весь обросший густым волосом, он был налит мышцами, в грудь стукни – загудит, как бочка. Ходил вразвалочку, руки от мускулов топорщились в стороны, бугрились по бокам, силен, видать. Смахивал мужик на медведя чуток, только вот росточком не вышел да ликом благообразнее. Не зря же и прозвище ему было дадено – Ивашка Медведко. Молвил Ивашка немного, да весомо, с каким-то особым говором, непохожим на московский. Более расспрашивал, нежели рассказывал сам. Вопросы задавал Митяю как старшему и знающему.
Сафонке сначала не по нраву пришлось, что Ивашка отнимает у наставника время, которое можно с пользой потратить на латинский язык. Однако спрашивал Медведко о делах важных, интересных, да и самому Митяю доставляло удовольствие делиться своей мудростью, он отвечал охотно и пространно. Ему ногайцы позволяли говорить сколько влезет – видно, не боялись предательства.
Второго товарища по несчастью звали Нечипор Перебийнос. Был он украинский казак, утек на Русь от польских панов годов двадцать назад, еще парубком, да так и прижился. Странным посчитал Сафонка этого маленького худого мужичка с кривыми ногами прирожденного вершника. Уж седатым скоро станет, а ведет себя, аки отрок несмышленый. Балаболка какой-то, бает не переставая, да все без толку, слова языком перемалывает. Одни байки – сказки сказывает, будто не в полоне, а девок на попрядухах [72]72
Попрядухи– обычай, когда в каком-либо русском доме собирали женщин, чтобы те пряли пряжу, которую сами хозяева не могли по каким-то причинам спрясти; гостей за это угощали и развлекали.
[Закрыть]развлекает. И молвит так, что понимаешь с пятого на десятое, язык вроде не чужой да и не свой.
Стражники несколько раз давали Нечипору чику камчами, но на удары плетей, оставлявшие кровавые рубцы на коже, украинец обращал не больше внимания, чем на укусы слепней, – поморщится, скрипнет зубами и продолжает свое. Один раз обозленные ногайцы чуть не забили его до смерти. Да вмешался Митяй:
– За что, багатуры, наказываете одержимого? Он ведет речи, приучающие ясырь к покорству. Беседа сокращает путь – так, кажется, учил ваш великий пророк?
Аманак-десятский, возглавлявший охрану ясыря мурзы, сморщил лоб от умственной натуги. Он не помнил, чтобы мулла когда-либо читал в святом Коране такие слова, но опровергать толмача не решился, опасаясь прослыть невеждой в глазах подчиненных торгутов. Поэтому десятский просто сплюнул в сторону Нечипора и тронул коня вперед. Остальные татары, с сожалением взглянув на ногайки – такого развлечения лишились! – последовали за ним.
– Так-то вот. Свои собаки гложись, ан чужие не вяжись! – тоже плюнул им вслед Перебийнос. – А тебе спасиби, тату, – поклонился старику, – шо спас. За то байку сказить?
– Ан пустобрехству-то пора аминь положить! – встрял в разговор Ивашка. – Поведай лучше, дедко, почему Русь татарву никак одюжить не может?
– Гум! – немало не смутился украинец. – Вот тоби ответ! Пита Грицко Степана:
– Що тебе так давно не було видно? Де се ти був?
– Ге, де? У татарви!
– Чого?
– Воювати ходил!
– А чи зрубав хошь единаго татарюгу?
– А то ж и ни!
– А як же ти його зрубав?
– Да такечки: иду соби полем и брязкочу шаблюкою, а пид вербою лежить здоровенный татарюга и руки розкидав. Ото и пидкрався да из-за вербы йому едну руку и оттяпав шаблюкою, а вин лежить; я йому и другу усек, да вин усе лежить!
– Е, дурний же ти, Степане, – каже Грицко. – Ти б ему голову сек.
– Ге, я и сам так думав, да головы не було.
Хоть сказка была смешная, никто не засмеялся. Пусть первый стыд и боль слегка притупились, истинного веселья полонянники испытывать не могли. Однако на душе у всех стало легче. На Сафонку повеяло чем-то далеким, домашним, словно батюшкин конь-савраска прибежал из ушедшого навеки детства, ткнулся в плечо теплой мордою с бархатными ноздрями. Ивашке понравился безголовый татарюга: всех бы их так, богом проклятых!
Митяй пристально посмотрел на сказителя:
– Ой, не прост ты, чадо. Мастер великий загадки загадывать. К чему бы только? Поганые в конце концов все равно тебя прикляскают [73]73
Прикляскать (рус.) – прихлопнуть.
[Закрыть]до смерти за язык длинный.
– Гум, тату. Мини мати кильки раз кажувала, шоб на ричку не ходив: «Ну, курвин сын, дивись, як утопнешь, так и до хаты наилепше не вертайсь!».
– Опять ему про Фому, а он про Ерему! – не отступал от своего Ивашка. – Что ты все пустельгу болтаешь, Нечипор, старого человека от умной беседы отвлекаешь. Ответствуй, дедко, на мой вопрос, добром заклинаю!
– И-и-и, сыне. Как же не может Русь татар одюжить! Орде Золотой, помнишь, каюк пришел? А позжей при царе Грозном юртам Казанскому, Астраханскому да Сибирскому? А как не раз крымцы да ногаи бежали от нас с великим срамом и телеги, и всякие рухляди бросали…
– Руки мы татарве усекли, – сказал Нечипор раздумчиво, – а голову видтяпать нияк судьбина не иде. Крым – тая голова!
– Не так молвишь, Нечипор. Поганые – яко Змеище о шести головах. Богатыри русские четыре башки ему отшибли, две остались! Ногайскому улусу, правда, вязы свернуть легко, ан царь татарский не дает. А Крымом завладеть важко: и далек локоток, и не укусишь!
Мотри сам: до Казани, Астрахани легко доплыть по Волге. До Крыма же сотни верст пехать по степям безлюдным, а ежли еще тащить обозы, гуляй-город с нарядом огневым [74]74
Гуляй-город с огневым нарядом – подвижное возовое укрепление с артиллерией, которое успешно применялось против кочевников.
[Закрыть]– гибельное дело! Инде ладно, дотопали, а там – перешеек укрепленный. Перекоп называется. В лоб его одолевать – себе дороже.
Стороной же обойти никак – Гнилое море обочь.
Дале: Сам Горыныч в логове неприступном укрылся, не выкуришь его оттуда, так ведь мало того, ему помогает еще Кащей Бессмертный – салтан турецкий. Единачество всех татарских юртов – Крымского, Казанского, Астраханского и Ногайского – турок издавна сколачивал, да не вышло. Таперя хана поддерживает, янычаров ему присылает, пушки-арматы, порох, харч.
И еще союзников Крым нашел: ляхи на нашу отчизну давно зарятся, аки вороны алчные на кровь! Очи завидущи, руки загребущи, берут завидки на чужие пожитки, сосед спать не дает – хорошо живет!
– Как же так, отче, – возмутился Сафонка, – ить поганые-то и крулевские, и литовские земли зорят?
– Неисповедимы пути господни, сыне. Ведаешь притчу о человеце некоем, коему Никола-угодник обещал дать все, чего душа восхочет, при условии: соседу сделает вдвое против того. Грешник сей великий пожелал, дабы святой изъял у него одно око! Отсюда и пословица пошла: завистливый своих глаз не пожалеет.
Вот до чего жадность доводит, до боя между братьями даже! А Крыму вражда наша с Речью Посполитой наруку: обоих грабит. Правду в народе бают: кто чужого желает, свое потеряет.
Ну, верно, и сама орда не слаба, до пяти туменов в поле выставляет, а ежли еще иных орд и земель прибыльные люди под бунчуки царя крымского встанут – вдвое большее полчище на Русь грянет. И состоит войско то из добрых ратников. Сами ведаете, для поганого что кочевье, что поход – один быт, привычный. Жизнь степная с младости, с материнской титьки приучает к лишениям да трудностям! И порядок воинский у них отменный, царевичей и мурз, кои роды возглавляют, родовичи вельми высоко ставят, во всем слушаются, в атаку по единому мановению руки кидаются. От того и конница у них славная, много веков непобедимой бывшая.
– Тебя, дедко, не понять: то они непобедимы, то мы. – досадливо поморщился Медведко.
– Они были, мы – есть. А почему – про то не скажу, не воевода я, хотя показаковал немало.
– Батюшка мой покойный горазд был в науке ратной, – рек, сам удивляясь своей смелости, Сафонка. – Он, бывалоча, пояснял братьям и мне про поганых. Да Ахметка, холоп наш из ногайцев, многое сказывал. Татары четыре века назад всемогущими слыли, потому что у них и оружие, и порядок, и строй ратный, и уклад походный, и орудья стенобитные, и хитрости на поле сражения лучшие в мире были. И на белой кошме они подняли как владыку над собой воителя великого Чингиза, коего мудрее в деле бранном человека не родилось. Того державца нукеры боялись пуще ворогов. За единого бежавшего из боя он всему десятку хребты ломал, посему отступать из них никто помыслить не смел.