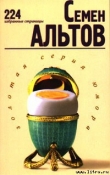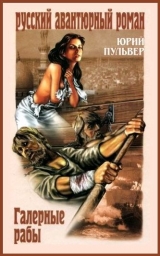
Текст книги "Галерные рабы"
Автор книги: Юрий Пульвер
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Благодарю вас, наставник, и простите, что перебил…
– Ничего, не стесняйся спрашивать про непонятное. Слова кончаются, а смысл бесконечен…
– Скажите, в чем суть цюань-шу?
– Древние излагали ее так: умей ходить, умей наступать, умей быть мягким и твердым, будь недвижим, как гора, неисчерпаем, как Небо и Земля, непостижим, как действие стихий, преисполнен всего, как кладезь мироздания, безбрежен, как четыре моря, просветлен, как сияние всех светил. Главная же заповедь гласит: перенять метод легко, превзойти метод трудно. Но превзойти метод – это прежде всего.
Южная Африка, 1603 год
Ндела отвлекся от воспоминаний и поднял тяжелый взор на спокойно стоящего перед ним зятя.
– Так ты отказываешься добровольно дать себя умертвить?
– Отказываюсь! Хрупкие птичьи яйца в камни не заворачивают! Я сын могучего короля, который подвергся испытанию ядом и доказал, что я не колдун и никогда им не буду! Я не подвластен ничьим чарам и не могу делать плохо!
– Что мне до твоего бывшего отца! Сейчас ты – зулу и обязан повиноваться нашим законам. Мы тебя принудим силой!
Мбенгу, как в битве, раздул широкие ноздри и оскалил огромные белые клыки.
– Вы занюхали, как колдунов, лучших щитоносцев, только и способных со мной сражаться – и то лишь впятером против одного. Недоноски, оставшиеся в живых, которых ты считаешь защитниками племени, еще не выросли в настоящих мужчин и без меня никогда не вырастут. Кто помешает мне, о Ндела, сейчас прикончить тебя одним ударом копья, вспороть живот Тетиве и убежать? Я пробегу целый день без отдыха. Посплю ночь и снова буду бежать дотемна. Зулу меня никогда не догнать! Угрожать мне, Могучему Слону, съевшему на войне [85]85
Есть в воинском строю – убивать.
[Закрыть]сорок шесть неприятельских силачей, убившему на охоте трех львов и двух носорогов! Хватает у вас смелости, дети гиены и шакалихи! Забыли мудрость собственных предков: если ударить льва, самому будет больно! И решили уподобиться легкомысленной овце, погладившей по шее леопарда.
От страха у Нделы свело челюсти: безумный великан вполне способен сотворить обещанное. Мда, если ты растишь змею, то кусаться она научится на тебе.
– Чего же ты желаешь, о Могучий Слон?
– Открыть зулу глаза на причины гибели моих друзей!
– Почему до казни не сделал ты этого?
– Чтобы между сильными в племени и родичами казненных легла кровь!
– И не жалко тебе твоих любимых щитоносцев?
– Баобаб свидетель, что я, как рыба костей, полон сожаления за их бессмысленную гибель. Но они – воины и умерли во имя славного будущего своего племени!
– И ради того, чтобы ты повел зулу к этому будущему? Что ж, открой глаза народу, – невозмутимо обронил вождь.
– О, приютившие и усыновившие меня! Не о вашем благе думал Ндела, посадив на колья Мпеле, Дингисвайо, Нксумало, Матубене и других наших братьев. За свою власть дрожал он. Не хотел, чтобы с каждой луной прибавлялось скота в ваших загонах, чтобы каждой ночью в ваших объятиях трещали кости новых молодых девственниц из побежденных племен. Ведал Ндела: не удержится он на почетном месте у циновки совета, отдадите вы власть тому, кто принес вам богатство. Мне! Он убил ваших родичей, моих друзей, дабы они не помешали ему и Тетиве расправиться со мной!
Зулу молчали.
– О племя мое! – сказал Ндела. – Куда тащит вас чужой человек? Воюя день и ночь, мы вызовем против себя гнев окрестных народов. Они войдут в союз против зулу и убьют нас всех до единого. Этого ты хочешь. Мбенгу?
– Мы разобьем врагов по одиночке до того, как они объединятся!
– Как же ты сотворишь чудо: чтобы сотни одолели тысячи?
– Превратим племя в войско! Примем к себе сильных мужчин и юношей из покоренных народов, обучим боевому искусству и пошлем сражаться за нас! Избавимся от тех, кто не способен носить щит и даром ест! Мы станем непобедимыми!
– Хотите ли вы, о зулу, пожертвовать скукой мира ради того, чтобы превратиться в большое импи, жить в постоянном страхе перед местью побежденных, в великой опасности завтра пасть в сражении? Хотите ли убивать стариков и больных, которые не могут держать копье? Хотите ли все время видеть лишь красный цвет крови, по обычаям нашим считающийся несчастливым? Хотите ли стать такими, как этот злой слон, надутый жадностью и властолюбием? Зачем тебе еще скот, о Мбенгу, ты же не выпьешь до конца жизни молока даже тех коров, которые у тебя уже есть? Зачем тебе новые наложницы, ты же не сможешь один удовлетворить сотню женщин?
– Не о себе пекусь я! У меня есть и стада, и жены, и слава! Для народа, приютившего меня, ищу я счастье и богатство.
– Нужно ли нам изобилие такой ценой, о зулу?
– Нет! – прогремел голос толпы, подобный реву шквала.
Лицо Мбенгу омрачилось.
– О глупые ленивые зулу! Пьяный петух забывает о ястребе. Неужели не видите вы, что слишком слабы, чтобы встретить достойно грядущие напасти? Я не ведаю, когда. Я не знаю, откуда. То ли с берегов соленого озера нагрянут белые и меднотелые пришельцы. То ли у сиколобо, нгване, хауса появится свой Мбенгу, который станет не уговаривать, а ломать хребты, захватит власть и объединит народы этой земли в единое королевство, где будет законом лишь его воля. Истинно говорю вам: придет мфекане, всеобщее ужасное разрушение, распад привычного, уничтожение того, что есть! Я стремлюсь сделать вам день, почему же вы, неблагодарные, хотите сделать мне ночь? Почему не даете мне подготовить вас к грядущим бедам? Почему не слушаетесь моего совета самим возглавить мфекане, пока оно не пришло в ваши жилища извне?!
Зулу безмолствовали.
– Придет или нет мфекане, никто не знает заранее, – пожал плечами Ндела. – Лишь люди обманутые, крепкие задним умом, твердят: вот бы обо всем ведать наперед. Зачем же гадать про то, что может не сбыться. Не в обычаях зулу заботиться о далеком будущем. Верно ли я говорю, племя?
– Байете! – вскричали зулу, приветствуя вождя королевским салютом, и трижды топнули ногами.
Оружие дрогнуло в каменных ручищах Мбенгу.
– Не станем мы тебя казнить. Могучий Слон, раз не хочешь избрать себе легкий путь. Недостоин ты жить вместе с нашими предками. Вдруг вознамеришься и на небе готовиться к мфекане, начнешь там собирать импи. Сними с себя обряд усыновления и ступай прочь через любой из девяти выходов. [86]86
Зулусская деревня имела девять выходов – по числу естественных отверстий человека.
[Закрыть]Давай вместе очистимся. Тебе разрешается взять лишь оружие и запас пищи, скот и жены останутся, – торопливо добавил вождь.
До него вдруг дошло: если сын надолго уезжает, отец становится мужем его жен. Но у Мбенгу нет отца, его женщин заберет себе вождь. А Нанди можно будет вторично выдать замуж. Десятки мужчин станут оспаривать честь взять на циновку дочь вождя, к тому же беременную от Могучего Слона. Не все ли равно, чей бык покрыл твою корову, раз приплод останется в твоем стаде, учит мудрость предков. При мысли о том, какую лоболу он возьмет, у Нделы пересохло во рту.
…Для ритуального заклания тельца оба разделись догола. Животное выбирали очень тщательно: от его совершенства зависели духовная безопасность рода, вождя и действенность обряда.
Жертвоприношения совершает лишь старший в семье, общине, племени. Много значит возраст, еще больше сан. Старость и высшее положение в народе делают индун и вождя, особенно последнего, наиболее близкими к духам. К тому же и рядовой старейшина, и король ведут свое происхождение от вождей предков.
Раз вождь стоит ближе других к потустороннему миру, раз в силу происхождения он связан с божественными обитателями небес, значит, он посредник между людьми, природой и сверхъестественными силами. Такое посредничество означает, что каждое движение вождя, жест и поступок, слово и мысль имеют непредсказуемый отзвук и в мире божеств, и среди людей. Во время войны вождь может одним непродуманным движением обречь свое импи на поражение, уничтожить будущий урожай во время сева. Его нездоровье способно отозваться вспышкой эпидемии.
Столь непредсказуемы последствия его могущества, что подданные должны создавать ритуальные способы защиты от случайных последствий его неосторожности или от колдовских действий, направленных против него. Одним из них является приношение жертвы…
Лужа крови растеклась по земле, в воздух поднялась пыль, взбитая копытами агонизирующего телка, засверкали ножи свежевателей – и участникам церемонии торжественно поднесли бычий желудок. Ндела и Мбенгу с ног до головы обмазались теплым химусом – пищевой кашицей. Зеленоватая густая смесь, содержимое желудка в конце пищеварительного процесса, почиталась дарительницей жизни. Очиститься ею означало приобщиться к бессмертию.
Мбенгу надо было не просто избавиться от грехов, но и сбросить незримые священные путы, которыми оплел его свершенный три года назад обряд усыновления. Тут требовалось еще более могущественное волшебное средство – желчный пузырь жертвенного животного. В маленьком мешочке размером с детский кулачок, прикрепленном к печени, содержалась драгоценная жидкость, символизирующая саму жизнь, горькая и кислая, как вкус смерти.
Сосуд, где она хранилась, имел форму женской матки, первого жилища, откуда вышел весь род людской. Напоминал желчный пузырь и улееподобные хижины, где обитали люди свой недолгий век, и могилу, где обретали они последнее пристанище. Словом, все бытие человека, от зародыша до трупа, скрывалось в зачатке внутри маленького отростка плоти.
Желчь выдавили на Мбенгу, он освятился магической слизью, размазав ее по телу. Пузырь отдали Тетиве: ведунья высушит его, надует и будет носить на поясе или привяжет к спутанным волосам, как приличествует охотнице за колдунами.
Зулу со страхом, некоторые – с тайным сожалением следили, как Мбенгу отдаляется от рода, превращается из своего в чужого, гораздо более далекого, чем даже мертвец. Нонсизи горько рыдала, шепча дорожное напутствие: «Пусть не ужалят тебя ни змея, ни скорпион, могучий владелец кустарников. Убереги, судьба, твои ноги от порезов. Пусть дети будут укладывать в землю своих отцов, а не отцы детей. Да сопутствует тебе удача…»
Она обожала приемного сына. Мбенгу относился к ней, как не всякие родные дети относятся к матерям, возвысил ее среди женщин племени. Теперь ее ждали падение и прежняя жалкая участь одинокой бессемейной старухи, которой лишь из жалости кидают обглоданную кость с недоеденным кусочком мяса. Ведь все богатства Мбенгу наверняка заберет себе вождь!
Но не о хижине, не о коровах, не об утерянных невестках-помощницах, не о том, что лишилась кормильца, плакала Нонсизи. Ее страшила судьба сыночка, так неожиданно приобретенного и так быстро и жестоко утраченного. Почему, ну почему он не дал забить себе колышки в зад?! Тогда Нонсизи вскоре присоединилась бы к нему в небесных краалях. А что ждет его теперь? Зулу способен жить только в общине, наедине с собой он теряется. Быть изгнанным из рода для него – хуже смерти. Человек в одиночестве – что катышек птичьего помета перед бескрайней саванной, безграничными джунглями. Его растопчет даже стадо слабых антилоп, спящему перегрызет горло шакал или гиена. Что уж говорить о владыках леса, степи и воды – леопарде и льве, носороге и слоне, буйволе и кабане, крокодиле и бегемоте, питоне и мамбе! Кто спасет его от злых духов, неприкаянно бродящих ночью за пределами селений? Как сможет изгой жить без общения с людьми, без повседневного мудрого руководства со стороны предков, без указаний вождей, без защиты ворожей? Человек на родине – все равно что лев в саванне или крокодил в реке, человек на чужбине подобен земле без семени. Даже змея не забывает своей норы.
А самое главное, куда он денет себя после смерти?
Мбенгу же не боялся одиночества, держал голову высоко, как всегда. Он взял с собой щит, два больших копья, четыре ассегая, ножи и топоры, кожаные мешки для еды и воды.
Даже он, отверженный, не имел права уйти, пока Ндела не подвергся иХламбо – древней очистительной церемонии. Изгой обязан быть на виду, чтобы не чародействовал против вождя, еще не защищенного обрядом.
Была устроена охота, в которой воины убили стадо антилоп и омыли оружие в их крови, призывая духов избавить страну от уМниамы. Все это время Тетиве и ее помощницы готовили волшебное снадобье. Старшая ворожея вышла на скотный двор и зажгла костер, огонь которого означал начало новой эры в жизни племени.
Потом ведуньи и колдуны сделали инкатху – магическое травяное кольцо, символ единства и силы зулу.
На толстую травяную веревку – кольцо диаметром полтора локтя навешали множество талисманов: телесную грязь вождя и его ближайших родственников; кусочки, отрезанные от дверного порога; соломинки из его хижины; образцы земли или вообще всех поверхностей, на которые ступал, до которых дотрагивался и особенно те, на которые испражнялся Ндела; кусочки его рвоты и кала; катышки идиби-мусора, собранного вдоль дорог и в краалях соседних вождей; какие-то еще амулеты, чье значение было известно лишь посвященным.
Готовую инкатху завернули в траву умтаники, далее в большую кожу питона. Тетиве освятила ее, моля духов даровать кольцу величайшую силу отвести любую опасность и защитить вождя и племя.
Ндела вступил в центр круга, его тело обмазали желчью. Окружающие в этот миг воздавали ему хвалу. Вождь опустил кончики пальцев еще в одно зелье, состоящее из двух десятков различных трав, коры деревьев и кустов, жира антилоп, хищников, змей и людей. Слизав черную кашицу с пальцев, Ндела обрел сверхчеловеческую мощь: никакие чары ему стали не страшны.
Он вышел из кольца питоньей кожи, и народ приветствовал его возгласами:
– Байете! Нкози! Да здравствует! Вождь!
Настала пора для Мбенгу прощаться с племенем.
Великан подошел к своей бывшей семье. На младших жен не взглянул, взял руку Нанди и прикоснулся кулаком к ее ладони [87]87
Во многих странах Африки поцелуй до сих пор считается негигиеничным жестом. Выражение любви – коснуться кулаком ладони девушки.
[Закрыть]отчего та вздрогнула, как от ожога. Она и не подозревала, что муж любит ее!
– Пусть сын мой, которого я никогда не увижу, войдет в семью хорошего воина, плохому свое тело не отдавай! И пусть он узнает, кем был зачат, когда возьмет в руки копье. Если родится дочь, требуй за нее лоболу не меньшую, чем я заплатил за тебя.
Обернулся к Нонсизи:
– Не плачь, о бывшая мне матерью. Не бойся за меня, моими костями ещё не скоро заиграют шакальи щенки. Ндела оставит тебе четвертую часть моего стада, хижину и одну из младших жен, чтобы та ухаживала за тобой. Все это тоже достанется ему – но лишь после того, как ты уйдешь к Тем-Кто-Счастливее-Нас. Вождь дает в том слово?
Ндела торжественно кивнул, и у Нонсизи чуть полегчало на душе: вождь никогда не нарушит обещания, сделанного при всем племени.
С бывшим тестем Могучий Слон прощаться не стал, обратился к народу:
– Живите долго, я не таю на вас красного зла, о глупые зулу, которые отказались от величия! Не отсидеться вам в хижинах, не забыться истомой на лонах жен, не спастись от мфекане. Как ураган, оно падет, разрушит и ваши владения, и вас самих.
С этими словами он покинул племя и память зулу.
Взгляд из XX века
К несчастью, подтвердилась мудрость далекого от зулу народа: «Нет пророка в своем отечестве». Прав в конечном итоге оказался милитарист Мбенгу, а не его миролюбивые противники.
Мфекане (так называют этот исторический процесс или эпоху сами африканцы) грянуло ровно двести лет спустя описываемых нами событий, в начале девятнадцатого века. Юг континента потрясли завоевания «африканского Наполеона», основателя зулусской нации Чаки. Этот чернокожий гигант унаследовал от своих далеких предков внешность, размеры, буйность, доблесть, телесную мощь и полководческий гений Мбенгу, хитрость, жадность и государственную мудрость Нделы. В соединении с непомерным честолюбием и фантастической кровожадностью эти качества образовали человеческий динамит, который взорвал старые устои на кусочки.
Чака (имя означало уничижительное «жучок, обитающий в женском чреве») был изгоем из собственного племени. Ему удалось захватить власть над зулу. Он провел военную реформу, подобную той, которую пытался осуществить Мбенгу, но пошел гораздо дальше своего пра-пра-прадеда. Противников Чака не уговаривал: приказывал сворачивать им головы так, чтобы лицо смотрело назад.
Начав завоевательные походы с небольшим отрядом в триста воинов, он за десять лет покорил солидную часть материка. По площади королевство зулу увеличилось в тысячу, по населению – в две тысячи, а по исторической значимости. – возможно, в сто тысяч раз!
Эстафету мфекане перехватил из рук Чаки, ставшего жесточайшим тираном и убитого собственными братьями, еще более кровожадный Мзиликази, повелитель племени матабеле. Его полчища шествовали по саванне, подобно колонне кочующих муравьев, все уничтожая на пути, не оставляя за собой ни единого живого существа, ни одной целой хижины.
Затем явились белые завоеватели – буры, англичане и навели колонизаторский «порядок» в ослабленной мфекане стране – аборигены не сумели оказать им должного сопротивления.
Впрочем, это уже тема для другого рассказа.
Дикое поле, сентябрь 1604 года
Побег сотворить – вот какая мысль одолевала всех казаков, хотя возможность его, считал Сафонка, с каждым днем становилась все меньше и меньше по мере того, как удалялись полонянники от дома.
Шли по колючим травам босиком – татары сапоги у всех отобрали, счастливцами оказались лишь обутые в лапти. И тех-то было не столь много. Девки да бабы крестьянские летом без обуви бегают. Но казак без сапог да портов, кожей обшитых по внутренним сторонам штанин, на коня не сядет – жара не жара. Пот лошадиный так кожу разъест, годы потом чирьями маяться будешь.
Топтали Дикое поле русские ноги под скрип несмазанных тележных колес, ржанье, веселое татарское повизгивание да женские стоны. Передние ряды лишь приминали ковыль, средние выкорчевывали пятками его из земли, а последним приходилось уже глотать пыль выбитой сакмы.
К вечеру ногайцы развертывали лагерь, зажигали костры из припасенного кизяка, собранных веток и сухой травы, резали скот на ужин, вешали прокопченные казанки над огнем. Поступали вопреки всем своим воинским обычаям – ведали твердо, что погони опасаться не надо.
– Как у себя на подворье хозяйничают, – мучились мыслями нелегкими бывшие ратники.
Ясырю на прокорм давали небольшие куски свежины – полупрожаренной говядины или конины, кою русские дома не потребляли, чашку айрана. Воды – лишь несколько глотков. Кочевники везли ее в бурдюках, им самим едва хватало, а источники попадались редко. Кумыс же готовили на ходу, кобылиц в табуне имелось множество. Только и успевали наполнять сабы – кожаные мешки – свежим пенящимся напитком. Изредка пленникам подкидывали сухарей и соленой свинины из запасов, отбитых у жителей украины. Мусульмане сами брезговали мясом нечистых, запрещенных Кораном животных, но не выбрасывали его, скармливали полону. Есть-пить давали дважды – утром и вечером. Привалов, кроме ночных, не делали. Оправлялись татары на ходу, ни от кого не скрываясь – как и в лагере, кстати. Пленники вынуждены были делать то же самое.
С наступлением темноты поганые привязывали ясырь, выставляли караульных, пили кумыс и укладывались почивать, взяв русских женщин к себе на кошму. В лагере наступала тишина – неспокойная, тревожная. Ее часто нарушали бабий плач и визгливый вопль татарина, перемежаемые ударами ногайки, конское ржание, топот внезапно подскакавшего отряда, который вернулся из разведки.
Пленные, уставшие от многоверстовых переходов, спали беспокойным сном, стонали, с криком пробуждались от кошмаров и мышечных судорог, от воспаленных мозольных волдырей и царапин на ногах.
К Сафонке каждую ночь приходил покойный отец, беседовал, как живой. И сыну мнилось во сне, что произошла ошибка, что батюшка остался на свете белом, и сердце парня радостно билось. Вдруг уши резал рассветный призыв муэдзина, поднимавшего правоверных на утренний намаз. Сафонка вскакивал, как ошпаренный кипятком, и суровая жизненная правда била его промеж глаз так, что виски пульсировали: батюшка твой мертв, мертв, мертв, а ты сам раб, раб, раб…
Дни становились короче и мрачнее – не только потому что близилась осень. Зима лютая выхолаживала души пленных, делала даже светлый полдень чернее полуночи, когда они думали о том, что каждый час, каждый шаг, каждое утро и вечер уводят их все дальше и дальше от сторонушки родимой.
Угрюмо молчал Ивашка, Сафонка старался забыться от дум, усиленно зубря латынь. Нечипор, казалось, истощил запас баек. Сдал даже допреж не падавший духом Митяй, ан все равно пытался подбодрить свою ватажку.
– Нет худа без добра. Возрадуйтесь, чадушки, что медленно идем. Когда я впервой в полон попал, нас так гнали, что половина людишек от истощенья перемерла в дороге. А мы-то шагаем неспешно, степенно…
– Прости ты меня, дед, что старость твою позорю, да только терпежу нет! – взорвался Ивашка. – Типун тебе на язык! Что ж эт ты такое несешь?! Чему ж радоваться?! Тому, что татарюги не боятся погони, оттого и не торопятся, дабы ясырь в целости сохранить и повыгодней продать?! Тому, что у нас надежа последняя отнята: прискачут братья-казаки али конные дворяне государевы да отполонят?! Или ты по-прежнему веришь, будто мы из рабства спасемся? Так ты сказки ребячьи Сафонке рассказывай, он зеленый еще, хоть и вымахал на сажень росту. А я стреляный чижик, меня на мякине не проведешь. Много ты их, утеклецев из Крыма альба Туретчины, видал?
– Аз есмь…
– Так ты ж единый! Да и неведомо никому, как ты уйти сумел. Небось обусурманился, вот тебе и послабление сделали. Ты и задал стрекача, как случай выпал!
Митяй потупил седую голову:
– Был грех, да мне его отчитали, епископ самолично отпущение дал, ведь от веры Христовой я лишь для вида отрекся.
– Ан все равно судьбина-то у тебя особливая, – не сдавался Медведко. – Тьмы тем полонянников русских на чужбине сгинули, а вот один такой выискался. Всюду вхож, как медный грош. Только и ты живот свой в неволе кончишь! Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сложить!
– Что эт ты раскаркался, аки ворон черный? «Ищите и обрящете, толците и отверзется вам!» – в святом писании говорено. Коль захощешь сильно дом родной увидеть – с края земли на карачках доползешь. Котище вон, куда его ни завези, через сотни верст дорогу к печке знакомой отыщет! А человек куда разумней животины. Если ж ты не веришь, что от татаровей сбежишь, зачем идешь в ярмо, аки бык с кольцом в ноздрях?
– Пока жива хоть слабая надежа, что свои отполонят, и я живу. Как надежда кончится – и я со света белого сгину!
Ивашка говорил спокойно, размеренно, но в его словах ощущался внутренний жар и решимость. Дед недоверчиво покачал головой, однако спор прекратил и сменил тему:
– А кажись, чадушки, седни Семенов день. Новый год, [88]88
До 1700 года на Руси Новый год отмечали 1 сентября – в Семенов день.
[Закрыть]ежели я в счете не ошибся. Лето на осень повернуло, а мы уж две седмицы идем. Знать, полпути одолели…
Степь становилась ровнее, засушливее, сочная яркая зелень сохла и желтела. Потом зачастили дожди – мелкие, моросящие, противные. Ноги разъезжались в скользкой грязи, телеги вязли. Ход обоза замедлился, и ногайцы стали сильнее понукать пленных, сокращать ночные стоянки. Им хотелось скорее продать дуван в Азове и вернуться в улус. Аллегат с основным войском отъехал к летовке – летнему степному кочевью князя Иштерека, поручив Будзюкею, оставшемуся снова в голове коша, продать свою долю. Нойон любил бывать в больших городах лишь при взятии их штурмом и разграблении, а так и духу их не переносил, как, впрочем, и многие татары.
Долго ли, коротко, а добрели, наконец, до какой-то речки и стали лагерем. Когда на следующий день обнаружилось, что татары не собираются трогаться с места, Митяй вздохнул:
– Прибыли, значитца. Татарский град Азек-тапа, Азов по-нашенски, в едином переходе отсюдова. Таперя нам в порядок привести себя дадут, чтобы товарный вид имели. Не спеша за денек до гнезда разбойного добредем – и на рынок рабий.
Ивашка с Нечипором переглянулись.
– Пора побег творить! – неожиданно выпалил Медведко.
– Поздно надумали! Надо было утекать, когда отчизна неподалеку оставалась, – ответил ошеломленный неожиданной вестью Сафонка.
– Худо мыслишь! Куда б мы делись? Полчище ногайское по всему украинному краю разбрелось, нас бы немедля поймали. В коше караул свежий был и за нами недреманным оком следил. И табун там имелся большой. А главное, мы-то сами ранены были.
– Что ж таперя изменилось?
– Что-что! Все! Орда в улус вернулась, дорога домой свободна. Кошевая охрана устала, ее кони тоже притомились. Нет боле табуна, откуда можно сменных лошадей взять, – Аллегатовы людишки с собой на кочевья забрали. Раны наши затянулись. Хэвтулы караулят нас с небрежением великим, никто в голове не держит, что ясырь решится бежать из-под Азова. Вон Исупка и иные стражи по ночам «дурь» курят, потом дрыхнут…
Сафонка во время ночевок и сам не раз видывал, что некоторые нукеры тайком от мурзы баловались зельем дурманным. Он знал, как добывается «дурь». По полю цветущей конопли гоняют лошадь до устали, покуда пыльца не налипнет на конский пот. Пену с боков соскребают, сушат, а потом мешают с табачищем и курят дым из трубок. Шибает в голову почище зелена вина!
– Как темь грянет, – продолжал Ивашка, – мы ремни свои перервем. К лошадям караульным подкрадемся – они оседланные денно и нощно стоят, на желях [89]89
Жели (татар.) – волосяные арканы, натянутые между юрт, к ним привязывались кони.
[Закрыть]нанизанные. Снимем стража, бахматов из табунца запасного коих распугаем, коих покалечим, коих с собой погоним для смены.
– А про коней русских, что для торгов предназначены, забыл? Погоня ведь на них может поскакать, а всех ты не разгонишь, множество их и в разных местах пасутся.
– Вятки супротив бахматов в поле чистом под верхами слабы, не угонятся. И пока оседлают их, время уйдет.
– А коль в охлюпку поскачут?
– Что без седла, что с ним татарин едино хорошо ездит. Но, верно, воевать, стрелы пускать с хода в таком разе едва ли сможет. К тому же ногайцы навряд ли последуют далеко за двумя-тремя беглыми: и устали, и торги скоро, а кто ж упустит возможность самому дуван свой продать? Если б многие утекли, тогда другое дело…
– Оружье где возьмете?
– Эвон на возах сколько навалено: бабы-ясырки чистят его, готовят для продажи. Пищали, конечно, нам не взять, а сабли с луками добудем.
– Как насчет кормов?
– Лошади лишние, как от погони ускачем, на мясо пойдут. И охотиться станем.
– До отчизны доберетесь ли?
– Нечипор в станицах не единожды казаковал, следы читать да по звездам ходить навык. И до Руси добраться наука невелика: днем солнце обочь держать, так на сторону северную и выйдем. В леса попадем коли, я мастак, выведу из любой чащобы. И сторожа засечные, если встретим, помогут.
– Хитро! А вдруг все ж поймают?
Ивашка пожал плечами. За него ответил Нечипор – как всегда байкой:
– Един раз зимой йихал по ричке Грицко на санях. Ан лошадь заартачилась та и кинулась с дорожци у сторону. Грицко за нею и тильки примерився батогом стебануть, як вона в майну [90]90
Майна (укр.) – полынья.
[Закрыть]провалилась и пийшла пид лед. «Ну, моли бога, шо сгибла, – загаркал Грицко, – не то б я тоби бока нахлестал-то!».
Сафонка слушал его вполуха, облизывая вдруг сразу пересохшие губы: судьбина нежданно-негаданно подарок поднесла – от ярма возможное избавленье.
– Пойдешь с нами? – спросил Ивашка. – Двум смертям не бывать, одной не миновать. Не верю я, что ты из Туретчины утечь сможешь, отсюдова легче.
– Крест я целовал Будзюкейке. – простонал Сафонка.
– Дак тебя любой поп от крестоцелованья освободит, – настаивал Медведко. – Не добром ведь соглашался, принудил угрозой тебя самого казнить и отца непогребенным оставить.
– Только епископ такой грех отчитать способен, – уточнил Митяй.
– Да хоть сам патриарх! – гнул свое Ивашка.
– Спаси вас бог, братцы, родные, не могу я, – заплакал Сафонка. – Мне куда ни кинь, везде клин. При удачном побеге даже, пока в степи ехать буду, пока до епископа доберусь, батюшка мой из могилы восстать может. Отходная-то молитва силу потеряет до тех пор, покуда с меня клятву не снимут. А коли убьют при попытке бежать, грех и на мне, и на батюшке останется.
Все вытирали слезы со щек.
– На горе свое злосчастье правду он глаголит, – печально сказал бывший поп. – И Сафонка, и отец его покойный спасенье обретут, лишь когда Будзюкейка перестанет быть его хозяином. И коли Сафонка не даст себя сломить, не обусурманится. Нельзя ему бежать с вами, и помогать вам нельзя. А мне можно! Я, слава Богу, клятвой не связан. Тем боле, не впервой мне, в четвертый раз побегу из полона. В замысел твой хитрость привнесем. – повернулся он к Ивашке. – Я нож с воза стащу, да подпрыгаю с ним к стражу, да пощекочу его лезвием маленечко, аки перышком гусиным. Глядишь – и уснет поганый сном вечным. Сей же миг вы, соколики мои, тихохонько к комоням [91]91
Комонь (рус.) – конь.
[Закрыть]оседланным подбирайтесь. Медведко возьмет четырех из них в повод и ко мне подведет, вот мы каждый одвуконь и поскачем. Ты, Нечипоре, аркань всех остальных седлованных лошадей. На сниску привяжешь и с собой погонишь. Оружье должно на каждом бахмате, на коего сядем, быть приторочено, такой запас горба не тяготит. Тут самое опасное – чтоб другие караульные сполох не подняли. К переступам конским татарове привычные, комони у них свободно по кошу бродят.
Все вместях ринемся разом с криком и гамом великим к табунцу запасному и погоним его перед собой. Скакуны те далеко утекут. Кои татарове и поймают, не страшно. В охлюпке, ты верно размыслил, поганые не столь страшны, а пока лошадей заседлают, мы уже далече будем.
Только дело это надо спроворивать не в начале ночи, а часа за четыре до рассвета, когда разоспятся нехристи особенно сладко и тьма еще черным черна – она от погони укроет.
– Так ведь по следам пойдут! – вздохнул Сафонка.
– По каким? Тропок-то конских натроплено много будет, коли табунец запасной в разные стороны разбежится! Поди узнай, на каких именно бахматов беглецы сели! И мы поперва порознь утекать будем, чтоб сакмы не выбить. За двумя только зайчишками погонишься – и то ни единого не поймаешь, а тут вона сколько зайчиков… Только нас поганые и видели!
Сафонка не был так уж уверен в успехе. А что если кто-то из татар будет бодрствовать? Или Митяй не сумеет без звука зарезать стража?! Или мурза хитрость придумал, ожидая возможных побегов, устроил конные засады по пути на север? Слишком много «но», «если», «а вдруг»… Вот только какой иной выход можно предложить?
– Не переживай за нас, – подтолкнул его легонько плечом Медведко (не были б руки связаны, хлопнул бы по спине). – Авось пронесет…
Лишь пала тьма, Сафонка расцеловался с товарищами троекратно (обняться или пожать длани друг другу не могли), но так, чтобы никто не заметил, особливо охрана. Лег к телеге лицом, долго ворочался, желая заснуть, да дрема никак не смаривала. Повернулся к костру, у которого сидел хэвтул (в ту ночь это был Исуп-багатур), стал наблюдать за ним.