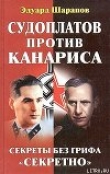Текст книги "Занавес приподнят"
Автор книги: Юрий Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 43 страниц)
– Кто вас просил об этом?! Такое придумать: копать могилу, когда человек еще жив! Ужас!
Шамеса это обидело.
– Что значит, кто нас просил?! – возмутился он, выйдя с напарником на улицу. – Как будто мы хотели, чтобы парень умер! А она знает, что есть обряд? Ей, конечно, на все это наплевать! Ну а если бы холуц таки-да преставился? Тогда что? Подумала она, что завтра праздник, послезавтра – суббота? Пусть попробует в такую жару сидеть дни и ночи напролет с разлагающимся покойником… Хэ! Думает, шамес все стерпит… А кукиш она не хочет, старая ведьма, погибель на ее голову! Раскричалась, «ужас!». Можно подумать, у меня нет обязанностей поважнее. Гвалт подняла такой, будто мы хотели убить человека…
– Хорошо, хорошо, – прервал его излияния хромой напарник. – Пусть так, пусть не так… Но к чему, хочу я вас спросить, почтеннейший шамес, было нам в такую жару копать яму, да еще такую глубокую? Я же говорил – хватит! Так нет: «еще»! Все мало…
– А что такое, что? Боитесь, будет пустовать?
Вечерело. В крохотном помещении синагоги, с трудом вместившем почти всех верующих, было нестерпимо душно, пахло по́том и гарью чадящих свечей. Расставленные на старых противнях или просто в наполненных песком жестянках из-под консервов свечи всех сортов и достоинств, начиная от произведений кустарей и кончая шедеврами всемирно известных фирм, были наглядным свидетельством имущественного положения их владельцев. Но независимо от своих достоинств свечи, оплывая растопленным воском, оседали и, скорчившись, догорали. Как люди…
Раввин Бен-Цион Хагера стоял перед бархатной занавеской, за которой в парчовых плюшевых чехлах хранились священные торы[7]7
Пергаментные свитки с изложением заповедей мифического пророка Моисея.
[Закрыть]. С обеих сторон его столика, похожего на пюпитр, огромные серебряные подсвечники, минойрэ: в каждом из них, в соответствии с талмудом, утверждавшим, что бог сотворил мир в шесть дней, а в седьмой отдыхал, – горело по семь свечей, установленных в один ряд.
В торжественной тишине, согласно обрядовому и традиционному порядку – «кто повышает голос, тот не верит и силу молитвы», Бен-Цион Хагера сдержанно, но величаво, как это подобало раввину, читал нараспев особые вставки для Новолетия в молитве «амида». Лишь изредка верующие трепетно произносили «аминь!». Наступал новый, пять тысяч шестьсот девяносто девятый год…
Несколько в стороне от раввина, с накинутым поверх головы талесом[8]8
Молитвенное облачение – белое покрывало с черными полосами и кистями из шерсти по краям.
[Закрыть], раскачиваясь в такт чтению, самозабвенно молился шамес синагоги. В соответствии с наказами ученых предков, он весь отдавался священной молитве, благочинно всхлипывал, воздавая хвалу всесильному, всесвятому, всевышнему…
Помещение синагоги походило на герметически закупоренный пчелиный улей.
И вдруг шамес почувствовал, как стало трудно дышать, словно кто-то сдавил горло, сердце учащенно заколотилось, будто его чем-то обожгло.
Он откинул на затылок парчовый, пожелтевший от времени талес, осторожно вдохнул полной грудью спертый воздух, но острая боль под лопаткой почему-то не утихала. Тогда он протиснулся к скамейке и тяжело опустился на нее.
К нему пробрался хромой приятель и вопросительно заглянул старику в лицо.
– Вот тут что-то… – сказал шамес и указал на левую лопатку.
В этот момент раздались величавые звуки шофара – древнего духового инструмента – и синагога содрогнулась от голосов молящихся. Хромой приятель шамеса, не обращая на это внимания, взял старика под руку, повел к выходу и во дворе усадил на лавочку.
– Так душно, что можно богу душу отдать, – сказал хромой могильщик, кивнув на синагогу. – Скорее всего это от чада самодельных свечей. Болит? Отчего бы?
– Я знаю? – переводя дух, с трудом ответил шамес.
– Может, дать немного воды?
– Я знаю?
Хромой принес кружку воды. Шамес выпил глоток-другой, выпрямился, глубоко вздохнул.
– Кажется, чуточку лучше… – И вдруг стал валиться на бок. Сбежались люди, стали искать в толпе доктора, но подошла тетя Бетя и сказала, что покойнику никто уже не поможет…
Тело шамеса унесли в крошечную и почти пустую комнатку на заднем дворе синагоги, где он жил как отшельник, и положили на пол, произнеся краткую молитву, накрыли черным покрывалом, еще утром заботливо приготовленным для молодого приезжего парня.
И покойник лежал ночь, весь следующий новогодний день, потом целые субботние сутки. Лишь во второй половине воскресенья шамеса понесли на кладбище. Хромой могильщик положил покойнику на глаза по черепку, третьим, побольше, накрыл рот – этого требовал обряд: в загробной жизни человек избавлялся от присущей ему на земле скверны – от жадных, завистливых глаз и ненасытного, сквернословящего рта. Могильщик на прощание наклонился к покойнику и стал настойчиво нашептывать ему на ухо:
– Это я, твой хромой приятель. Прошу тебя, будь снисходителен, не сочти за труд и сбегай к богу, замолви за меня словечко и за знакомых тебе Аврама, Бореха, Шмуэля, Гитлу, Двойру, Сурку, Янкеля, Симху, ну, и… за всех остальных, конечно… Попроси его ниспослать нам немного счастья, хорошего здоровья, и пусть он наконец-то чуточку глянет вниз, сюда, на землю! Пора уже, кажется, сжалиться над нами… Ты сам прожил немало и, слава богу, видел, знаешь, что тут творится! А ему стоит только захотеть, так и здесь еще может быть ничего себе…
Раввин Бен-Цион знал, что хромой обращается к покойнику с последней просьбой, и подсказал:
– Скажите, пусть сбегает к богу и попросит за реббе Бен-Циона, за его детей, за весь наш верующий народ.
Хромой кивнул головой в знак согласия и вновь наклонился к уху покойника:
– О! Еще реббе наказывает тебе сбегать к богу и попросить за весь наш верующий народ, за его несчастных детей, и, я знаю, может, надо попросить и за него… Возможно, ты уже переменил свое мнение о нем? Словом, как сам понимаешь… Может быть, я что-нибудь не так сказал, так уж прости меня, невежду… Слышишь!
И только после этого труп шамеса накрыли досками и захоронили в той самой могиле, которую так торопливо и усердно он копал для другого… У свежего холмика, к удивлению присутствующих, раввин Бен-Цион Хагера лично прочел отходную молитву и, так как покойник был бездетным, даже заупокойную «кадеш». По дороге с кладбища Бен-Цион Хагера умиленно делился с окружающими воспоминаниями о шамесе, называл его самым ревностным служителем синагоги и повторял, как он, раввин Бен-Цион, всегда великодушно и справедливо относился к покойному. И кто знает, стал бы Хагера так же восхвалять покойника, если бы знал о мечте почившего старика отыграться над трупом раввина за все, что он, шамес, претерпел от Бен-Циона за годы службы в синагоге.
– Так что это за жизнь? – грустно, растягивая слова, спросил хромой могильщик, ставший теперь по велению раввина шамесом. – Старик был такой хороший человек, да простит ему бог грехи! Такой честный труженик, чтоб земля ему была пухом! Такой благочестивый, царство ему небесное!.. Он так старался, вы понимаете, реббе? Так усердно копал ту могилу, так хотел, чтоб она непременно была глубокая, и думать не думал, несчастный, мир праху его, что сам навсегда ляжет в нее!.. Ну, так я вас спрашиваю, это жизнь, а?
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В пансионе мадам Филотти, где Илья Томов на пару со своим другом Евгением Табакаревым снимал койку, рождественский вечер походил на поминки. Вики, молоденькая продавщица крупнейшего в Бухаресте магазина «Галери Лафаетт», снимавшая угол с раскладушкой в комнатке хозяйки, плакала, уткнувшись лицом в подушку. Некоторое время назад она увлеклась Томовым и всячески старалась ничем не выдавать своих чувств. Ей казалось, что никто не догадывается об истинной причине ее слез. В действительности об этой тайне девушки давно знали все жильцы пансиона, включая супруга мадам Филотти ня Георгицэ. Знал о ней и племянник мадам Филотти, шофер Аурел Морару, не чаявший души в Вики. Аурел ревновал Вики к Томову, но скрывал это. Он завидовал Томову, и не потому, что тот был высоким, широкоплечим и темноволосым парнем с карими глазами, а потому, что он обладал привлекательными чертами характера. Любитель пошутить, общительный и непосредственный, он, сам того не замечая, всегда оказывался в центре внимания окружающих, был, как говорится, душой общества.
Совсем другим человеком был Морару. Округлое лицо с чуть приплюснутым носом, тщательно приглаженная вороненая шевелюра и сутуловатость придавали ему несколько слащавый вид, в действительности же это был очень застенчивый, скромный и уравновешенный человек. Он безропотно переносил подчеркнутое безразличие к нему Вики, которое она проявляла всякий раз, когда предавалась мечтам, навеянным кинофильмами Голливуда, и был безгранично счастлив, когда она с благодарностью принимала и искренне ценила его заботу о ней. Бывало, что стремление Аурела во всем угодить девушке раздражало ее, и тогда Вики не скупилась на острые словечки в его адрес. Аурел покорно отступал и не обижался, воспринимая эти выпады как капризы любимого ребенка.
Ничем не выдавая своей причастности к революционной деятельности, Аурел стремился привить Вики интерес к политическим событиям, исподволь наталкивал ее на размышления о причинах унизительной бедности и гнетущей неуверенности в завтрашнем дне тысяч подобных ей тружеников. Но давалось ему это не легко. Разговоры на эти темы были Вики скучны. Жизнь она воспринимала поверхностно и всегда находилась в ожидании чего-то необычного, счастливого, что непременно должно было встретиться на ее пути и изменить всю жизнь. Она будто жила на перроне большого вокзала и, встречая каждый поезд, как заветный, окуналась в шумную толпу, выискивала того, о ком мечтала.
Однажды Аурел и Илья предложили Вики пойти вместе на просмотр русского фильма «Парад» – о спортивном празднике молодежи. Вики ответила: «Парады я видела и сколько угодно увижу еще на стадионе, а фильмы предпочитаю смотреть о любви… – Многозначительно взглянув на Томова, она тихо добавила: – Хотя бы в кино…» Томов непринужденно рассмеялся, притворяясь, будто не понял намека, а Морару смущенно улыбнулся.
Вики, как и все в пансионе, знала тогда, что Томов получает письма от некоей Изабеллы – внучки крупного бессарабского помещика, с которой он был знаком еще в детстве. Позднее, когда Илья учился в лицее, они, несмотря на строгий запрет деда, помещика Раевского, часто встречались и полюбили друг друга. Когда же Илья уехал в Бухарест, а в Болграде прошел слух, будто он учится на офицера-летчика, помещик стал одобрять переписку с ним внучки. Последнее письмо от Изабеллы, в котором она писала, что мечтает увидеть Илью офицером авиации и что в противном случае дед не одобрит ее выбора, Томов получил уже тогда, когда вместо учебы на летчика ему пришлось зарабатывать на кусок хлеба в гараже «Леонид и К°». И как ни прискорбно было Илье порывать отношения с Изабеллой, он ответил ей коротко и зло.
«Твоей мечте, – писал он, – не суждено сбыться. Я не буду офицером авиации, а сейчас тружусь простым рабочим и, представь себе, горжусь этим. Когда же придет время выбрать подругу жизни, то я не стану испрашивать одобрения ни черта, ни ангела, ни тем паче родичей, если даже они будут владеть миллионами…»
Переписка прекратилась… Вики это обрадовало, в ее душе затеплилась надежда, но ненадолго. Илья увлекся какой-то парашютисткой из Советской России. На подоконнике у его койки в дорогостоящей бронзовой рамке красовалась фотография – кадр из фильма «Парад», на котором была запечатлена колонна русских девушек-спортсменок; среди них, как внушил себе Илья, его знакомая, парашютистка Валентина Изоту. Вики успокаивала себя, что эту чужестранку Илья больше не увидит и переписываться с нею не может. Хуже было другое: Томов принимал искреннее участие в налаживании дружбы между нею и Аурелом. И это порою выводило девушку из себя, она выпаливала в его адрес кучу дерзостей, а после этого подолгу не желала разговаривать с ним и здороваться. Когда же наконец отношения между Вики и Аурелом стали походить на настоящую дружбу и жильцы пансиона всерьез стали предвкушать удовольствие «топнуть на свадьбе», нагрянули агенты сигуранцы и стало известно об аресте Ильи. Вики, не в силах совладать со своими чувствами, уткнулась в подушку, чтобы заглушить рыдания.
– Перестань, глупенькая… Пройдет день-два – и отпустят его, увидишь! – успокаивала ее мадам Филотти, но про себя она думала иначе: «Комиссары из префектуры зря не приходят! Значит, что-то есть…» Улучив момент, когда Вики не было рядом, она спросила своего давнего постояльца, служащего трамвайного общества «СТБ» Войнягу: что бы мог натворить молодой квартирант?
Войнягу сам терялся в догадках, был обеспокоен, но, подобно хозяйке пансиона, утешавшей Вики, уверенно ответил:
– Наверное, просто недоразумение… Вы разве не знаете, что из всякой мухи можно раздуть слона? Эге!.. Но муха-то остается мухой! Обойдется…
Ответ не успокоил хозяйку, она продолжала допытываться. Особое недоумение у нее вызывало то, что полицейские забрали какие-то книги квартиранта и, главное, фотографию девушек-спортсменок!
– Что это – бомба? – удивлялась она. – Нашли к чему придраться…
И старик ня Георгицэ не находил себе места. Он всегда считал молодого квартиранта человеком вполне положительным, вежливым, аккуратным.
– Ума не приложу… Шутка ли – сигуранца! – повторил он и ходил взад-вперед по коврику, постланному по случаю праздника. – Тайная полиция…
Старик вспоминал день за днем жизнь квартиранта с момента, когда года два назад он приехал из Бессарабии к своему земляку, давнему постояльцу пансиона-господину Еуджену Табакареву. В пансионе все знали, что парень намерен поступить в авиационную школу. «Что ж, стать авиатором – дело неплохое, почетное и денежное… Факт!» – сказал тогда ня Георгицэ. Месяца три приезжий ходил на аэродром Бэняса. В девятнадцать лет – это не расстояние. Ради экономии парень не часто пользовался автобусом. Добрых два часа, если не больше, добирался он от Вэкэрешть до аэродрома, зато шесть лей оставались в кармане. Да и откуда ему было их брать? В Бэнясе жил его земляк, какой-то механик, который обещал устроить его в авиацию… «Это вполне понятно, – заметил тогда ня Георгицэ. – Без знакомства, или, как говорится, без помощи «родичей в Иерусалиме», еще никто в жизни не преуспевал. Факт!» Томов верил механику и ждал, а тот тянул с парня что только мог. И вот однажды механик сам приперся и пансион и торжественно во всеуслышание заявил, будто уже устроил Илью в авиацию и задержка теперь лишь за формой, которую приобретать придется на собственные средства…
«Что ж, это вполне резонно!» – сказал тогда ня Георгицэ. На следующий же день на радостях наш молодой человек заглянул в шапочную мастерскую. Мы-ы-й! Тут только и ждали таких покупателей… Дельцы сразу смекнули, что господин Томов провинциал, и «накололи» его. Да еще как! Всучили первоклассную форменную фуражку с кокардой королевского воздушного флота – и, будьте любезны, гоните монету, господин авиатор!.. Тот выложил деньги, сунул под мышку фуражку и… туже затянул ремешок. Господин Табакарев делился с другом своим обедом и помогал, конечно, чем мог, но шли дни, недели, а прием Ильи Томова в авиационную школу все оттягивался. И вдруг выяснилось, что фуражка ни к чему – в воздушный флот его королевского величества доступ бессарабцам наглухо закрыт… Факт!
Вспомнив все это, ня Георгицэ сердито сплюнул и, рассуждая вслух, пробурчал:
– Этот механик шепелявый – жулик, видать, первосортной марки! Он-то знал, чем дело кончится… Королевский флот! Экая невидаль! Будто мы не знаем – три десятка фанерных аэропланов! Было время – верили, а нынче перевелись дураки…
Мадам Филотти оглянулась на супруга.
– Вот так, барыня, как ни говори, а мир совсем испортился. Факт! – ответил он на вопросительный взгляд супруги и вновь углубился в свои мысли.
В памяти всплыли дни, когда молодой квартирант скитался по Бухаресту в поисках работы. Наконец Аурелу Морару удалось пристроить его в гараж. Парень стал зарабатывать, но жил скромно, ой как скромно… Вместо пальто поверх тужурки носил фельдфебельскую поношенную куртку, присланную из дому. За все время купил себе только галоши, а матери с каждой получки посылал деньги. Тихий… И вдруг – «компот»! Пришли, перевернули все вверх дном, нашумели: «Шпионов держите! Коммунистов!»
Мадам Филотти с тревогой следила за супругом, прислушиваясь к тому, что он нашептывает, но ничего не поняв, указала Войнягу на дверь комнаты Вики, давая понять, что надо успокоить девушку.
Войнягу вышел.
Мадам Филотти плотно закрыла за ним дверь и даже затянула портьеру, прежде чем обратилась к мужу:
– Послушай, Георгицэ! Я не понимаю, что происходит? Аурикэ пришел сегодня с работы рано, как полагается перед праздником, собрался в парикмахерскую, попросил приготовить ему чистую рубаху, но как услышал, что были с обыском, исчез… Сказал «скоро приду», а все нету! Что это может означать, Георгицэ?
Старик недоуменно развел руками и ничего не ответил. Мог он разве догадаться, что Аурел Морару только делал вид, будто это сообщение его нисколько не взволновало, тогда как в действительности у него дух перехватило. Под угрозой провала была партийная ячейка. Опасность нависла и над другими товарищами, о местонахождении которых Илья Томов знал. Знал он и многое другое…
Было это совсем недавно, вечером. Илья Томов пришел в одиннадцатом часу. С напускной веселостью поздоровался со всеми обитателями пансиона и, подавая руку Аурелу Морару, сказал как бы между прочим:
– Насчет карбюратора к вашему «шмандралету» – придется еще денек обождать. Весь день искали на складе и не нашли подходящего…
Морару застыл от неожиданности.
Когда Илья пошел на кухню умываться, Морару вышел за ним.
– Слушай, я же горю! Мне завтра надо подавать машину профессору!.. Понимаешь?
Илья поднял к нему намыленное лицо.
– Конечно, понимаю. Но что делать? У нас большой провал. Захария прямо об этом не говорит, сегодня он весь день отсутствовал, пришел очень поздно, расстроенный, и велел передать, чтобы ты придумал что-нибудь и еще денек или два продержал типографию в машине профессора.
– Что же можно придумать, если я уже сказал профессору, что завтра к обеду машина будет подана?!
– Понимаю, Аурел… Все понимаю, но надо же как-то спасать типографию, а помещения для нее пока нет…
Морару прикусил губу, затем сказал:
– Может быть, снять водяную помпу и отвезти ее к вам в гараж? Я будто предчувствовал, что так будет, и на всякий случай предупредил его, что обнаружил течь в помпе… Он, правда, велел купить новую…
Томов развел руками:
– Не знаю я, какие у тебя с хозяином отношения… Но так или иначе придется выкручиваться… Сам понимаешь…
Морару ходил по кухне, ероша волосы.
– А что, если заболеть на пару деньков?
Томов перекинул через плечо коротенькое вафельное полотенце.
– Это, пожалуй, выход! Скажешь хозяину, что в гараже просквозило.
Морару молчал. Ему было стыдно перед профессором. Он никогда не обманывал его.
– Предлог, по-моему, подходящий, – продолжал Томов. – Но ты уверен, что старикан без тебя не заглянет в гараж?..
– Да нет, это меня меньше всего беспокоит. Я уже говорил – в гараж он не пойдет, тем более когда меня там нет. Это точно!
– В таком случае придется заболеть…
– Или лучше отпроситься на денек?
– Смотри, тебе виднее… Отпроситься бы, конечно, порядочнее, чем соврать… Это ясно! Но вдруг Захария и завтра не найдет помещения? Тогда как будешь выворачиваться?
Вопрос остался нерешенным. А утром, когда Илья вновь встретился в коридоре с Аурелом, они условились не обсуждать в пансионе свои дела.
Вскоре Томов и Морару вышли из пансиона. Было холодно и тихо. Бухарест только просыпался, ночная тьма постепенно вытеснялась хмурым рассветом. На душе у обоих было тревожно. Предстояло окончательно договориться, как быть: пойти Аурелу к хозяину и отпроситься на денек или все же позвонить ему и сказать, что заболел?
Они подходили к углу улицы Вэкэрешть и переулка Тайкэ Лазыр, когда со стороны площади Святого Георгия с трезвоном и грохотом подкатил к остановке девятнадцатый трамвай. Из открытого тамбура прицепного вагона соскочили мальчишки-газетчики. Их звонкие голоса тотчас заполнили всю окрестность:
– «Универсул»! «Курентул»!.. Перестрелка на фортификационных линиях Мажино и Зигфрида!..
– Новый налет на Германию крупных соединений английских бомбардировщиков!
– Специальный выпуск! «Универсул»! Сброшено сто тонн… листовок! Заявление рейхсминистра пропаганды доктора Геббельса!
– «Тимпул»! «Крединца»! «Ултима ора»! – кричал сорванным голосом рослый парень. – Речь генерал-губернатора Польши Франка… Французские солдаты на Мажино получают очередные отпуска… Специальный выпуск! В Париже проститутка покончила жизнь самоубийством от скуки!.. Его величество король Кароль Второй дал грандиозный банкет…
У больницы «Колця» Морару позвонил из автомата своему хозяину и сказал, что плохо себя чувствует, должно быть, во время ремонта машины простудился. Профессор Букур, как всегда, внимательный к людям, особенно к больным, велел ему непременно отлежаться, предупредил, что в столице свирепствует бестемпературный грипп, который дает неприятные осложнения… Профессор признался, что тоже чувствует себя неважно и если уж выйдет из дома, то только в больницу; для такой поездки он вызовет такси… «Как видите, машина мне не нужна. Придете, когда почувствуете себя совершенно здоровым… С гриппом шутки плохи! Так что, батенька Ауреле, лежать! Лежать, и никаких разговоров!..» – властно произнес профессор и повесил трубку.
Результат переговоров превзошел их ожидания. Томов восхищенно, воскликнул:
– Слушай! Так он в самом деле человек?!
– Верно, человек… – нехотя ответил Аурел, удрученным тем, что пришлось вторично обмануть профессора. – Иногда, правда, бывает резок…. Если уж разойдется, то и слова не даст вымолвить. Находит на него такое. Вот тогда стой перед ним, молчи, слушай и терпи.
Договорились, что Морару безотлучно будет ждать и пансионе сообщения о помещении для типографии. Томов вскочил в трамвай и уехал на работу, а Морару, вернувшись домой, занялся ремонтом старых стенных часов, но тревожная мысль о том, что печатный станок все еще в гараже, не оставляла его ни на минуту.
В пансионе было тихо: мадам Филотти ушла на базар, ня Георгицэ, довольный, что Аурел наконец-то взялся чинить часы, собрался пойти купить сто граммов настоящего кофе, чтобы угостить племянника.
– Вот исправишь часы, я сварю тебе такую кафелуцу, Какую самые высокопоставленные господа пьют только в «Капше»! Без цикория, стопроцентный мокко! Каково? И старик от удовольствия причмокнул губами.
Морару усмехнулся, продолжая отвинчивать болтики от корпуса часов.
С базара пришла мадам Филотти, вернулся и ня Георгицэ, а часы все еще не были готовы. Мысли о типографии, оставленной в машине, об арестах товарищей, о выдуманной им болезни не давали покоя Аурелу.
Профессор Букур к тому времени уже вернулся из больницы, пообедал и прилег в кабинете на кушетку. Позевывая, он вспомнил об удачно сделанной знакомому врачу операции на правом легком, потом задумался над мерами борьбы с эпидемией гриппа, вспомнил и своего шофера. Не воспаление ли легких у него? В гараже, по всей вероятности, холодно… Профессор представил себе цементный пол гаража, вспотевшего Аурела, ремонтирующего автомашину. И, наверное, щели в воротах… Могло просквозить! Надо бы и в гараже сделать ремонт, хотя Морару все отговаривал: «Ничего не надо!» Так и с машиной: будет ремонтировать помпу и ни за что не купит новую… На редкость честный!
Профессору показалось, что в комнате холодновато; он накрыл ноги шерстяным пледом, но уснуть не мог. «Не мешало бы обить ворота гаража войлоком, поверх обтянуть плотным брезентом… И подключить еще несколько секций отопительных батарей», – размышлял профессор. Так и не уснув, он откинул плед, встал, взял запасные ключи от гаража и спустился вниз.
Сначала профессор осмотрел гараж снаружи, проверил, плотно ли закрываются ворота. Войдя в гараж, он включил свет и, свернув губы трубочкой, сильно выдохнул… «М-да-с… Совсем как на улице», – проговорил он, поежился и решил непременно установить в боковых стенах большие батареи, поднять порог…
Раздумывая, как лучше утеплить гараж, профессор взглянул на автомашину и удивился: задняя часть кузова была слишком приподнята. Это Морару поднял ее на домкрат, чтобы от тяжести типографского станка, ящиков со шрифтом и пачек газет – для легковой машины это был чувствительный груз – не осели рессоры.
Подойдя ближе, профессор заглянул в боковое окно машины. Ему показалось, что внутри что-то есть. Он открыл дверцу и в изумлении сделал шаг назад. На заднем сиденье, обернутое байковым одеялом, лежало что-то огромное, почти касавшееся брезентового тента. Профессор протянул руку и ощутил твердость и холод металла; рядом лежали жестяные ящики и две пачки, завернутые в простыни. Пощупал… «Что же это такое? – недоумевал он. – Неужели краденое?»
При этой мысли он с гадливостью захлопнул дверцу и устремился из гаража, но, вспомнив про водяную помпу, так же стремительно вернулся к машине, дрожащими от волнения руками оттянул пружинистые защелки и приподнял капот: водяная помпа, которую шофер якобы снял для ремонта, была на месте… Уже много лет профессору, старому любителю и знатоку автомобилей, не приходилось заглядывать под капот, но теперь он решил проверить все. Отвернул пробку радиатора: он был полон воды… Не поленился профессор нагнуться и посмотреть пол под радиатором. Там было сухо! Теперь все стало ясно: и протекающая водяная помпа, и вчерашний ремонт, и, видимо, сегодняшнее внезапное заболевание – все выдумка…
Почтенный профессор давно уже не был так взволнован… Так ошибиться в человеке, которому он доверял и которого даже уважал!
Забыв опустить капот, он вышел из гаража, запер калитку и, привычным движением закинув руки за спину, взволнованный до предела, поднялся к себе в кабинет…
– Августина! – закричал он не своим голосом и бросил связку ключей на кушетку. Туда же швырнул шляпу, пальто, кашне. – Какое бесстыдство!.. Меня надуть!
Невысокий, плотный, всегда подтянутый профессор Букур, несмотря на преклонный возраст, был очень подвижен. Сын некогда крупного с крутым нравом помещика, он унаследовал от отца его волевую натуру и резкий, нетерпеливый характер. Разгневанный, он схватил стоявший на столе колокольчик и затряс его изо всех сил:
– Августина! Мариоарэ!
Прихрамывая, вбежала испуганная пожилая немка-гувернантка.
– Куда вы запропастились, фрейлейн?! – набросился на нее профессор и, не дав ей вымолвить ни слова, опять затряс колокольчиком, вызывая Мариоару. Наконец гувернантке удалось сообщить ему, что прислуга ушла в магазин.
– В таком случае сейчас же! Немедленно! – взвизгнул Профессор. – Сию же минуту оденьтесь, возьмите таксомотор и поезжайте к нашему шоферу. Знаете, где он живет?
– О да, конешно, господин профессор, – торопливо ответила гувернантка. – Я корошо знает, где шифет господин Морару!..
– Так вот!.. – От негодования Букур не говорил, а кричал срывающимся голосом и в такт словам приподымался на носки и опускался. – Трезвого или пьяного, здорового или больного, живого или мертвого – тащите его сюда! Вы слышите, фрейлейн?! Немедленно!
Не прошло и получаса, как в дверь пансиона мадам Филотти, как раз когда Аурел уже завинчивал последние болтики на крышке часов, а ня Георгицэ варил по особому рецепту кофе, постучалась гувернантка профессора Букура. Волнуясь, она сказала Морару, что приехала за ним, что его срочно вызывает хозяин.
Что только не передумал Морару в пути! Ведь профессор сам велел ему отлеживаться! Неужели такой провал, что полиция наводит о нем справки у хозяина? Одна за другой, словно волны, набегали мысли, и каждая казалась страшнее другой. Не мог профессор просто так вызвать его: он же утром говорил, что машина не понадобится…
Когда такси остановилось у дома профессора и гувернантка стала расплачиваться, Морару бросился в гараж. Он сразу понял, что тут кто-то побывал: капот поднят!.. От мысли, что типография в опасности, его бросило в жар, «Неужели напали на след? Что скажут товарищи?! А если мне сейчас снять машину, с домкрата и рвануть из гаража? – мелькнула мысль. – Но если здесь побывала полиция, то наверняка уже за домом следят…»
Морару инстинктивно оглянулся, прислушался. Двор был пуст. Он снова подумал: «А что, если один только профессор здесь был и еще не успел сообщить полиции? В таком случае как быть?»
То и дело Морару возвращался к этой мысли и в конце концов решил подняться к профессору: если следят, то бежать с типографией все равно бессмысленно…
В прихожей его ожидала немка Августина. Она прошла в кабинет хозяина, и Морару слышал, как профессор сердитым, срывающимся голосом велел пригласить шофера.
Букур стоял у венецианского окна и беспокойно теребил начищенную до блеска бронзовую ручку. Раздвинув кремовые занавески из китайского шелка, он неподвижным взглядом смотрел на давно знакомую, надоевшую за долгие годы красную черепицу готической крыши соседнего дома. Услышав шаги шофера, профессор повернулся и, не дав ему поздороваться, наигранно любезным тоном заговорил:
– А-а! Это вы, господин Морару?
– Здравствуйте, госп… – начал было Аурел, однако профессор прервал его.
– Очень приятно видеть вас в добром здравии… Вы, кажется, снимали водяную помпу, чинили что-то в автомобиле и простудились? Не так ли?
Морару понял, что профессор иронизирует. Встревоженный, он пристально всматривался в хозяина, чутко прислушивался к тому, как и что он говорит. Надо было узнать причину, приведшую к раскрытию типографии в гараже, оценить создавшееся положение, сориентироваться и принять какое-то решение. Морару терпеливо молчал, а Букура это еще более возмутило:
– Вы и отвечать, я вижу, не намерены? Вон как! – Он ехидно усмехнулся и вдруг закричал: – Может, вы все же скажете, что это за «багаж» внизу?! В моей машине, в моем гараже, в моем доме?!
Морару скользнул взглядом по дверям, выходившим в большую гостиную, и не торопился с ответом.
– Я спрашиваю, чей «багаж»? Что там такое? Зубоврачебное кресло? Бормашина? Вы что – изволили переменить профессию шофера на дантиста?!
Морару не проронил ни слова. Он оглянулся. Кроме него и профессора, здесь как будто никого нет… Впрочем, полиция может находиться за дверью…
Букур проследил за его взглядом, устремленным на дверь соседней комнаты, и губы его скривились в презрительную усмешку.
– Ах вон что!.. Боитесь? Прелестно!.. Однако могу вас, сударь, заверить, что там пока никого нет… И извольте отвечать, когда вас спрашивают! Что в машине? Краденое?