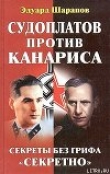Текст книги "Занавес приподнят"
Автор книги: Юрий Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 43 страниц)
У Томова тревожно забилось сердце, в какое-то мгновение пронеслось в голове: «А вдруг и товарищ Захария попался? Тогда что? Но он не может выдать. Нет. Это ловушка! Провокация!» И, тут же овладев собой, Томов ответил:
– Пожалуйста. Приведите и его! Вы все время пугаете меня механиком, а кто он мне? Ни сват, как говорится, ни брат… Знаю его только по гаражу. Если он чего-то там натворил, отвечать за него не собираюсь. Могу лишь сказать, что в гараже господина механика Илиеску все считали честным человеком, даже господин инженер-шеф! Спросите кого угодно, и вам подтвердят это.
Лика чувствовал, что очная ставка не оправдала надежды, которую возлагали на нее его хозяева, и поспешил исправить положение:
– Значит, говоришь, не узнаешь меня, Томов?
– О-о, и фамилию мою уже знает! – иронически заметил Илья, – Давно ли?
– А ты не цепляйся за фамилию, – горячился Лика. – Я тут ее услыхал, сейчас, а вот кличку твою пораньше узнал. Ты – Костика! Правильно? А я был Лика. Это ты тоже хорошо знаешь, не прикидывайся…
Томов сокрушенно покачал головой.
– Сегодня рождество, и ваш агент, видать, хорошо хлебнул! «Крещение» мне уже устроил… Костикой каким-то назвал. Но это очень глупо. Если есть на свете какой-то Костика, так его и ищите. Не за то же вы этому парню платите, чтобы он с похмелья морочил людям голову… А мне из-за этого приходится страдать… За что?
Ответ Томова обескуражил Лику. Он не блистал сообразительностью. Единственное, на что он был способен, так это выложить напрямик все свои «козыри». И, горячась все больше, он привел еще одну – казавшуюся ему неопровержимой – улику:
– Да не цепляйся ты за соломинку! Я узнаю тебя даже по голосу!
Томов не растерялся. Он и эти слова обернул против предателя.
– По голосу, говоришь, узнаешь? – неторопливо спросил он.
– Да, по голосу! Меня слух никогда не подводил!
– Ну вот, господа начальники… – обратился Томов к полицейским. – Ваш агент совсем уж заговорился! Его, говорит, слух никогда не подводил. Но вы прекрасно знаете: когда меня привели сюда, голос у меня был совсем не такой. После всего, что вы проделали со мной, я не говорю, а хриплю!.. Зубы-то здесь мне выбили… Я сам теперь удивляюсь своему голосу, а он, видите ли, сразу узнал!.. Ловкач какой нашелся…
Агент уловил укоризненный взгляд подкомиссара Стырчи, и прыщи на его лице побагровели. Сдвинув жиденькие брови, он поторопился оправдаться:
– Пусть говорит что хочет! Все равно – он это! Честное слово, господин шеф! Я не ошибаюсь…
Томов брезгливо отвернулся. Он не хотел скрывать, что даже здесь, в сигуранце, избитый и истерзанный, полон презрения к предателю.
Лике велели выйти. Следом за ним вышел долговязый комиссар. Оставшись наедине с арестованным, Стырча принялся было обычными для него методами настаивать, чтобы Томов сознался, кто помог ему снять с руки кольцо от наручников-кандалов и куда их дели, но, ничего не добившись, вдруг, без всякой связи с предыдущим, визгливо закричал:
– Думаешь, мы не знаем, чем ты занимался еще в лицее? Где тот грязный жид, с которым ты дружил? Где он, я спрашиваю?! Как его фамилия? Говори, бестия!
Томов сразу догадался, о ком идет речь, но притворился, будто понятия не имеет, и промолчал.
Стырча кинулся к столу и начал перелистывать какие-то бумаги:
– Волдитер! Хаим… Христа, господа-бога, веру, душу… Говори!
Томов молчал. В памяти всплыл зеленый городок Болград – его тихие и пыльные улочки, залитые солнцем сады, каменное здание мужского лицея, где учился Илья Томов и его друзья. Впрочем, далеко не все были верными товарищами. Среди настоящих друзей был Хаим Волдитер. Добрый, остроумный, верный Хаим. Это он, копаясь как-то у себя на чердаке, обнаружил спрятанные кем-то связки книг и газет, листовок и прокламаций, которые оказались нелегальной большевистской литературой, чудом сохранившейся еще со времен революции в Бессарабии.
Тогда Хаим стал приносить в класс то листовку, то прокламацию, то газету. Лицеисты читали их взахлеб, горячо обсуждали. Наиболее активными были его одноклассники Илья Томов и Вальтер Адами. Но однажды ночью жандармы оцепили базарный квартал, а перед домом Волдитера установили пулемет. Агенты сигуранцы ворвались в дом, учинили обыск. Хаима увели с собой и посадили в «погреб» полиции.
По городу распространились самые невероятные слухи. В лицее появились полицейские комиссары, по коридорам шныряли сыщики сигуранцы.
Через некоторое время Хаима Волдитера выпустили. Остриженный наголо, бледный, худой, точно после тяжелой болезни, он был встречен друзьями, как герой. Несмотря на жестокие истязания, он никого не выдал сигуранце, а вот имя доносчика стало ему известно. Это был один из лицеистов, сын местного богача, владевшего мельницами, маслобойнями и пекарнями. Имя предателя стало притчей во языцех среди лицеистов. На стенах появились надписи, клеймившие иуду. Сторожа стирали мел, но появлялись надписи, сделанные краской, дегтем, смолой. В конце концов директор лицея был вынужден просить родителей доносчика перевести сына в лицей другого города. Богачу все было под силу, а вот перед Хаимом Волдитером двери всех лицеев страны закрылись навсегда. Он стал работать в керосиновой лавке своего дядюшки. Да, много прошло времени с тех пор… Ушло детство, жизнь обернулась для них суровой стороной. И для Хаима Волдитера, и для Ильи Томова…
– Молчишь, бестия гуманная?! – кричал подкомиссар Стырча, тряся арестованного за разодранный ворот рубашки. – Я спрашиваю, где тот шпион?!
– Откуда я знаю? – ответил наконец-то Томов, словно только сейчас вспомнил, о ком говорит подкомиссар. – Помню, его исключили из лицея, и с тех пор мы не виделись. Я уехал сюда, в Бухарест, а он… он, наверное, в Болграде. Мать у него, кажется, там…
Томов не случайно отвечал так следователю. Он-то знал, что мать Хаима погибла во время погрома, учиненного легионерами. Об этом рассказал ему Хаим, когда они совершенно неожиданно встретились в Констанце. Это было сравнительно недавно. Томов получал тогда в порту грузовые автомашины «шевроле», прибывшие из Америки для гаража «Леонид и К°», где он в последнее время работал.
В тот день, как, впрочем, и в другие дни, Констанца походила на растревоженный муравейник. Кругом были люди, на каждом шагу попадались магазины и лавчонки с пестрыми вывесками, крохотные рестораны и закусочные, с порога которых ударял запах жаровен вперемешку с прокисшим вином, а также уйма контор по закупкам и экспорту зерна, вина, фруктов, нефти… И всюду люди. По преимуществу приезжие, или, точнее, отъезжающие: вокруг них – крупные маклеры и мелкие жулики, выдающие себя за дельцов, адвокатов и даже полицейских чинов… И у всех одна цель: деньги! Их здесь дерут с живых и мертвых… Все продается, и все покупается, все с трудом, и все запросто…
– Новое немецкое мыло! – рекламировал у лотка свой товар одноглазый продавец. – Покупайте эрзац-мыло «Шмуцфрессер»! Лучшее импортное мыло… от чесотки!..
Откуда-то из-за угла вырвалась ватага ребятишек-газетчиков. Оборванные, чумазые, в лохмотьях, они наперебой выкрикивали:
– «Универс-оу»! «Курент-оу»! «Тимп-оу»! Экстренное сообщение!..
– «Ултима ора-оу»! Едицие спечиал-оу!..
– «Ултима ора-оу»! Специальный выпуск!..
Стоявшие друг перед другом Илья Томов и Хаим Волдитер из-за шума никак не могли толком поговорить. С трудом они выбрались в подворотню какого-то дома, и Томов наконец-то спросил друга:
– Так что же ты здесь делаешь, Хаим?
– Что я делаю в Констанце? – как всегда, пожав узкими плечами, грустно и с усмешкой переспросил Хаим. – Я уезжаю, Илюшка…
– Куда, если не секрет?
– В Палестину.
– Что-что?
– Первый раз слышишь о Палестине? Или ты не знаешь, что такое «земля обетованная», «земля предков», «страна праотцов»?
– Слышал… – ответил Томов. – Ты-то при чем?
– Я?! – резко развел Хаим руками. – Говорят, там, за синими морями, мед течет… Вот и еду попробовать его… Но, честно говоря, боюсь я, Илюшка, как бы тот мед не оказался горчицей… Ей-богу!
– Так на кой черт ехать?!
– На кой черт ехать?.. А что мне делать, если господин Гитлер безнаказанно проглатывает одну страну за другой и, как поговаривают, собирается наведаться и сюда?! Сам понимаешь: мне тогда крышка! – И Хаим выразительно вздернул кверху обернутый вокруг шеи поблекший галстук.
Илья стал было успокаивать друга, но тот не дал договорить:
– А Вальтер наш, знаешь, тоже сорвался!
– Адами Вальтер? – настороженно спросил Томов. – Куда это сорвался?
– Ну конечно – в Германию!
– Не понимаю, – удивился Илья. – Как это в Германию?
– Очень просто! Ты разве не знаешь, что фюрер бросил клич – стомиллионное государство с немцами, твердо живущими на своих землях? Сказал – и баста! И со всей Европы, как мухи на падаль, полетели фольксдойч!.. Порхнул в фатерланд и наш бывший единомышленник, – Хаим огляделся по сторонам, – по читке большевистский прокламаций на чердаке… Помнишь?
Томов улыбнулся:
– Еще бы, Хаим, конечно, помню.
– Так что это, по-твоему?
Томов неопределенно пожал плечами.
– Вот я и еду, представь себе, Илюшка, тоже для создания «государства»… Да, да! Нацисты трубят о стомиллионном, а сионисты скромнее – просто о многомиллионном государстве, но тоже – с твердо живущими на своих землях евреями… Ну так что это, по-твоему, комедия? Нет, брат, трагедия! Да-да. Трагедия двух народов! Гитлеру нужны солдаты, чтобы завоевать земли, а сионистам, чтобы их отвоевывать. В Германию слетаются фольксдойч, а в Палестину едем мы, фольксюден!.. Немцы орут в три горла о – своем фатерланде, не отстают от них и наши сионисты – со своим фатерландом. А знаешь, это слово имеет одинаковый смысл и в немецком, и в еврейском языках – «родина отцов»… Ей-богу, я не придумал это! И не смотри на меня так, будто твой друг спятил. Вообще говоря, я не отрицаю, что в таком кавардаке можно и в самом деле свихнуться…
Не желая еще больше расстраивать своего школьного друга, Илья попытался переменить тему разговора:
– Неужели Вальтер станет нацистом?
– Откуда я знаю? Во всяком случае, нацисты фаршируют мозги фольксдойч почище, чем базарные колбасники начиняют «собачью радость» вонючей требухой, чесноком, перцем и всякими специями, которые служат приманкой для покупателя… А люди клюют!.. И вообще, скажи на милость, как это, по-твоему, называется, если один из нашего «марксистского кружка» кинулся в объятия Гитлера, а другой плывет за тридевять земель под крылышко сионистских петухов?!
Томов не знал тогда, что ответить. Он долго молчал, глядя на Хаима, на его основательно потертый серый пиджак, висевший на худых плечах, как на вешалке, на вздыбленные огненной волной жесткие волосы, на всю его жалкую, смешную и вместе с тем трогательную фигуру, и думал… О чем думал тогда Илья Томов? Разумеется, ему трудно было расстаться с другом, и, разумеется, он жалел его: позади была закадычная дружба, много неосуществленных планов.
– Не торопись с отъездом, Хаим, – сказал ему тогда Илья Томов. – Найдем и здесь что-нибудь для тебя, ты же не один!
Томов рассказал о своей работе в Бухаресте, о друзьях. Вскользь упомянул он и о механике гаража «Леонид и К°» Захарии Илиеску.
– Я тебе советую остаться, Хаим, – начал настаивать Томов, видя нерешительность друга. – Попросим этого механика, и, уверен, он поможет. Подыщет тебе неплохую работенку. А тем временем, глядишь, и наши из-за Днестра скажут свое веское слово!
Хаим тогда сразу оживился:
– Ты, конечно, имеешь в виду Советы?
– Кого же еще? – как само собой разумеющееся, отметил Томов. – Долго так не может продолжаться. Они пока молчат и терпят, но нашу Бессарабию не отдадут… Терпение их лопнет! Увидишь…
– Все это так, но пока что у них пакт с Германией!
– Видимо, так нужно на какое-то время… Оставайся! Есть у меня друзья среди румын… Настоящие!
Хаим молча вздохнул.
– Понимаю тебя, Хаим! – сочувственно произнес Томов. – Но чтобы не было погромов и прочего подобного, нужно что-то делать, а не убегать… Другое дело, если ты решил на время укрыться в тихом углу…
Хаим снова тяжело вздохнул, наморщил лоб…
– Подумай хорошенько, Хаим!
– О чем думать, – выдавил наконец из себя Хаим, – если я уже покупаю оружие…
– Какое оружие?
– Какое? Которым убивают людей… И конечно, я не один. Мной командуют тут друзья поневоле… Сионисты.
– Не понимаю. Огнестрельное оружие свободно продастся, как вон в той булочной хлеб, что ли?
– Не так, но… продается. Сионисты твердят, что для создания государства нужна территория. А чтобы завоевать территорию, необходимо оружие… Вот мы и выискиваем его и покупаем за бешеные деньги!
Томов с суровым недоумением посмотрел на Хаима.
– Да, Илюшка… – с грустью признался Хаим. – Не удивляйся. Мы уже купили новенький пулемет «ЗБ». Ты знаешь, что это такое? «З» – это збруино, то есть – оружие, а «Б» – Брно. Город. У чехов там были первоклассные оружейные заводы. Их тоже Гитлер слопал… Весело, а?
– Очень!
– Очень, говоришь? А если я тебе еще скажу, что купили мы тот пулемет в одном доме терпимости, что ты на это ответишь?
– Не узнаю тебя, Хаим…
– А сам я, думаешь, узнаю себя? Ведь за время нашей разлуки я прошел военно-трудовую стажировку… Там сионисты вымотали из меня все кишки и, конечно, кое-чему научили… Теперь я – холуц! У них это означает – пионер или доброволец, едущий обрабатывать и защищать землю предков…
– Вот даже как?! Ну, ты далеко пойдешь, Хаим… Только, видать, не по той дорожке…
– Не сердись, Илюшка! Хотя… я понимаю тебя. Но пойми и ты!.. Ведь если только на минутку призадуматься, что какой-то Хаим Волдитер из захолустного городка Бессарабии на деньги американских евреев покупает у румынских проституток чешский пулемет, изготовленный на заводе, захваченном немцами, а сионисты в Палестине будут из него стрелять в арабов, так что это, по-твоему?
– Жаль мне тебя, Хаим…
– Возможно, ты прав, а я наивен, – проговорил Хаим, как бы оправдываясь. – Но подумай сам, что мне делать, если сюда в самом деле нагрянет Гитлер? Останься я в Румынии, меня, конечно, повесят, или расстреляют, или замучают… И кто это сделает – немцы в коричневых или румынские легионеры в зеленых рубашках, – сам понимаешь, не столь уж большая разница. Я еврей, и этим сказано все!.. Мне здесь нет места. Вот я и еду, Илюшка, искать счастья. Понимаешь? И хотя я не очень-то обольщаюсь и насчет многомиллионного еврейского государства, о котором трубят сионистские петухи, не верю, что там рай земной, но надеюсь, понимаешь, очень надеюсь в это страшное время, которое надвигается на нас, выжить. Просто хочу выжить… – Хаим в волнении вертел в руках смятую газету. – И не смотри на меня так укоризненно. Мне и без того делается тошно, когда я отчетливо вижу, как меня хватают фашисты… Прихлопнут, как мою маму, – и конец… Я даже крикнуть не успею, не то чтобы сделать что-то полезное…
Томов слушал и не отступал. Он вновь пытался тогда отговорить друга от далекой и рискованной поездки, но Хаим отвечал, что теперь уже поздно: у него на руках виза английского консульства на въезд в подмандатную Великобритании Палестину. Вдруг он горько усмехнулся:
– Разве все это не потеха?!
– Если и потеха, то все-таки не смешная… – задумчиво ответил Томов.
– Не смешная?! – переспросил Хаим. – Ну-ну… Она, Илюшка, с кровью! Слышишь? С кровью… И, честно говоря, свою кровь мне проливать жалко. Может, еще пригодится… Ты же помнишь листовки с чердака нашего дома!
– Я-то помню, а ты, видать, забыл!
– Я забыл?! – вскрикнул Хаим и, раздвинув ворот рубашки, показал шрам. – Такую прекрасную отметину от допросов в полиции разве можно забыть?.. Вот почему хочешь не хочешь, а приходится ехать… К тому же в кармане у меня сертификат с шифс-картой, в ночь отходит пароход!.. Вот так, Илюшка… Не обижайся. Пиши: Тель-Авив, до востребования…
Так они расстались тогда в Констанце. Дойдя до угла, Томов оглянулся: Хаим Волдитер стоял на том же месте к смотрел ему вслед. Сутулый, сникший, худой, но очень милый…
«Где сейчас Хаим? Что с ним?» – подумал Илья, вспомнив эту встречу в Констанце. То, что Хаим Волдитер называл тогда «кавардаком», Илья Томов и сам знал, но то, что ему приходилось испытывать сейчас, он был уверен, Хаиму и во сне не виделось…
Подкомиссар Стырча продолжал неистовствовать:
– Какие дела у тебя были с тем жидом?!
– Ничего у меня с ним не было, – ответил коротко Томов.
– Овечка!.. «Ничего не было!», «Ничего не знаю!», «Ничего не делал!», «Все это недоразумение!». Но запомни: бить буду, колотить буду, но ни тебя, ни твою старую каргу на свет божий не выпущу, пока не сгниете!..
Вмиг Илья представил себе больную одинокую мать, измученную вечными нехватками, настрадавшуюся из-за своего отца, перебывавшего чуть ли не во всех тюрьмах королевства за участие в Татарбунарском восстании бессарабских крестьян. Илью охватила нестерпимая злоба.
– За что вы арестовали мою маму? Что плохого она вам сделала?
– «Что плохого сделала?», «За что арестовали?» – передразнил подкомиссар. – А хотя бы за то, что она – дочь большевистского бунтаря! И еще за то, что тем же навозом напичкала мозги своего выродка, неведомо от кого нагулянного.
Томов не выдержал и, не отдавая себе отчета, выпалил:
– Ничего, господин подкомиссар… Когда-нибудь вы ответите за все! Ответите…
Стырча обомлел. Он съежился, как рысь перед броском, и, скривив тонкие губы, медленно подошел к арестованному.
– Как ты сказал, большевистская бестия? Мне?.. Мне посмел угрожать?! Да я тебя… в порошок!.. – взвизгнул подкомиссар и размахнулся.
Терпение Томова иссякло, нервы окончательно сдали. На лету перехватил он руку подкомиссара и резко оттолкнул его. Стырча ударился об угол письменного стола…
Побледневший от испуга подкомиссар судорожно извлек из кармана пистолет, вогнал в ствол патрон и, выждав секунду-другую, медленно, прижимаясь к стене, обошел арестованного и рывком бросился к дверям, распахнул их и громко окликнул дежурившего в коридоре полицейского. Вдвоем они надели на Томова наручники. Полицейскому Стырча велел удалиться, а сам, не торопясь, вытер испарину со лба, подошел к стене, снял с гвоздя висевшую резиновую дубинку, осмотрел ее со всех сторон, словно сомневался, выдержит ли она… Потом подошел вплотную к арестованному и спросил:
– Стало быть, ничего не знаешь о коммунисте Волдитере Хаиме, ай?..
ГЛАВА ПЯТАЯ
Поздно ночью судовой врач, вызванный к больному пассажиру, осмотрел его и, не проронив ни слова, удалился к капитану. Пароход «Трансильвания», заполненный до отказа эмигрантами из Европы, миновал пролив Скарпанто и вышел в открытое Средиземное море. Он держал курс к побережью Палестины. Оставались сутки с небольшим плавания, когда «Трансильвания», дав легкий крен на левый борт, внезапно свернула с курса. Капитан решил еще до рассвета высадить больного в ближайшем порту, пока не распространился слух о вспышке эпидемии на борту парохода. Капитан знал, что такое паника среди пассажиров. Кроме того, в случае эпидемии «Трансильвания» не смогла бы пойти в Хайфу до истечения срока карантина, нарушив тем самым расписание рейсов. Этого капитан и тем более фирма, владевшая судном, опасались, пожалуй, больше всего.
Больного Хаима Волдитера отнесли в крошечное помещение в кормовой части парохода, служившее по мере надобности то изолятором, то моргом.
Светало, когда вдали, за темно-фиолетовой полосой горизонта выползли остроконечные вершины прибрежных скал. Кое-где на них зеленела растительность и угадывались очертания белокаменных строений города, раскинувшиеся в юго-восточной части Кипра.
В миле от фарватера «Трансильвания» встала на якорь, на мачте взвился сигнальный флаг: «Просим срочную медицинскую помощь!»
Палубы судна были еще пустынны, когда носилки с больным, накрытым с головой одеялом, спустили в пришвартовавшийся к борту мотобот английской сторожевой охраны.
Хаима Волдитера доставили в невзрачное здание порта города Лимасол. В официальном свидетельстве – сертификата больного значилось, что прошедший «акшару»[5]5
Трудовая стажировка с военной муштрой, проводимая сионистами за пределами Палестины и дававшая право на въезд в «страну обетованную».
[Закрыть] холуц Хаим бен-Исраэль Волдитер имеет право на въезд в Палестину», а на обратной стороне документа овальная голубого цвета печать удостоверяла подлинность подписи английского консула, выдавшего визу на право жительства на подмандатной Великобритании земле. При наличии такого документа власти, аккредитованные в Лимасоле, не стали чинить препятствий больному-иноземцу и распорядились передать его главе местной еврейской общины.
На двуколке Хаима отвезли к раввину Бен-Циону Хагера. Вызванная раввином фельдшерица определила диагноз:
– Тиф…
Бен-Цион Хагера закатил выпуклые, налитые кровью глаза и, сложив на животе руки с длинными, мертвенно-бледными пальцами, в ужасе прошептал слова молитвы:
– Слушай, Израиль, господь бог наш, господь един!..
Дом раввина всегда был полон людей. Непрошеного гостя тотчас же перенесли в перекосившееся от времени помещение под общей с сараем крышей, отделенное от него прогнившей перегородкой. Ухаживать за больным вызвалась старая фельдшерица, которая была домашним медиком в семье Хагера. В доме раввина ее звали тетей Бетей.
Раввин запретил детям подходить близко к «флигелю» и приказал им повесить на грудь мешочки с черным перцем, очищенным чесноком, какими-то травами и камфорой, что, по его мнению, должно было уберечь от заразы. Своей работнице Ойе, хлопотавшей по двору, он велел помазать стены дома известью, а порог, двери и полы протереть карболкой.
Ночами возле больного дежурил шамес – синагогальный служка. Этого бородатого косого старика еще издали можно было узнать по съехавшему на одно ухо картузу и длинному, засаленному черному кафтану. Он приходил поздно ночью и уходил чуть свет: по утрам и вечерам шамес был занят в синагоге подготовкой к молению. Старик любил напоминать, что именно он в городе является старшим из «хевра кадишу» (братьев-погребальщиков) и что на нем лежит обязанность, по обрядовым предписаниям, омывать и облачать в белое полотно покойников. Конечно, только мужчин. А это вовсе не такое уж простое дело!
К вечеру второго дня состояние Хаима ухудшилось. А старика, как назло, вызвали совершать обряд над покойником в одну состоятельную семью, и шамес, конечно, надеялся урвать хорошие чаевые… С больным на всю ночь осталась тетя Бетя. На рассвете она сообщила пришедшему служителю синагоги, что парень очень плох и едва ли дотянет до вечера.
Шамес подошел к больному, приподнял ему веко и, убедившись, что фельдшерица права, стал нашептывать молитву, вздыхая и присвистывая: у старика не хватало двух передних зубов. Заодно он наметанным взглядом прикидывал, сколько вершков имел в длину парень.
Вскоре шамес ушел. В синагоге в тот день царило необычное оживление: до рош-га-шана – Нового года – оставалось менее двух дней! Не до шуток здесь, если учесть, что в эти «грозные дни» на небесах решаются судьбы обитателей земли!..
Рано утром, вскоре после ночной «слихэс» – молитвы прощения, шамес и его хромой напарник, взяв лопату и кирку, отправились на кладбище. Нелегко копать могилу в сухой каменистой земле, да к тому же еще и поторапливаться: ведь в канун Нового года уже с полудня запрещалось хоронить, а сразу после праздника – суббота! Тоже нельзя хоронить… А откладывать погребение не позволяла жара.
– Если всевышний задумал не пускать человека на обетованную землю, то тут не помогут ни сертификат, ни шифс-карта, ни виза, ни даже молодость! – проговорил напарник шамеса, распрямляя спину и опираясь на заступ. – Парень, можно сказать, был уже перед самым порогом рая, а он отнимает у него жизнь… Разве он не всесильный?
Шамес ответил не сразу.
– Э, когда нет у человека счастья, так ничего не поделаешь. Это я давно заметил. Да простит меня господь бог, но и он в последнее время, кажется, выжил из ума… Косит, кого не надо! Нет чтобы прибрать нашего реббе, гори он ясным огнем…
Хромой оживился: такая речь была ему по душе.
– Хэ-хэ-э! Наш реббе! Наш реббе здоров, как буйвол, его и тиф не возьмет…
– Вечного на свете ничего не бывало! Будем надеяться, господь поможет…
Могильщики еще долго копали яму и тешили себя мечтой о том, как с божьей помощью им еще удастся выкопать могилу для реббе.
Шамес появился во дворе раввина Бен-Циона Хагера задолго до захода солнца и сразу направился в сарайчик к больному. Однако, к своему удивлению, вместо фельдшерицы он застал там молодую девушку, работницу раввина гречанку Ойю, старательно моющую кипятком с мылом дощатые стены.
– Пустые хлопоты… – пробурчал шамес, подходя к больному, посмотрел на него, покачал головой и протянул руку, чтобы приподнять веко – удостовериться, долго ли парень протянет. Но Ойя, вдруг бросившись к старику, резко оттолкнула его. Шамес испуганно посмотрел на девушку и поспешно вышел.
Узнав о том, что Ойя ухаживает за тифозным, раввин рассвирепел:
– Кто разрешил этой дуре заглядывать в сарайчик? Видно, хочет нас всех заразить! Чтобы духу ее здесь больше не было!
Вернувшаяся к тому времени из аптеки тетя Бетя покорно согласилась с раввином, но сказала:
– Что сделано, то сделано, а за больным, как ни говорите, реббе, надо же кому-то присматривать… Парень еще жив! А я, поверьте мне, еле-еле стою на ногах…
Постепенно Бен-Цион успокоился.
– Холуц скоро преставится, пусть побудет с ним, – согласился он. – Но к нашему дому чтоб и близко не смела подходить! Вы слышите или нет?!
Тетя Бетя заверила раввина, что об этом она непременно позаботится. Никто, кроме тети Бети, не относился к Ойе столь сердечно и ласково. Каждый раз, когда фельдшерица вспоминала об Ойе, сердце у нее обливалось кровью.
«Господь наделил ее всем, – думала она, – и умом, и красотой, и добрым сердцем. Но какой дорогой ценой заплатила девчонка за все это…»
Ойя была глухонемой. Родилась она, как утверждали люди, в Фамагусте, росла сиротой: отец, матрос с рыболовного судна, ушел в море и не вернулся. С тех пор Ойя со страхом поглядывала на море. Шло время, и как-то поздно вечером мать Ойи пришла домой с высоким красивым матросом. Она крепко-крепко прижала девочку к груди, поцеловала ее, долго гладила по головке, с тоской всматриваясь в смуглое личико. Так Ойя и уснула на руках у матери. А утром, проснувшись, увидела пустую комнату. Девочка соскочила с постели, побежала во двор. Старушка, у которой мать снимала комнату, указала ей на море. В сизой утренней дымке Ойя увидела удаляющийся белый пароход… Девочка осталась у старушки, помогала ей по хозяйству, носила воду, пасла козу, в школу не ходила из-за своего недуга и всегда с тоской и надеждой поглядывала на приходившие в гавань большие белые суда…
В семью раввина Ойя попала еще в Фамагусте. При переезде в Лимасол больная жена Бен-Циона взяла с собой выгодную работницу. Ойя была старательна и безотказна.
Когда же в предвечерние часы Ойя заканчивала работу и приводила себя в порядок, она выглядела красавицей. И соседки-гречанки поговаривали, будто господь отнял у девушки речь лишь потому, что наделил ее такой красотой.
В Лимасоле частым гостем раввина бывал Стефанос – отставной полицейский сержант, содержавший на паях с реббе у портового пакгауза кабак с притоном. Всякий раз, когда девушка попадалась ему на глаза, толстяк, поглаживая усы жадно оглядывал ее с ног до головы… И о чем-то подолгу шептался с раввином.
Было это минувшей весной. В один из предпасхальных дней, когда вся подготовка к празднику в семье раввина подходила к концу, Бен-Цион Хагера неожиданно заявил, что недозволительно в течение всей пасхальной недели пребывание в их доме человека иной веры. По священным пасхальным законам, добавил он, все, начиная с пищи и кончай посудой, должно быть кашерным[6]6
Пища и посуда, которая по иудейской религии является ритуально чистой.
[Закрыть] и, конечно, чисто еврейским. При этом Бен-Цион дал понять, что девушку придется хотя бы на время определить к Стефаносу.
Узнав о том, что ее отдают в кабак, Ойя порывисто закрыла лицо руками и убежала. Она всю неделю скрывалась во «флигеле», где теперь маялся в тифозном жару Хаим Волдитер. За исключением Бен-Циона и его дочери Цили, все знали, где находилась девушка. Ей тайком от раввина приносили еду, утешали, жалели. Но что могли сделать они, запуганные отцом дети? Лишь Циля, пышногрудая статная красавица с большими карими глазами, любимица отца, имела право возразить раввину. Остальные – старшая горбатенькая Лэйя и сын Йойнэ – должны были молча повиноваться.
Только незадолго до Нового года Хаим Волдитер пришел в сознание. Смутно различив худенькую и молчаливую девушку, сидевшую подле него, он с трудом повернул к ней голову.
Девушка тотчас же склонилась над ним, вглядываясь своими большими черными, как смоль, глазами в изможденное лицо больного. И сразу же она проворно принялась обмахивать полотенцем его лицо, затем снова склонилась над больным, пытаясь понять, что он шепчет. Ойя чувствовала свое бессилие, не знала, чем помочь парню. Она начала волноваться, метаться по чулану. И вдруг ее осенила мысль… Быстро зачерпнув кружкой воды из большого глиняного кувшина, она поднесла ее Хаиму, приподняла ему голову. Он отпил несколько глотков, и тут впервые их взгляды встретились…
Солнце уже взошло, когда пришла тетя Бетя. Поставив больному градусник, она глянула на него. Ойя уже объяснила ей жестами, что парень пил воду… Вон – почти полкружки!
Фельдшерица поразилась. Она ощупала лоб больного, извлекла градусник. Но что это? Женщина поправила очки и снова напряженно стала всматриваться в ртутный столбик: температура резко снизилась!.. Значит, слава всевышнему, кризис миновал!.. От счастья тетя Бетя принялась обнимать и целовать Ойю… Надо немедленно сообщить об этом раввину, пусть и он порадуется, что господь смилостивился и оставил в живых молодого парня…
В дверях она столкнулась со стариком шамесом и его хромым напарником. В руках одного было свернутое черное покрывало, которым накрывают покойников, другой держал подсвечник и свечи…
Фельдшерица со слезами на глазах от счастья вместо обычного приветствия встретила «хевра кадишу» радостным восклицанием:
– Все! Все, вы слышите?!
– Так к чему так радоваться? – склонив голову набок, удивленно спросил шамес. – Я и сам знал, что бедняга до утра не дотянет… Пойдемте, надо спешить! До полудня мы должны отнести тело покойника к священному месту… Вы видите, где уже солнце? Скоро Новый год… О! – указал старик на небо.
– Вы что, сдурели?! – вскрикнула фельдшерица, только теперь догадавшаяся о цели прихода «хевра кадишу». – Сумасшедшие! Кризис у холуца миновал благополучно… Вы это понимаете? Он поправляется! Он жив!
– Да-а? А мы думали… – в растерянности разочарованно произнес хромой и невольно вытянул руку с подсвечником.
Женщина набросилась на них, размахивая кулаками и продолжая отчитывать: