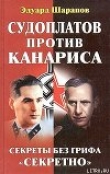Текст книги "Занавес приподнят"
Автор книги: Юрий Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 43 страниц)
Хаим снова прилег, сомкнул глаза и сразу, словно наяву, увидел разгрузочную рампу, шествие грузчиков с тюками сена, перетянутыми то медной, то простой проволокой… Пакгауз, огромные брезенты – на них груды промасленного оружия, штабеля продолговатых металлических ящиков с запасными частями, квадратные деревянные сундуки с боеприпасами и склоненные над столами, где шла сборка оружия, молчаливые парни и девушки, привезенные из какого-то киббуца. И снова в душу пробрался страх, холодной мерзкой гадюкой прополз по спине, сдавил горло, мешая дышать.
Захотелось тут же, немедленно бежать, бежать куда глаза глядят, только бы не видеть этих жестоких людей, не принимать участия в их темных делах. Но куда бежать? Кто тебя ждет, Хаим? Тебя и твою бедную Ойю? Однако слабый огонек надежды теплился в сердце: а вдруг все-таки поможет Нуцик? Ведь помог же однажды…
Весь день Хаим не находил себе места, с нетерпением ожидая, когда же наконец покажется Нуци, терялся в догадках.
Лишь под вечер Нуци Ионас зашел к Хаиму, украдкой взглянул на хлопотавшую по хозяйству Ойю и как бы нехотя пригласил Хаима прогуляться. Они присели на огромные камни-валуны, лежавшие за времянкой Хаима.
Лениво начал Нуци разговор; позевывая, спросил о самочувствии Ойи, пишет ли ему отец, здорова ли сестренка; завел речь о делах давно минувших дней, но ни словом не коснулся причины своего длительного отсутствия.
Все это Хаим отмечал про себя, понимая, что Ионасу, очевидно, не удалось уговорить главного экспедитора вернуть его, Хаима, на работу в порт.
– Так, оказывается, твоя Ойя не из наших? – вдруг вне связи со всем предыдущим сказал Нуци, не глядя на Хаима. – А ты скрывал…
«Значит, узнал меня реббе! Это он, Бен-Цион Хагера, повинен в моем увольнении…» – сразу понял Хаим и признался:
– Да, Нуци. Она гречанка… Но я ровным счетом не понимаю, какое это имеет значение? Она спасла мне жизнь! Ты понимаешь, что это значит? Есть же какие-то нормы порядочности!
Ионас обдал Хаима презрительным взглядом, но Хаим, не замечая этого, продолжал:
– К тому же я люблю ее! Ведь речь идет о моей жене! Жене, которая скоро станет матерью моего ребенка! Ты понимаешь это, Нуцик?
– Да, да, Хаим! Конечно, понимаю… – поспешил ответить Нуци. – И она тебя любит. Это всем известно. И труженица она у тебя отменная: на фабрике ею очень довольны, и дома хлопочет, как муравей. Мы всегда удивляемся ее неутомимости, честное слово! Все это так… Но согласись, что и ты, как холуц квуца, носящего имя нашего Иосифа Трумпельдора, нарушил общепризнанные каноны поведения! Более того, ты…
– Погоди, Нуцик! – недоуменно пожав плечами, прервал своего приятеля Хаим. – Чем же, интересно, я их нарушил? Обворовал кого-нибудь или убил?
– Ну-ну! При чем тут обворовал и всякое такое? Хотя, между прочим, иногда высшие интересы обязывают нас делать и то и другое… И ты не притворяйся непонимающим, не морочь, пожалуйста, мне голову! Не такой уж ты новичок в этом деле, слава богу. А нарушение, о котором я говорю, состоит в том, во-первых, что ты и Ойя даже не обвенчаны!.. Понимаешь, что это означает?
– Ну и что?
– Возможно, для тебя это не имеет значения, – раздраженно продолжал Нуци, – однако ни один порядочный еврей не позволит себе такого… Да, да! И, во-вторых, она же гречанка! Мы и они несовместимы, как небо и земля, как день и ночь! Это ты можешь понять?..
– Подожди, Нуцик! Ты все твердишь, что мы не обвенчаны, что Ойя не нашей национальности и что в этом мое преступление… Пусть так. Но ведь меня никто об этом раньше не спрашивал! Чего же в таком случае все вы всполошились?
– А не спрашивали тебя потому, что ты холуц и, как само собою разумеющееся, правоверный еврей! Так, по крайней мере, полагали мы: я, Симон, Кнох и другие… Мне, доверчивому чудаку, и в голову не приходило, что холуц, прошедший с нами «акшару», может совершить такое!
– Но и я ровным счетом ни разу не задумывался над этим, потому что не видел, да и сейчас не вижу, никакого преступления в том, что жена у меня гречанка, ей-богу.
Упорство Хаима разозлило Ионаса.
– Не заговаривай мне зубы, Хаим! Ты прекрасно знал и раньше, что смешанные браки нашими обычаями запрещены! И не только запрещены, но и преследуются здесь со всей строгостью. Так что не разыгрывай из себя незнайку! И вообще, я удивляюсь твоему нахальству. Серьезно! Ведь только какие-нибудь красные демагоги могут говорить так и, что в миллион раз хуже, мыслить так!.. Это же просто страшно! А ты все-таки холуц с таким уже большим опытом! Холуц, которому здесь оказали большое доверие, приняли в самую чистую, самую честную и лучшую из лучших наших организаций! Людей в нее, ты знаешь, отбирают со всей строгостью. А ты что натворил!
– Ну, ей-богу, Нуцик! Ты все, по-моему, усложняешь и накручиваешь. Ну что такое я натворил? Не понимаю.
Ионас вскочил.
– Ты все еще не понимаешь? Да если бы мы знали, что ты связался с этой гречанкой, разве оказали бы тебе такое доверие? Посвятили бы тебя в святая святых? Никогда! Понимаешь? Ведь ты же обманул всех наших хавэрим… Осквернил самым подлым образом все благородные идеалы «иргун цваи леуми»! Это же знаешь, что такое? Это же… это же граничит с предательством! И за такие штучки по головке у нас не гладят! Понимаешь хоть! Или и сейчас до твоей бессарабской башки это не доходит?!
И Хаиму вспомнилось, как в памятную ночь в кабинете Соломонзона Штерн кричал Майклу: «Вы предатель, и ваше место на виселице!» При мысли о том, что и его могут запросто окрестить предателем и пристрелить, как собаку, Хаим содрогнулся, хотя вины за собой не видел ни в делах своих, ни в помыслах. «Бежал из Румынии в страхе перед тем, что легионеры или, чего доброго, нацисты нагрянут туда и прибьют, – подумал в это мгновение Хаим, – а тут свои то же самое могут сделать с таким же успехом…»
Тяжкие обвинения, которые обрушил на него Ионас, представились Хаиму каким-то чудовищным недоразумением.
– Погоди, Нуцик! Успокойся. Давай разберемся по всем как следует, – стараясь говорить спокойно, примирительно начал Хаим. – Вот ты говоришь, смешанный брак запрещен нашими обычаями. Пусть так. Но ведь ты сам, твоя жена и теща – тоже не сабра, вы тоже не свято блюдете все эти затхлые, изжившие себя обычаи… Да и не только ты и твоя семья, а многие! И ничего. Ровным счетом никто их за это не ругает и не казнит. А Ойя, что она, прокаженная, если появилась на свет божий от родителей-греков! Это же ровным счетом как мы с тобой виновны в том, что нашими родителями оказались евреи! Именно за это нас в Румынии преследовали легионеры, а моя бедная мама умерла от учиненного фашистами погрома, а теперь ты, Нуцик, угрожаешь мне, намекаешь на что-то очень страшное только за то, что жена моя гречанка… Но это как две капли воды похоже на то, что делали и делают фашисты! Ты извини, однако это так!..
Хаим поначалу говорил сдержанно, но потом волнение, закипавшее в его словах, выдало зреющие в нем чувства протеста и нарастающей злобы. Именно в таких случаях мягкость его характера, податливость и даже безволие каким-то чудом превращались в упорство, делавшее Хаима способным перенести тяжкие испытания, но не сдаться. Так было в Болграде, когда его избивали полицейские, требуя назвать товарищей, помогавших ему распространять прокламации «Долой фашизм!». Он не выдал тогда своих единомышленников Илюшку Томова и Вальтера Адами. Так было и на Кипре. Измученный болезнью, беспомощный, он не поддался воле раввина, не женился на его капризной и избалованной дочери, пренебрег и приданым и отстоял свою любовь.
Правда, в Болграде он не чувствовал себя одиноким: с ним были отец, сестренка, друзья, в сочувствие и помощь которых он верил. И на Кипре – рядом была добрая фельдшерица тетя Бетя. Но здесь, в Палестине, он оказался один среди чужих и жестоких людей – религиозных фанатиков, стяжателей, карьеристов, мастеров контрабанды, шантажа и убийства из-за угла. И от них теперь зависела его судьба, его счастье быть с любимым человеком… Хаим знал: от таких, как реббе Бен-Цион Хагера, пощады не жди. При мысли об этом в его душу закрадывался страх, но Хаим уже не мог да и не хотел подавить в себе протест и возмущение.
Между тем Ионас беспокоился только о собственной карьере, успех которой был поставлен под сомнение: как-никак он, Бэнюмэн Ионас, поручился в свое время за холуца Хаима Волдитера и поэтому теперь продолжал устрашать его.
– Одно тебе скажу, Хаим: не шути! – говорил Ионас. – Здесь тебе не Румыния и тем более не Бессарабия… Тут собрались хавэрим что надо, лучшие из лучших со всего мира! Не до шуток им, когда на карту поставлено все во имя великой цели! И никто из них не позволит водить себя за нос, как тебе думается…
Хаим развел руками, хотел что-то возразить, но Ионас прервал его.
– А между прочим, знаешь, что сказал один известный немецкий поэт, по происхождению еврей, относительно того, почему у евреев длинные носы? Он считает, что повинен в этом сам бог, поскольку обещал иудеям государство на обетованной земле, где реки будут молочными, берега кисельными и горы медовыми! Но вот уже почти две тысячи лет этот бог водит наших соплеменников за нос… Так что хватит с нас надежд на небо, хватит снисхождений… Теперь мы будем брать все своими руками, а в руки положим оружие!.. Вот так. Иначе останемся не только с длинным носом, но и со слишком длинной рукой… Достаточно ее протягивать! Милостыню мы больше ни у кого просить не намерены, как, впрочем, и на обещания и посулы не надеемся… Хватит!
Ионас горячился, размахивал руками, то и дело вытирал платком вспотевшие лоб и шею, плевался.
– У тебя остался единственный выход из создавшегося положения, – наконец решился Нуци Ионас высказать мысль, ради которой и пришел к Хаиму. – Пусть она едет себе туда, откуда приехала… Так будет лучше. Поверь мне. И с тебя свалится эта обуза! Ведь ты же с ней собираешься жить здесь, на земле предков, завещавших нам беречь чистоту веры! Здесь, а не где-нибудь в Европе. Неужели это трудно понять, честное слово?!
Понурив голову, Хаим молча слушал Ионаса; он не изменил позы, не проронил ни слова даже тогда, когда Нуци, заключив свою бурную тираду, назвал Хаима «поистине честным дураком».
– Имей в виду, – Ионас принял молчание Хаима за добрый знак и, чтобы окончательно сломить его колебание, проговорил, веско и злобно отчеканивая слова, – церемониться с тобой не будут! Не поможет ни Соломонзон со своими миллионами, ни тем более я… Между прочим, твой фокус и мне доставил кучу неприятностей. Я же за тебя поручился и в какой-то степени отвечал за твои поступки! Потому-то тебе и оказали доверие. Да еще какое доверие! Подумать только, ужас! А ты вместо благодарности подводишь меня самым подлым образом!
– Можешь удивляться и обзывать меня последними словами, – тихо заговорил Хаим, – можешь угрожать расправой, но я Ойю никогда не оставлю… Ей-богу! Сказать, что я ее люблю, – не то слово. Я не мыслю себе жизни без нее…
Потеряв самообладание, Ионас схватил Хаима за ворот рубашки, рывком притянул к себе и яростно, брызгая слюной, прошипел:
– Холуц Волдитер, ты слюнтяй и глупец или просто предатель! Тебе юбка паршивой гречанки дороже нашего великого дела! Но знай, такие фокусы здесь заканчиваются плачевно. Пожалеешь, но будет поздно. В последний раз говорю тебе: кончай с этой девкой!
– Не будет этого!
Глазами, полными презрения и злобы, смотрел Ионас на жалкую, ссутулившуюся фигуру опечаленного, но твердого в своем решении Хаима.
– Хавэр Дувэд Кнох был прав, сказав, что ты все это специально подстроил, чтобы очернить нас! – процедил сквозь зубы Ионас. – Что ж! За это ты ответишь… И очень крепко! – Он резко повернулся спиной к Хаиму и зашагал прочь.
Нуци Ионас солгал. Давид Кнох действительно сказал нечто подобное, но не в адрес Хаима Волдитера, а на сей раз в адрес Нуци Ионаса, якобы умышленно скрывшего порочные факты из жизни своего подопечного холуца. Кнох предъявил ему обвинение в злоупотреблении положением доверенного лица Симона Соломонзона. Именно Нуци вменялось в обязанность повседневно наблюдать за Хаимом, изучать его характер, настроения, следить за поведением, знать обо всех его связях, систематически, исподволь готовить его для исполнения самых серьезных, сугубо секретных поручений. Потому-то Хаима и поселили на одном дворе с Ионасом.
Хаим хотя и был удручен разговором с Ионасом, однако вздохнул с облегчением от сознания, что он, ни секунды не колеблясь, отказался расстаться с Ойей и что отныне он не связан с шайкой законспирированных убийц и контрабандистов, маскирующих свою черную работу болтовней «о высоких идеалах и кровных чаяниях народа-скитальца».
Ойя встретила Хаима настороженным взглядом, но, не обнаружив на его лице признаков тревоги, принялась за стряпню.
Хаим прилег, как обычно это делал по возвращении с работы, ожидая, пока Ойя приготовит ужин, закрыл глаза. И мрачные мысли, тесня и обгоняя друг друга, закружились в его голове. Иногда его охватывало отчаяние, но он тут же старался успокоить себя: «Переживем! Свет не сошелся клином на Ионасе и Соломонзоне. И кто знает, чем бы еще закончилась моя работа у них. Может, и меня «паровоз» отправил бы на съедение рыбам, как это делал с другими, неугодными ему людьми. Не бог весть каким сложным делом для всей этой компании было отправить к праотцам даже такого человека, как Майкл, а я что? Песчинка… Нет, я правильно сделал, что порвал с этой братией. Как бы худо нам с Ойей ни было, с голоду не умрем. Буду работать кем угодно! Никакой труд меня не страшит. И я найду работу, непременно найду… Из-под земли выкопаю, но найду…»
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
После минутной остановки на полустанке Гречень поезд тронулся, и на мгновение задремавший жандарм испуганно выпучил глаза… Увидев, однако, своего подопечного спокойно сидящим на прежнем месте, он сконфуженно засуетился, стал приводить себя в порядок: сдвинул назад съехавшую на лоб изрядно засаленную желто-зеленую капелу с большим надломленным козырьком, раздвинул соскользнувшие с боков спаренные кожаные патронташи, заполненные обоймами, затем торопливо протер рукавом затвор и ствол карабина, старательно прошелся полой шинели по ложу и под прицельной рамкой, оглядел вдоль и поперек оружие, наконец встал, пощупал заложенный за высокий манжет левого рукава большой желтый пакет с множеством сургучных печатей и штемпелей, который был вручен ему в галацкой тюрьме вместе с заключенным.
Взглянув на пристально следившего за его движениями заключенного, конвоир огрызнулся:
– Чего это зенки вылупил? На следующей выходим…
Илья Томов приподнялся было, но жандарм осадил его:
– Сидеть! Дам команду, когда понадобится вставать… И знай: попытка к бегству пресекается вот этим…
Конвоир для полной ясности приподнял карабин, оттянул на себя надраенную до блеска рукоятку затвора, наполовину вытащив из ствола медную гильзу со свинцовой пулей, и тут же резким движением задвинул ее обратно в ствол.
– Без предупреждения! И без осечки… На месте!
Томов молчал, устремив насмешливо-укоризненный взгляд на своего стража, слово в слово повторившего то, что говорил в галацкой тюрьме перед тем, как повести его на вокзал. С тех пор конвойный не вымолвил ни звука. Стерег его, как овчарка: одним взглядом…
Накануне доставки Томова в Галац вагон «дуба», заполненный до отказа пересыльными, ушел с составом, курсирующим по маршруту Галац – Басарабяскэ – Тигина – Кишинэу… До следующего рейса Томова оставили в местной тюрьме. Одна часть здания была новая. Современная. Строили ее с учетом всех требований времени. Отчего тюрьма в Галаце удостоилась столь большого внимания властей? Разумеется, не только потому, что город славился портом на Дунае, необычным по архитектурному исполнению памятником Костаке Негри, роскошной улицей Домняскэ[71]71
Господская.
[Закрыть] с множеством оптовых магазинов или известной во всей стране «страдой Нопций»[72]72
Улица ночи.
[Закрыть] с длинной вереницей убогих и грязных притонов с «живым товаром», импортированным из придунайских стран… На протяжении столетий по дорогам, пролегавшим через Галац, катились волны войн на восток и север, затем с севера и востока на юг и запад… Застряли здесь вместе с неграмотностью и нищетой трясучая малярия и пеллагра, умножались преступность и сифилис, а в бурные воды Дуная все больше и больше стекало крови непокорных режиму грузчиков с элеватора и доков, рабочих куцоватой судоверфи и узловой железнодорожной станции, трамвайного депо и захудалых мастерских и типографий, мельниц и мыловарен… Этому люду стражи порядка уделяли в Галаце, как и в остальной части страны, гораздо больше внимания, чем, скажем, прославленным в дурных легендах и в пошлых песенках налетчику Теренти или взломщику Корою. Одно упоминание о них продолжало приводить в дрожь мелких торговцев и шинкарей, лавочников и рыбаков… Галац и этим славился. Хотя такой же город и порт на Дунае, расположенный совсем близко, – Брэила – был более тихим и менее оживленным, более «почтенным» и менее знаменитым. Его горожане, как, впрочем, и жители других городов королевства, неспроста повторяли слова, заимствованные у извозчиков: «Посторонись, Брэила, – горит Галац!»
Галац в самом деле «горел». Расположенный на границе с Россией, он являлся как бы первым «полустанком», куда вторгался свежий ветерок уже кружившего в Бессарабии вихря революции… В Галаце еще в 1917 году проходил съезд солдатских депутатов русской армии на румынском фронте; в Галац на съезд прибыл из Бессарабии Григорий Котовский… Галац бурлил… И не случайно этот город был удостоен столь пристального внимания уездной префектуры, местной знати, священной епископии и военного трибунала, определивших своим высочайшим решением наилучшим образом достроить тюрьму…
У заключенных просторной и до предела заполненной уголовниками камеры, в которую поместили Илью Томова, не существовало ни имен, ни фамилий, ни номеров. У каждого была только кличка, притом одна причудливее другой: «Граф» и «Недорезанный», «Христос» и «Венерик», «Пречистая дева» и «Подлюга»…
Здесь Томов познал мир людей, живущих по неписаным законам и отличающихся жесточайшими нравами. Прибывшие сюда на «доследование» уголовники, не остерегаясь надзирателей, громогласно называли свое переселение в эту тюрьму «вояжем перед свадьбой», что на воровском жаргоне означало «перед бегством»… Тюремщики в ответ лишь вежливо улыбались. Вообще уголовники жили в тюрьме по-барски. При содействии охранников, отнюдь не бескорыстно, они получали все, что им заблагорассудится, открыто попирали такие «строжайшие запреты», как курение табака и игра в карты. С рассвета и до глубокой ночи они резались в очко, и, словно пар в бане, здесь круглосуточно стоял непроглядный, едкий дым от разных сигарет, начиная с дорогостоящих «Регале Ре-мэ-сэ» и кончая грошовыми «Плугарь». Судьба человека, тем более случайно попавшего в эту среду и незнакомого с ее дикими нравами и обычаями, нередко зависела от прихоти какого-нибудь главаря, владевшего припрятанной половинкой лезвия, как, впрочем, и от слепого случая – игральной карты, «орла» или «решки»…
Томову повезло. В старой, разодранной при обыске в сигуранце куртке, небритый и изможденный, он походил на обыкновенного попрошайку, каких в королевстве развелось неисчислимое множество. К тому же уголовники были заняты раздорами по поводу какого-то не доведенного до конца дележа и потому не обратили должного внимания на новичка… А к исходу вторых суток пребывания Ильи в этом обществе тюремщики перевели его в освободившуюся камеру, куда одновременно поместили вновь прибывшего политзаключенного.
Вначале соседи по камере вели себя настороженно, подозревая друг в друге подсаженного тюремной администрацией провокатора. Когда же выяснилось, что коренастый пожилой сосед по камере родом из Вилково и многократно наезжал в Болград, Илья спросил, кого он знает в том городе. К великому своему удивлению, Томов прежде всего услышал имя своего деда Ильи Липатова, вместе с которым собеседник несколько лет тому назад отбывал в Дофтане срок за революционную деятельность. Более того, оказалось, что незадолго до Нового года он был в Болграде, видел и деда, и мать Ильи…
Беседа приняла доверительный характер. Выяснилось также, что сосед Ильи знает о протесте политических узников бухарестской тюрьмы Вэкэрешть, о зверствах тюремщиков, в результате которых погиб старый подпольщик Самуэль Коган и лишился зрения известный революционер Мирча Никулеску. Томов сообщил лишь некоторые подробности и назвал имена главных виновников этих преступлений.
На протяжении почти трех суток Илья Томов вел с соседом по камере оживленный разговор. Томов узнал от собеседника, что в Галаце еще в семнадцатом году, во время съезда солдатских депутатов шестой русской армии на румынском фронте, на юге Бессарабии, белогвардейцы учинили беспорядки. Съезд направил туда нескольких товарищей во главе с Котовским. Уполномоченные прибыли в Болград в тот момент, когда на базарной площади, недалеко от Николаевской церкви, провокаторы подстрекали огромную толпу возобновить в городе погромы.
– Один из провокаторов, – рассказывал Томову сосед по камере, – спросил подошедшего к нему высокого, стройного, с бритой головой человека в полувоенной форме, кто он такой. «Котовский!» – ответил подошедший и тотчас же на виду у всех расстрелял провокатора. В этот момент другой белогвардеец, стоявший позади Котовского, выхватил из кобуры наган и стал целиться в Григория Ивановича, но…
Томов перебил рассказчика:
– Но это заметил мой дед Липатов! Он тут же пристукнул гада!
– Верно! Значит, ты знаешь об этом?
С неослабным интересом слушал Илья рассказы старшего товарища о героической борьбе коммунистов-подпольщиков, об их стойкости и беспредельной преданности рабочему классу, об умении соблюдать строжайшую конспирацию.
Илья понимал, что судьба свела его с человеком незаурядным, он догадывался, что его собеседник – не рядовой коммунист, и лишь много времени спустя узнал, что это был один из вожаков бессарабских революционеров-подпольщиков. И только перед расставанием он назвал Илье свое имя. Это был Сергей Данилович Бурлаченко, всего две недели тому назад арестованный в Кишиневе по доносу предателя.
Нехотя Томов покинул камеру тюрьмы в Галаце. Несмотря на очень короткий срок знакомства, Бурлаченко стал для Ильи столь же близким и уважаемым старшим товарищем, как и Захария Илиеску. Илья охотно отсидел бы весь определенный ему властями срок если не в одной камере с земляком из Вилково, то хотя бы в одной с ним тюрьме вместо того, чтобы конвоем следовать в родной город Болград… и там… Что будет там, он не знал, но и не ждал ничего хорошего. Порою ему казалось, что инспектор Солокану решил предать его суду и устроить показательный процесс именно в Болграде, где его многие знают.
Мысль об этом и пугала Илью, и вселяла в него бодрость. Он чувствовал, насколько велика будет его ответственность перед товарищами по бухарестскому подполью и перед партией в целом за каждое произнесенное слово и за все свое поведение на суде. Вместе с тем со свойственным молодости мечтанием о героизме Илья мысленно произносил пламенные речи против угнетателей народа, против деспотического королевского строя. Он хотел предстать перед матерью и дедом, перед всеми земляками-болградцами – да что там болградцами, перед всем человечеством – таким же бесстрашным борцом, каким проявил себя на фашистском судилище в Лейпциге болгарин Димитров!..
В течение всей ночи после разлуки с Бурлаченко Илья вновь и вновь вспоминал его рассказ, напутствия и советы. Сидя в отгороженной для перевозки арестантов части старенького почтового вагона, Томов машинально застегивал и расстегивал единственную уцелевшую пуговицу на вконец истрепанной грубошерстной куртке. В вагоне было сыро, холодно, воняло мазутом, гарью и мочой. Тускло светила засиженная мухами, покрытая слоями сажи лампочка.
Погруженный в воспоминания, Илья ничего этого не замечал, как и равномерного стука колес на стыках рельсов. И только протяжный гудок паровоза заставил его встрепенуться. Он поднял голову, взглянул в узкое продолговатое окно, затемненное снаружи металлической сеткой и изнутри огражденное решеткой из массивных железных прутьев. Чуть брезжил рассвет.
Поезд шел все еще полным ходом, спускаясь от греченского полустанка к озеру Ялпуг. Места эти были знакомы Томову. Не раз бывал он здесь с юнцами монархической организации «черчеташи» в походах, по вечерам они разжигали огромные костры и пели воинственные песни, прославлявшие короля, династию, монарший род. Тогда Илья мечтал окончить лицей, стать летчиком, защищать престол…
Теперь он знал истинную цену всему этому и, не желая делать скидки на возраст, укорял себя за то, что не внял возражениям матери, проявил легкомысленное упорство и в результате оказался в одном строю с фашиствующими юнцами из состоятельных семей. Уже сделанное и испытанное на поприще революционной работы казалось ему теперь недостаточным искуплением допущенной в ранней молодости ошибки.
И снова Илья задумался над тем, что ждет его впереди, снова перед его мысленным взором предстал переполненный болградцами зал заседания суда и сам он, произносящий речь, в которой непременно публично покается в том, что некогда был черчеташем, а заодно разоблачит фашистскую сущность этой организации. Илья ненавидел себя, когда вспоминал, как шагал под бой барабанов в факельном шествии и до одурения орал вместе с другими всякую чушь во славу его величества короля Кароля Второго, воеводы де Алба-Юлия Михая, принца Николая, королевы… Томову стало противно.
И опять протяжный гудок паровоза прервал ход его мыслей и привлек взор к окну. Поезд приближался к станции Траян-вал, что в семи километрах от родного Болграда. Проносились мимо исхоженные места, вспоминались друзья детства, шалости и проказы, на которые он был большой мастак…
Поезд замедлил ход, все реже и реже становился перестук колес. Сумбурные мысли и чувства охватили Илью в эти минуты. То он с радостью думал о возможной встрече с матерью и дедом, то вдруг ему становилось стыдно, когда представлял себя идущим в разодранной куртке под конвоем жандарма на виду у земляков. Спохватившись, он строго спрашивал себя: «Стыдно? Чепуха. Мне нечего стыдиться! Я не уголовник… Напротив, и мать, и дед должны только гордиться мною, а на всяких гаснеров и попа мне наплевать…»
Однако, вспомнив в ряду земляков Изабеллу Раевскую, Илья все же подумал, что было бы хорошо, если бы в это совсем еще раннее время его повезли в Болград на рейсовом автобусе. Тогда бы наверняка его никто не увидел…
– Все… Вставай! – скомандовал жандарм и указал дулом карабина на открытую дверь. – Выходи.
Со стороны уходящих к хвосту состава пассажирских вагонов послышались громкие певучие голоса кондукторов:
– Траян-вал! Пять мину-ут… Болград! Кто выходит, господа, прошу не задерживаться… Пять мину-ут стоянка-а!
Едва Томов успел с наслаждением вдохнуть свежий воздух, увидеть над собой необъятное предутреннее небо и вместе с конвоиром ступить на выщербленный тротуар перрона, как к почтовому вагону чуть не бегом приблизились два жандарма. Последовал приглушенный обмен паролями, и один из встречающих тотчас же скомандовал следовать за ним. Конвоир из Галаца и второй жандарм пошли вслед за Томовым вдоль безлюдного перрона. Шедший впереди капрал обошел полупустой, дожидавшийся пассажиров автобус, и Томов с огорчением подумал, что не сбылась его надежда.
Утреннюю тишину вдруг разом нарушили хриплые голоса выбегающих из здания вокзала продавцов газет:
– «Универсул»! «Курентул»! «Тимпул»!.. Свежие газеты со старыми новостями…
– «Крединца»! «Темпо»! «Экоул»!.. Англия и Франция заключают перемирие с третьим рейхом!.. Новая речь германского канцлера…
– «Ултима-ора»! Специальный выпуск! Налет чикагских гангстеров на общественную уборную… Потрясающее происшествие! «Ултима-ора-а»!..
Оглушительный гудок и резкие выхлопы забуксовавшего паровоза, трескучий перезвон буферных тарелок, пронесшийся, как по клавишам, вдоль состава, спугнул с вековых акаций и шелковиц тучу откормленных ворон. Зловещим показался Илье птичий гомон, заглушивший человеческие голоса.
Томов старался отвлечься от грустных дум, смотрел по сторонам, полной грудью вдыхал ароматный воздух, насыщенный запахами свежей травы, набухавших почек и местами уже появившейся молодой листвы на деревьях. Но чем дальше они уходили от станции, тем реже встречалась зелень и тем сильнее ощущался запах керосина… Эскорт приближался к стройным рядам возвышавшихся к небу, как огромные снаряды, ярко-желтых баков-цистерн с красиво выписанными на них зеленой краской названиями нефтяного концерна – «Дистрибуция». На противоположной стороне дороги далеко вдаль тянулся штакетный забор со множеством цветных рекламных вывесок различных американских фирм: «Стандарт-ойл», «Осин-ойл», «Вега-ойл», «Гарга-ойл», «Мобил-ойл», а за забором виднелись менее яркие и более низкие, с поблекшей краской баки, многоэтажные ярусы бочек и ящиков, горы пиломатериалов и строительного железа, пакгаузы и навесы со скобяными, стекольными и бакалейными товарами… Все это принадлежало известной в стране фирме «Жак Цоллер и К°» – грозному конкуренту концерна «Дистрибуция».
Едва миновав эти владения магнатов капитала, Томов и его «телохранители» вошли в большое село Табак, заселенное болгарами и гагаузами. Через него пролегало узкое, плохо укатанное и густо усыпанное мелким гравием «национальное шоссе», связывающее железнодорожную станцию Траян-вал с Болградом и уездным городом Измаилом. По обеим сторонам шоссе за жиденькими палисадниками проглядывали приземистые хатенки с почерневшими от копоти, грязи и ветхости камышовыми и соломенными крышами, а позади них – узенькие, точно заплатки, приусадебные участки, на которых, несмотря на раннее утро, уже трудились люди, вскапывали мотыгами землю.
Хруст гравия под коваными боканками конвоиров всполошил сторожевых псов, из конца в конец села поднялся злобный собачий лай, почему-то напоминавший Илье зловещее карканье ворон при выходе со станции Траян-вал. Кое-где у изгородей появились крестьяне в остроконечных мерлушковых шапках и разукрашенных черным орнаментом овчинных безрукавках. Одни из них, еще издали завидев жандармов, тотчас же возвращались к прерванной работе, другие, терпеливо дождавшись их приближения, покорно снимали шапки и кланялись… Кому они кланялись? Жандармам, движимые привитым столетиями гнета раболепием? Или арестанту, проявляя сочувствие этому парню, чем-то не потрафившему властям, недобрым к бедному люду?