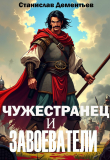Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
201. А теперь, дождавшись, когда некому за него заступиться, поскольку любящие утратили связи с землей, три сестры Макбета вершат ему – осмеяние? Не все спасители получили их жаркую благодарность? И я почти уверена, что он служил инженером – и там, где бьется инженерная мысль. В крайнем случае можете поместить в Академию – его брата Вольдемара. Моего дядю Вольдемара. Хотя его профессия для меня – тайна. Я не знаю, как его выгородить, отказать – в добротном, не исчерпавшем срок поступке, мы не были с ним знакомы…
203. Но кто-то должен за него заступиться? Где его дети? Или спустятся назад какие-нибудь Белка и Стрелка…
205. Всех затмила – польская жена, ее звали Ядвига. Пугающей красоты! Вот за ней, кажется, остались – двоюродные… или внучатые…
XXM
…и тогда его взгляд обратился в раскатившееся, как гром, небо ранней весны – туда, где оттаяла смена тщеславной лазури, какая родится лишь над морем, и его просьба облеклась в слова: если суждено свершиться этому событию, совершенно побочному и необязательному, но повергающему его – во прах, дано угодить в него этой летящей откуда-то сверху чаше, хоть могла бы и обогнуть, и края ее столь искусаны, что не знаешь, к какому рубежу себя приложить… да, так пусть прежде он встретит того человека, воздух знает, о ком… понимая, что условия невозможны, да и неисполнимы, что пути, обгоняющие обоих, чтоб вынашивать и продлять этот город сомнений и совпадений, как будто смирившийся с собой – в семафорах солнц и лун и в расстановке тюрем дождя и иных цитаделей, до сих пор поспевавших к тому и к другому – на староуличном зоосаде, каменеющем и бледнеющем – в пристальных взорах… в отнесенных к слепоте нарядах лилий и невест, и той и этой Фемиды, и в судных днях… наконец, к Шопену из окон – и отхлынувшему по лестницам вниз… что этот город двух господ никогда не сведет их пути друг с другом. Что рассыпанные ими следы совместятся, лишь когда их начнут выметать – в общей спешке уличных обломков, в изможденье и оседании лицевых линий, и в полуночничестве кумиров, украдкой выбирающих себя из разлетевшихся стекол и дневниковых клочьев… Словом, так пусть он увидит его – хотя бы на пустое мгновение!
И уже на сломе третьего дня вдруг случилось чудо: тот человек шел ему навстречу улицей Вечера и Весны, пронося в волосах своих – угли и патроны ветра и подняв зябкий ворот темно-красного, выкроенного из заката плаща, и торопился, держась совсем близко от стен, от их отпущенного на второй план камня, и не видел просившего. Впрочем, и тому удалось заметить испрошенного – лишь в последний миг, чуть глубже рассеянности – и все бы минуло…
Видение, которое и неделю спустя… но рассыпанное на прокат параллелей: краски, игральные кости, гору тьмы – предстало в совсем случайном для него, утвердившемся уже за заставой дня переулке, где кости огней были брошены – в проигрыш и бездействовали, и ничто не отчеканивали от полной тьмы, лишь высота отделяла – от града звезд, и вдруг взошли и полыхали набухшие багровые буквы, имя кафе: Дамаск, и в замкнувшемся ночном воздухе построился грозный ряд поднявших вороты пунцовых окон, плеща под полой – непроницаемой восточной музыкой…
И новую неделю спустя – отблеск отблеска… в его глазах – или в волочащемся путешествии волнующимся на стороны трамваем, почти сошедшим – в разбитую на квадраты серебряную весну и скрепленным – завиральной длиной и спуртом бегущих по потолку поручней, и вылощенных рекламой карнизов, и скачущими из листовки в листовку – одними и теми же похвальбами и призывами… Спина сидения, рядом с которым он встал, зашлась роковыми рок-группами и футбольными клубами черного фломастера и не менее черными ошибками. Сидящая же по пояс в ошибках сих, облокотив на них тело медведя, но лицо сохраня учительское, развернув подозрительную газетную полосу, изучала обтекающие двух помрачительных плейбоев – версии их развода… Кто-то за плечом без конца прочищал горло и монотонно перхал, яростно исторгая из глубин – гибель от чужой кости. Где-то шелестели неисчислимые свертки, недовольно переукладываясь… Большая старуха в плюше, расползающемся от коричневого к воробьиному, от разных пуговиц – к многим крючочкам, качаясь, несла по проходу раззявленный пакет из-под молока, скулящий мелочью, и крестилась широко и так быстро, что казалось, у нее просто трясутся руки – или идет землетрясение. Везли букет мелких розовых хризантем в волнующейся гофрированной бумаге. Полугорбатый старик пересаживался на освободившиеся места, без конца меняя и улучшая свои трамвайные условия. На задней площадке то и дело пробовал половину рыка и бежал забвения ротвейлер Грудь Желтого Камня. Недалекий от него пьяница тоже давал голос и пытался распеть жесточайший романс, но, распеваясь второй строкой, не раз был одолеваем внезапной иппохондрией и терял цельность… впрочем, регулярно возобновлял испытания… На бессчетной остановке двери вдруг распахивались не в человечий мир, но в собачий. В проеме перед ротвейлером неуверенно утверждался кривозеркальный образ – мятущийся, пожульканный и оставленный всеми, кроме желтых, в черных защипах, блох. Каменножелтогрудый Р. сбрасывал взятую под двуногими задавленность и расфыркивал бурю нервов. Кожаная дева при поводке, остриженная в красный и фиолетовый пук, говорила на перекатах жвачки: – Рэп, плюнь на нее, она же облает тебя, и все этим кончится. Ты что, этих идиоток не знаешь?..
Через проход от него путешествовала старая Рассказчица с почти белыми глазами, но уточненная и удостоверенная – пальтовыми бантами, хлястиками и прочим ветшающим такелажем, провозя в складках, карманах, под шляпой – сопутствующий товар, дорожный набор: какие-то неотступные от нее полуплешивые местности, пересыпанные снегом нафталина или наоборот, и дрожжевое расползание чулана, и крупные нежно розовые жареные картошки с луком по прозванию поросята… Заносчивость все заносящего в слова… Путешествие в профиль: причастность и отстраненность, полупоклон – к окну, к увечьям и ранам весны, побитой – на кадры трамвайных окон и поэпизодно – на трамваи… В каком-то мгновении бледнели и гасли ночники и спиртовки зимы, в соседнем – уже шла им навстречу метель молочных бабочек… Дальше, униженно заложив в муфту дупла царское достоинство – скрюченные мумии стволов, несомненно, с разграбленными в дымовой завесе ветвей изумрудами и даже бериллами, зеленеющими в отрицательных величинах… И мелькания, и убывания…
На первый взгляд ему показалось, что Рассказчица – всего лишь Бросающая на ветер случайные звуки, случайно сложившиеся в слова, и путешествовала в одиночестве, а между тем ее история не кончалась, она без умолку допроизносила и пополняла, укоряла, нравоучала, комментировала кому-то слепцу – знаки, проходящие в этой части весны – под профанными смыслами, хотя вся их истинная грандиозность… Но поскольку окно ее обращалось – к другим, сторонним значениям, он не мог проверить, как хороша интерпретация, и придраться, и спорить. Притом его смущал ненужный рефрен, заключавший каждые несколько фраз, – Рассказчица неожиданно объявляла вязким официальным голосом: – Найден замшевый портмонет с тяжелой связкой ключей. Вам стоит немедленно обратиться… – здесь начинались сырые причмокивания, кашель и шелест – и не следовало ничего, кроме начала нового периода говорения.
Ему все время хотелось увидеть ее подразумеваемого собеседника, хотя бы – кого-то сидящего или стоящего поблизости, но, несколько раз оглянувшись, он не встретил ни тех ни других. Вагон качался, смещал пассажиров, сдавал их в другие эпизоды, кто-то новый шел по проходу… Иногда Рассказчица, или Бросающая на ветер случайные звуки, допускала краткие паузы – возможно, слепец, он же невидимый, ей отвечал.
Последняя фраза, что ему посчастливилось ухватить, была просительной и почти льстивой: – Я же все время говорю тебе, – громко шептала она, – ничего чужого не ешь! Ничего чужого…
И когда сверху донизу разорвалась вдруг завеса, вернее – раскрылась трамвайная дверь, он уже на выходе при случайном полуобороте все же успел увидеть собеседника. Перед Рассказчицей и Бросающей, внимая реке ее слов, ползущей к расколу – надвое или…
IIX
Изгнание: несущий и несомый —
сквозь зыби и смещенья: вечный скарб.
Навет и ветер – в полах, вперехват,
арканом изгоняя из аркад,
построенных для леса, траур сосен.
Забывчивость разнесшейся реки,
занесшей, изгоняя повторенья,
во все просветы – светы побережья,
и что ни арка – взмах ребра и гребень
волны, ее взыванья и витки,
и если не вода, так междуречье.
Не сущее – огонь над дверью вод,
несомый навзничь – золотой канвой.
Он глушит все. Врастанье в черный ствол
теченья или отблесков решетки…
И вспученные реки оглушенных
идут вверх дном: исподом и подшерстком
и хищным рвом.
бегущие трепеты бегущих
Подробности ненадежны – ни в единении, ни вразбивку, но примерный рисунок таков. Властительный полузлодей предлагает младшим подчиненным – встретить кого-то утреннего приезжего и скрасить ему начала чужого города, а дальше поручитель, чуть свет груженный чем-то значительным, перехватит гостя. Домочадцы патрона – в дальних раскатах лета и потому не могут принять удар. И к чему смущать любезных, если можно – заканителить сотрудников, обложить и обвить непереводящимися просьбами. Конечно, у легконогих полно собственных бродилок, да пусть откажут тому, в чьих справных пальцах – нити их служб и судеб!
Но на сей раз дело и правда – не самое каторжное: подрезанный день, коих у молодых – как по земле лугов, и в одном дурном дне тоже можно настричь рубиновый миг: чье-то окно с палящим цветочным карнизом, пунцовое шаманство летних листьев или выложенная серебряными овчинками призывная дорога – над горизонтом и прочее, выпить скромную ложку времени, в которой горчит счастье, неважно – меж чем и чем. Речь вообще – о половине дня, и та распилена – на нескольких исполнителей: владелец колес, приятный юноша Петр, встретит приезжего и доставит к месту гостеприимства (логово патрона), и тут подсоединится нежная серна, дева Эрна – с чаепитием, итого: состоять при госте завтрак и еще щепотку – меньше хохмы. Чужестранец, по некоторым домыслам, подточен недугом или общественной борьбой, растратил слоганы или взоры, чем и показаны встреча и соприсутствие, а мегаполис ему не ровня – и не распечатает навстречу свои любимые улицы, ни двери съедобных ресторанов… Так, войдя в заведение «На водах», гость понадеется утолить аппетит – на экзотическом острове посреди океанской сини или на песне вешних ручьев, а ресторация лишь объявляет в названии, что все готовит – на воде. Зато нежная серна Эрна выпоит сошедшему с длинной дороги – радушные напитки, предложит прошвырнуться мимо хорошей архитектуры – или промчаться верхом на Петре в картинную галерею, к знакомству с животным миром края, наконец – задержаться на картинах пересекающей город жизни (музей под открытым небом), а если прибывший равнодушен к кладам местного краеведения – к откопавшимся зубилам, размороженным хрящикам мамонта, и в ожидании поручителя мы видим себя – в креслах у телевизора, в последних научных опусах хозяина, тогда нежная Эрна возрадует вас – вторыми и третьими нектарами, а юноша Петр – новой очередью здешних известий. В общем: человеколюбие рука об руку, кротость и послушание! Пока не вернется хозяин, неизвестно чем призванный, олицетворение подавляющей силы. Не трансцендентной, противостоять которой не совсем перспективно, но безвкусной сестрицы, и этой перечить можно, хотя бы – в деталях, но выиграешь – пшик, и лучше представить трудовую душевность – не успеет патрон распахнуть уста, а молодые, по собственным встречным починам, давно претворяют.
Хотя, задуманная конструкция отпущена в реальное не вполне скрупулезно. Целое держится, но что-то недокручено и свободно гуляет, или отрывочно, покоится в недоговоренности. Например, поручитель, обещавшийся быть – в первых тактах полдня, пропадает все глубже, и поручение тянется и тянется… и в конце концов кто-то ощущает себя – узником и в пылу несвободы начинает подозревать, что поручитель не возвратится никогда. И уже составляет и репетирует фразу, с которой обратится к медицинским маргиналам и вдохновит следопытов – стлаться по неостывшему следу.
В конструкции юноша Петр, колесящий, поджидает Эрну – в дому у патрона и представляет чужестранцу, и, если все пожелают проехать в музеум тотчас же, доставит искусстволюбов – прямо к рамам. А в реальном лукавец Петр уже сменил транспорты автомобиль на лифт и обратно, повысил гостя в интерьер и встречает Эрну – на струящихся вдоль парадного парадах лета, и устремлен к близкому выходу из полотна. Дева-серна, нежная в белых бриджах и майке с лямкой в одно плечо и с бабочкой, наколовшей другое, уличает его в неточностях, но слышит – подростковый текст о машине, унаследованной Петром на паях с именем одной нестановой реки: роскошь вдруг подкисла – а кто честный пилот доверит предавшему его мотору драгоценного гостя, тем более – деву, чья жизнь приотворилась чуть на четверть – и вся толпится впереди?! Но Петр пожертвует собой, протащив карету на себе – до ближайшего автосервиса, и, конечно, никто не проверит, действительно ли авто вновь стало рекой, и не вычертит ее русло, ни ловкое время, обеляющее ремонт и отсутствие Петра там, где он подразумеваем, и не проверит свою неразборчивость в приводах, мостах и иных подвесках: стыдно оскорбить юношу подозрением, пусть повесть дрожит и гримасничает.
– Значит, классика? – скептически спрашивает нежная дева. – Здесь, сейчас – и именно твоя бричка?
Странное совпадение – уже не первое в начатом Эрной дне, впрочем, кто подсчитывает?
– Сила постановки – в ансамбле! – восклицает Петр. – Что нам потеря одного с кушать подано?
Ему не обязательно возмущаться, хватит пожать плечами, подсвистеть хорошую музыкальную тему или посмотреть в небо, поймать глазом – салажек в желтом пухе: птенцы облаков, подсмотреть на косогоре лазури, как разрывается блестящая самолетная корда, и ощутить себя свободным… ведь коллизия запущена – и, приложившись губами к сладкой бабочке на плече девы, молодой с той же радостью отбывает вдаль.
Но многая честь предпринятой Эрной жизни давно протиснулась и представилась, например – грандиозный цветок Любовь… возможна плоская раффлезия с марочным ароматом, дохнувшая к Эрне лепесток – в трех станциях ее утра. Влачась к поручителю в жаровне трамвайной, однажды Эрна окунула выжженный покорностью взгляд в окно, не так прозрачное, чтоб рассматривать – высший замысел, точнее, штрихованное улицами – раскатистыми и волосными, привздернутыми и гнутыми ходоком – к своим целям, и в пеших вдруг показался Эрне – бессмертный, молодой голеадор, горделив и размашист – размахнется за голь великолепия, чтоб выиграть и ту сторону, кто до сих пор поклонялся Эрной Единственной, по крайней мере – разделял обращенный к нему восторг ее сердца. Но показался не с Эрной, как должно предположить, а – с незнакомкой, не менее увлекательной, и говорил к ней слова, снесенные от Эрны: то ли разная плотность достоверного – трамвайного и уличного, то ли диафония, а течение августа, слишком кипящее, заносило руку великолепного – на плечи незнакомки, хотя возможны – случайность, и разминка суставов, и жест художественный, равняющий руки – в любви к ближним… Но гадкий вопрос прохватывал Эрну: если двое вместе – уже на утренней магистрали, не сошлись ли – еще на вечерней? Как нежные пальцы Эрны сошлись на долгошеем трамвайном поручне и на ожоге? Однако участие молодого голеадора в этой ветви событий не планировалось, и потому трамвайная Эрна разумно прикрыла веки, позволяя мгновенью довершиться, чтобы следующее было чисто и не сквернилось предвзятостью, а заодно, положась на крутизну рельсов, сместилась к новому окну – и, глядя в дважды свободное это, могла вернуть себе легкое дыхание. То был – не отвесный побег блаженных, но злонравная гримаса окна! Во всяком случае, прохожий, опрометчиво принятый Эрной – за бессмертного, обрел лицо – малярную тоску и незначительность до звона в стеклах, чем можно отзвониться и по его подруге. Сообщество же трамвайных голосов преподавало Эрне на примерах – не факт, что судьба напичкана невзорвавшимися кубышками, но душа подозревающая, душа-зайчиха – презренна и отправится нищенствовать! Правейший в голосах доносил: признаюсь без ложной скромности, моя работа приближается к совершенству! Левый голос, насморочный или еще левее, повествовал: я, наконец, научился гордиться собой!.. А козловатый на гражданской позиции задней площадки задушевно вспоминал: я всегда был поэтом-нонконформистом… Правда, в трех шагах от прощенных невзрачных внезапно сорвал внимание Эрны – еще один кавалер-ходок, и был – несравненно ближе к поджегшему ее сердце. Так подобен, что пальцы девы все туже сходились на длинношеем стебле трамвая, этот – истинно он! И не на партизанских тропах, а на распахнутом проспекте! Распахнут – в окне, в коем Эрна искала спасения, но встретила – еще нечестивее! Запахавшее в шаг к кавалеру – не только уличную красотку, форма одежд – тропическая, но даже… о сундук мертвеца! О клади! Бессмертный, горделив и размашист, голосовал на откосе, чтоб добряки-автомобили перешвырнули его и багаж – к порту воздухоплавающих, к нездешнему счастью, и лица попутных уже не коротили местные радиусы, но ширили международные орбиты!
Кто-то в развязных трамвайных, протискиваясь сквозь Эрну, вытер апогей видимого, и дева не успела подробно рассмотреть поэтов отъезда, нонконформистов счастья. Но, возвратив зрелище, опять вздохнула безоблачно: слава Создавшему, был убедителен и приблизился к совершенству, но и на сей раз – вскользь! Ну, разумеется, там не бывает промахов, и снова ошиблась смотрящая. Но если воспитанная улицей улица чует песьей головой – тайные страхи, и еще не остановлена и предприимчива, отвертеться ли от ее затей столь нежным, как Эрна? Которая в ту же минуту в самом деле увидела – голеадора, нельзя ошибаться трижды, хотя кто считает? Но низколетающая, неаккуратно летящая меж головами то ли черно-белая птица, то ли кусок вчерашней газеты – мета крепкой реалистичности. Настоящий бессмертный размашисто провождал улицу – в беседах с посланницей внемлющих оком, и ртом, и прочим отверстым, возможно, имевшим – декоративный характер: и брюшко, и колено – бронза, во всяком случае – об руку с Восхищением, и железный гладиолус трамвая в руке Эрны почти допревращался в копье. Здесь, при хорошей игре, на первой же остановке – бросают угарный поезд и его подкопченные стоп-комиксы, но отшагивают проспект – назад, навстречу планиде, расплывшейся – на две мины, и вглядываются в каждую – по наущению братства или от имени непринужденности! Но нежная дева задушена чужой волей: властитель мелкий и лукавый – над нами и вокруг – частотнее пограничного столба и, очень похоже, плотояден… Эрна опутана – вырванными у нее обетами, безжалостными посулами и ожиданиями, а также собственными проклятиями – их деморализующее развитие не остановить… Словом, Эрна помещена в цикл, где не выбрасываются из нанятых огненной дугой и громом вагонов, чтобы сличать оконные открытки и взаправдашнюю ярмарку улиц. Эрна превращена, удача надеется – временно, в куклу-имбецила, напяленную фартуками и юбками на раскаленный чайник и вытягивающую на зубах – улыбку победы. Конечно, есть походные телефоны – и в сумочке Эрны, и в складках противника, и можно немедленно протрубить, но уплетешь – что-нибудь восторг по книге книг, наконец вынесенной голеадору – из библиотечных подземелий, и чмоканье, с которым сейчас полистывают мечту и не смеют расколоть праздноречием – священную тишь читален! Наблюдать же – немыслимо асинхронное звуку. Приправленное беззвучным смехом – и удвоенным! Самонадеянно помещенным – в непрозрачное! И Эрна, так и не вытащив телефон, вплетала голос – в идеалы трамвайных: а я предпочитаю – чистые книги, по которым еще не прошлось полчище читателей, жадных прихожан, не вытоптали строки и не набили своих карандашных птиц, и не забрызгали семечками, наваристыми толкованиями и кляксами щец, куда не проникли пастыри, чтоб подбивать прихожан в колонки – под верхней крышкой, без конца прицарапывая новые головы, и никто не встал между мной – и творцом, между нашим снесением – напрямую!
Итак, пылкие розы земные, хранящие меж лепестками – благоуханные романы до гроба, а для бедных – скетчи и анекдоты, теперь курились для Эрны – смрадами и отливали небритой крапивой.
Предполагается эпизод, где приезжий воскресает из раздольных маршей по тверди, хотя неважно, меж каких антраша выкроен рубиновый миг, но не на стойбище скотоводов, а на мякине кресел, выставленных принимающей стороной, и разлистывает страницы, заранее вынесенные ему той же стороной – из подземелий замысла, и, возможно, сдувает присыпавшие страницу перины прежних чтецов или прах писавших, сушит чью-то слезу, а нежная Эрна собирает чай… Да, что естественнее, чем забрести в чужой холодильник, данный тебе насильственным путем, осмотреться и проанализировать чавкающий, сосущий евророзетку, надкусить хрустящее то и углеводное это, или мистифицирующее это и знатное то, перекусить, как соперницу… как все сладости любви, ее стреляющие маслом пампушки в пустышках повидла, слепить выводы о вкусах хозяев (переметных портмонетах, шевролетах, пежотах) – и сляпать ехидно постный гостевой бутерброд, и наблюдать – как работает.
Однако в реальном доверенное лицо подсолено дробью иллюзий, а не мимикой сопереживания. Прекрасная дева дозирует общение голодающих с прекрасным. Точнее, почти не болеет о приезжем и носит по принимающей стороне – не предусмотренную поручителем бурю. Cito: возобновить композицию фигур – от вчера и перевыполнить в завтра, стройную, где не приважены – ложные боги, и чудный голеадор – герой битвы за Эрну, а не за улицу, раздувающую его, как муар, – тут и там, и везде, где ей не хватает массы. Или отозвать ранний круг, тоже успешный, где бессмертный еще не намекнул свое превосходство над рядами и не упорствует во зле существования. Вариант компромиссный: воскресает и расцветает – пока на него смотрит Эрна, в паузах – мятые буераки. Дева медлит с подвижничеством – с подачей угощений, и зреют сухая голодовка и самоедство, а медиатором в кланах вещей опознан – не хладнотелый папа-атлет в белом и храм его кухня, но прибор телефон, возможно, все поправит связь с этого ларчика – форма академическая, держит фундаментальный лексикон и рабочее слияние звучащего – с настоящим, ибо привязан вдали от окон, низко летающих в иллюстрациях, никаких контрагалсов, из познавательного лишь гость с перекрестка дорог – сквозь волынку кухонных, коридорных, кабинетных разворотов, от рамы к раме уменьшаясь, сокращаясь, выветриваясь. В приближении первом – старожил, серебристый лозняк, наст, подсочки глаз каплют голубизну. Во втором, гостином, – чужестранец, у ноги посох, разбередил неустойчивость, захлебывающиеся шоссе и эстакады, расторопные тракты, кислоту троп и тропов, что-то раздражающее, поплывшее, неузнанные запахи… В третьем створе, нагулявшем даль и сливающемся, отставлен – бок о бок с бессмертным, и в тесноте и в сравнении – поэма уныния. Дева-серна не околдована и готовит телефонный разговор, а когда на что-то ложится серебряный блик, вяло перебирает, чем затеплить безмолвие, и наготове – трамвайные голоса: мы ведем большую внутреннюю работу… всегда принимаем эффективные меры… расправляемся безжалостно и мгновенно… Silentium, гул пламени и соловьиный щелк и сип – беспрерывное бушевание чайника, ветерок страниц, раскрывшихся – одному, и в одних руках – уменьшены и неполны. Недостаток аудиозаписи, отмечает Эрна, из хищных птиц, чей орган скуки – желудок, дефицит его уханья, воплей, перестука когтей.
Второе постоянно влекущее Эрну устройство – часы, медаль на лацкане лорда-шкафа, тщательно ретушировано – затерта сечка минут, носогубные складки стрел сняты, чувство вращения не улавливается. Та же стойкость – и у нее на запястье, и Эрна подозревает, что оба счетчика забыли взбодрить – почему не случиться и этому казусу? А если совпали в показаниях, так налицо нечаянная рифма: склероз и девичья рассеянность. Бедная дева кружит по дому стрелой и ищет хронографы, ходики, репетиры и скелетоны, клепсидры или куранты, чтобы отогреть поступь событий двойной плетью, и сама готова пропеть кукушку, но птица-временщик строчит – по-крупному…
Кто-то из новых подруг – зависть к вольным, досада, клаустрофобия – предлагают дорастить скудный круг до аттракциона и обнаружить на принимающей стороне – что-нибудь потаенное. Не трубочку долларов, но состоятельную семейную проблему, знаки порочности, ползущего в поколениях проклятия, наконец, уточнить культурную низость патрона. И, зайдя в медвежий угол сатрапии, дева Эрна для старта лениво отгибает какой-то покров и тянет случайный ящик… в коем – железный и деревянный молоты, иззубрены побиванием мяса, и вспыхнувшие лучами ножи и окантованные багрянцем салфетки – тоже длинно ждут свою трапезу и парируют нечистую совесть Эрны.
Но на носу – очередное дурное совпадение. Входную дверь начиняют тумаками, и нежная дева Эрна танцует и летит – обнять Свободу, а это прибывает соседка, застенная тетя тяжелых лет – и тоже не сердобольничать, а час – принять муки, скорбь и слабость, та и эта покалывают, постреливают, ворошат шлаки, в общем – отталкивающе, особенно – отсутствие прямого провода, на котором дежурит «скорая помощь». Эрна сразу же провожает страдалицу к какому-то кругу цифр… честно пытаясь не спутать телефонный и часовой – все спаяны ее собственными планами и стали одно, хотя кто сказал, что Время не сможет прислать за болящей экипаж? – и доброго пути, доброго периметра… Но к любезному пожеланию предусмотрели скушать изящное драже, «Гедеон Рихтер», а то «Мольтекс», и отрывать Их Скорейшество от толп несчастных, возможно, безнадежных – ради ее пустяка?! Просто дуся чуть-чуть пососедствует – рядом с молодостью, при которой ей не так страшно… и, чтобы не мешать э-э… простите, а ваше имя? Только в этом помещении, до сих пор вас не знавшем, или – в родной среде? – здесь изучают наколотую на плечо Эрны бабочку. Ей показалось или с девой кто-то еще? Позвольте заодно и его статус… Чтобы не мешать, страстотерпица оределится в комнате старшей дочки, с которой дружна во-от с такого ее бессмысленного лепета, конечно, если не возражают нежданные пришельцы. Значит, на площади старшей бессмысленно лепечущей, ни в окрестности Эрна уже не ставит в увлекательной игре «Шмон с пристрастием» и ничего феноменального не выпустит.
Если дева-серна отклонилась от вмененного ей сопереживания голодным, то тревога о здоровье обитающих за стеной еще короче, и не потому, что молодость проморгала увлечение зрелости – сотрясением состава, давлением, прессованием, а просто пожаловавшая не отвечает воспитанному в Эрне вкусу: в щеках пресыщенна, платье – сбор-гигант козочек, или божьих коровок, или чьих-то других, на каждой особи – зрачки, зрачки, так что скорбь наверняка присмотрела, отследила в стеклянных образах и в скривленных бетоном звуках, как в квартиру, что под крылом ее доброты, ввалились – старый волокита и рулевой юноша, которого сменяет дева еще возмутительнее, и не умиротворилась, решила попасти содомитов. Приходила к мухе бабушка-пчела… К тому же скученность недомогающих – и чужестранец и коровница из застенка – как разом остолбеневшие часы. Хотя что есть – совпадение? Каждый из названных и упущенных скромно подбирает факты по росту, насыщает собой – семье на радость, но кто-то приваживает стороннее – в личные происшествия, препоны, турусы, так стоит ли спрашивать, кто – дерзновеннее? Ну и так далее…
Далее – большой писк, то есть бунт! Коронка обиженных и угнетенных: погром. Случайно выпавший на отсутствие угнетателей. Ничто не препятствует включить в истребительных и пастушку, пусть невинна и душой – собиратель.
Просеивая лотерею намерений и наслоений, можно выделить встречу трех пришлецов – в хорошем чужом доме, оставленном хозяином на неясный срок. Представляют разные школы и открытые в мир аппертуры – солнечные, песочные, равные по обтекаемости или неравенству. Связь в слетевшихся – никакая, пунктуально говоря – едва прозрели друг друга. И кто знает, все ли симпатизируют справедливости или слаженности действий? Как ядовито отсутствие домовладельцев: ворвутся в любую минуту, чтоб застичь на жарком, или учтиво потянут, пока пришлецы не избудут томительный балаган отношений?
Возможны эксплуатация хозяйского скарба и спертого интерьера – для розыгрыша полярных сюжетов, подземные толчки, песни, наступление на пятки и иную крайность сошедшихся, трактовка их манер как наущение дьявола. Вдруг беспокоит – пустяк, крупа, но побуждает переосмыслить – целое, как удачное слово взрывает – все повествование. Как единственный недостаток собаки дога – жирный кус – толкает пересмотреть свободу самовыражения.
Поручителя и его неотложное отделяет от исполнителей – дымка. Можно выдать ему общественный надел, диалог с народом, преобразования малой родины, или вовлечь в предпринимательство и неаккуратно передвинуть межу. Фигура занята занятостью и не просит черт, но по-доброму подсобит подчиненным – разгуляться меж долгом и интересом.
Молодые исполнители не понимают, кто на них свалился и надо ли принимать в объятия: девтерагонист – в пьесе патрона, и суть поддерживать в пилигриме огонь, караулить, чтобы не изменил грядущее? Или с прохладцей лавировать между его желаниями? Пододвинуть к сладкому – и обвалять? Во всяком случае, чужестранец вдруг выдвигается в полосу жизни, а до сих пор постился на горизонте – или вовсе не был.
Юноша Петр и Эрна.
Наследующая угождение и нетерпеливый, кто на своем речном двигателе доставил гостя к стылому очагу, к почти обледеневшей кухне и распрощался, и на персте его замыкают пируэт ключи от приимной стороны – даны патроном, по ротозейству прилипли к бегущему и должны возвратиться, а пока чужестранец прикреплен к двери.
Освобожденный, кто поджидал смену, плеснув в раскрытый экипаж – косые срезы, раскаленные повороты и полуповторы улицы Лето и наплыв трамвая «Обещание», везущего деву-серну, поддержанного не поручнями, но копьями, и невольница Эрна – мокроперка, попустившая начальству украсть у нее сверкающий солнцем день, неповторимый, а бессмертному, размашистому голеадору – променять ее на безвестную, почти ничем не отличимую от… тождественны, разумеется – не дева и дева, а преемница – и лагерь сестер…