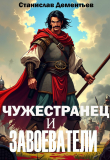Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Герой Преодолевающий – протяженность, связность… Не значит ли, что он не связан с Полиной? Случайное отражение в скрипучем стекле времени? Или – попал на свидетеля, и случайность – свойство последнего? И в том ему мерещится беда! И сцена обречена, потому что замешана – на скоротечных захлестах, накладках, допущениях – на произволе… Мгновение – и все распадется, разъедется – в другие посадки на окна! Если не новый мяч, случайный – от огненного хвоста до хитрована-куста… И вспыхнут еще на солнце памяти – два створчатых крыла, два пленных языка: у Полины – левый собеседник и дым, у дымящегося – правая Полина и небо и деревья над дорогой. И оба – не ведая, что творят, растворят в неведении – прошедший стекло куст трещин, где притаился… Найдите в начале стеклопада, камнехода, в разбеге розг – того, кто давно за вами наблюдает, точнее: единственный владелец целого! И видит себя, и поле трав, и барышню, и дымящегося, захвативших его – предвестием катастрофы. И кто бы ни был носитель случайности – кто ни привнес ее в Сцену у окна, расплатится – собственной головой! И он разгневан… не он ли внес и цвет гнева? Но если досаждает мерцательная геометрия: ромбы рам, острые моменты… та – или третья фигура… жалеть ли – о распавшемся? Ответь, Корнелиус, настигающий пунцовое и порфирное… пролив солнца, и отраженных в нем лиц, и прозвеневший между – обоюдоострый ветер. И рубины гнева: все – случайно, все – мнимое… Как и – мнимость трагедии?
Если б он слышал, о чем болтают в окне! Какие брызги…
Хоть – с рассеянной фразы Полины, не менее несущественной, чем следующие:
– Так чьи это письма? Все внимание – к твоим комментариям, низким сноскам! Сходни в траншеи, в катакомбы…
– Скажи: в Аид, вот для тебя – глубины! А может, перевернешь книгу?
И смех и длинный дым.
– Разве это послания простолюдина? – Полина, с сомнением. – Такой густой выхлоп – борения с колорадским жуком? Но что ни строка – воспроизводство вечных вопросов…
И третий, сдвинув в угол уст – кадящий рожок:
– Алчба и песья суета кухмистеров, свиней, огней… Автора пропустила не ты, а я, даруя – мой комментарий к письмам, а вовсе не… И тебя удручила масса жизни?
– Ты не украл их – чтобы прокомпостировать собственным именем? И из предисловия торчит хоть фаланга суетливого сквернослова?
– Письма нашлись в гостиничном нумере, в восточном экспрессе, в деревенщине-электричке… Или чудом уцелели на пожаре. Есть вариант – с почтальонской сумой, выплюнутой волнами на берег, где играли дети. Не все равно, кто волчатник… кто отстреливал серыми стаями зубчатые буквы, но, увы, провалился – в загадочные обстоятельства? Другой сюжет… власть Рока! Обеспокоившего себя – претворением чьих-то замыслов. И я сажаю на их руины птиц – и разглагольствую о таинственной враждебности обстоятельств. О вечной угрозе – она разлита в воздухе, протянув всю утварь вразбивку, но – прозрачна… до непоправимой минуты.
И пауза – Полина вяжет. И рассеянно:
– Кажется, культивируют слепоту и рост – в человеки, если форма на ком-то свободна… Или – внутреннюю свободу?
Пошатнувшийся по ту сторону трав шиповник – искаженный канон: хаос зеленой черепицы, шипящие кошачьи… смешение канонов куста и грозы…
– Ты мечтала о встрече со мной сто лет… или двести? – уточняет третий. – И вот я здесь – и из иного вещества, чем сны твои! Можешь удостовериться устами, блокировать меня объятием: объявленный не дробится – в щепу для новых снов. Не так беспринципно. И слова, что ты слышишь, принадлежат – не тебе, но мне, и потому – не совсем те и раздражают слух? Но чем длинней я говорю – тем дольше существую… перед лицом дороги… звуконепроницаемого земного пути. И ты не теряешь времени на мое существование, но вяжешь… до слезы восходящее – к вязанному тобой и три, и пять лет…
– Едва ты исчезаешь, я все распускаю, как Пенелопа.
– Полина, Пенелопа, полотно… – и перехватив рогаткой пальцев голубой рожок: – Ужели ты ожидаешь – не меня?
– Тебя – как возможность продолжить работу.
И третий – к висячим ярусам деревьев и разволновавшимся розам:
– Вязать и распускать пространство… и, потянув за нить дороги, возвращать бежавших… ушедших… вкусивших бонтон свободы…
– Воскрешать.
– Реанимировать. Ерунда! Письма, речи, дороги… Тебя угнетают объемные полотна. Великое… Волеизъявление вечности. А я как раз хотел пригласить тебя…
И пух на красных спицах опущен на колени. И Полина рассматривает дымящегося – солнце, рука у глаз.
– С ума сойти, если б ты присутствовал передо мной вечно, как Павлик. Он хоть не комментирует этот нонсенс, а смачно живет.
– Я предпочел величие отсутствия.
– Если я вяжу вечно, значит – мне близка идея. Тебя что-то смущает? – спрашивает Полина.
И третий, вытряхнув из куртки – битый воздух:
– И реальное пространство – ирреально: запах, будто в доме спрятан трехдневный труп.
– Павлик пополнил разлитое в воздухе – кислой капустой. Вогнал между слишком разбитой утварью – целый пифос, роспись чернофигурная: винторогие. Мне без конца носят дары осевшие и залетные данайцы.
– А кто есть все окисляющийся и окозляющийся Павлик?
– Ты и правда вечно отсутствуешь, если не знаешь, – говорит Полина. – Тот тип в красном кресле, с жадностью изучающий твой том. Он, конечно, вряд ли дожмет до комментариев, но чужие письма – это да! Отброшена даже газета «Спорт» – повалены все столбцы, набитые грязным шрифтом и рекордисткой-цифрой, и смазанные разлетом к финишу фото. Обычно он читает это крупное полотно. К несчастью, от Павлика – беспорядки. Спортивные сумы, буйволицы-кроссовки, куски пугающего облачения – плюс окурки и чашки от кофе в непредсказуемых точках: Павлик оставляет вещь не там, где наполнил актуальным смыслом, а – где прогоркла. Зато всегда можно держать его под контролем. По вехам окурков и липких чашек ты прослеживаешь весь жизненный путь Павлика. Или кривую его социальной незначимости – по важным соревнованиям в грязной газете.
И колеблющаяся половина усмешки. И взгляд на дорогу и выше.
– Я полагал, что первой с письмами ознакомишься ты. Но почему не преподать и Павлику – их выкосившую тщету? Какая разница – кто учащийся?
– Мой бывший м-м… младший брат. От братьев не избавиться. Все люди – братья… Лишь бы черпал из твоих комментариев, как из моих наставлений, – и Полина вновь принимается за работу.
И смех и свист дымящегося.
– Надеюсь, тебя не уличат в инцесте?
– Все затоварены собственными проблемами, зачем им – мои? Представь, я в самом деле кое-что заступила – не труп, но… Три дня я жду разоблачения и скандала. Трепещу – так, что мир на грани землетрясения! Комментирую его взахлеб и впроголодь – процеживаю знаки Судьбы. И вот – решающий вечер! Мои черты отточены до сверкания, внутри – пламя ада! И выясняется… – и Полина назидательно поднимает спицу. – Никто и не собирался объявить мне приговор, всем просто – не до меня. И все странные сближения – моя дурная фантазия. Затрут – даже на конкурсе идиоток. А ты говоришь: инцест. Какая мелочь, кто заметит? Свяжет меня – с прозорливцем, читающим во мне – страсть к кислой капусте, и теперь он поддерживает в доме запах преступления. Но почему он увлекся? Это – любовные письма?
И дымящийся, скорбно взявшись за виски – и отдернув руки… и плеск обожженных пальцев на ветру.
– О, недержание сердец… летнего света или тумана – ни стволов, ни ветвей, лишь в воздухе – насыпь мелких красных листьев – чешуя летучей рыбы… А также: подсветка незримого, коронация дня и ночи – зарей и прочие спецэффекты между письмами. Чьи строки – проводка тоски из канувшего в ненаступившее: пожухлый промежуток. Все разъезжающийся… Постфактум, антефактум – предел погрешности мира. И я спускаю перлюстраторов – с лесенки новых ортодоксальных надежд – в подвал страницы, где мелко рекомендую не чтить всерьез, если с сороковой по сотую диастолу, то есть эпистолу автор тяготеет… а в сто тридцатой – внезапно обирает отчизну и уже мнет безвозвратный билет… все равно ни в Ривьерах, ни в веригах между другими систолами – истец и ответчик не сойдутся в тех же значениях… профанных телах – девиация. Точнее, в последний миг – неожиданный эпизод, проходной, но не пропускной… и на проходку железной магистралью сквозь мерзлоту и мокроту, и праздник «Золотой рельс» – еще двести писем. А когда возомнят, что перекусили ненужные сращения вещей – другая внеплановая оказия… – и склоняясь к Полине, смещаясь в интервалах сияния и рассеяния: – Так что же ты натворила, что – трижды бодрствовала?
И покатившийся захлестнутым гусем клубок, расстилая след… Но Полина непроницаема.
– Теперь уже это не выплывет – и совершенно незачем исповедоваться.
– А сложить с души?
– И навьючить на тебя? Я профессионал, а не нюхальщица ветра, чтоб при смене урывок – трясти сморщившийся грешок и плющить всех – моральной силой.
Новый наполненный синью рожок заведен в угол уст… навстречу мчащему по дороге порожняку осени… И выпрямляясь:
– А вдруг некто Острая Мысль… случайный прохожий на шелестящем шагу – раскусит тебя, как…
– Прохожим ты был – тому… не затевай, что ты нисколько не изменился, а я на десять лет заветрелась! – говорит Полина. – И кто верит, что ты явился случайно? Наконец, Острый Зуб или Похотливая Рука с рефлексом разоблачать… я вся – на виду, как то украденное письмо. Как подброшенные тобой – Павлику и всей читающей публике. Как то, что ты вчинил нам – собственные любовные искания. И разлиновал их – регулярным полетом валуна с крыш. Птичник… вольный каменщик!
– Все, что с нами случается, мы и придумываем сами, – пожимает плечами третий.
– И если ты отвернул русло этих северных рек… застывших чернил – ко мне, возможно, письма обращены – ко мне? – спрашивает Полина. – Постфактум. Или антефактум? Чье-то из лиц ортодоксально надеется?
Пауза. Лопаются маковые кульки смеха. И дымящийся:
– А вдруг – твои письма ко мне? Ты забыла, как ежедневно отвязывала порочные… порожистые слова – в такие устья… И я выдвигаю вязь – на поругание, плеснув едким кали сарказма: в отправной миг она – недовязала…
– Распустила…
– Найдите, милые ученики, свежие выражения, чтобы не усомнились в вашей искренности, как я. И не ринулись сличать слово – с делом. Это пособие по риторике для младших школьников.
Солнечные ромбы и блики, цвет – склонность к закату. И новый дробящийся дым, и ветер.
– Моя престарелая соседка влюбилась, – говорит Полина. – Постфактум. В Грэма Грина. Ах, Полечка, я засекла… обнаружила величайшего… Глотаю все, что он написал. Смотрю на других и поражаюсь: как можно читать что-то еще? Зачем?! Надо им срочно раскрыть глаза…
– Вылущить из орбит…
– Пожалуйста, сообщите знакомым. Просто скажите, что есть такой Грэм Грин… – и мечтательно: – Как бы заставить всех читать Грэма Грина? Она не сидит с холодными зрачками. Она пылает!
– Ты права: мое появление – не случайно… – и грозно, сквозь закушенный горящий рог: – Ничто сморщенное и скомканное не просмотрено. Я прибыл – объявить тебе приговор! И уже отверз уста, но брат Павлик неправильно меня понял – и бросился угощать кислой капустой.
– Павлик отлично понял – ни откровения, ни спортивных репортажей отсюда не выпорхнет. И поспешил спасти ситуацию, – говорит Полина. – Он был прекрасно воспитан – бонны, гувернантки. Потому и не убирает за собой – отучили. Павлик бесполезен для укрощения бытовых гротесков. Он – эстетический объект. Мои глаза счастливы, если обращены на Павлика. Какую бы тюльку ни жевал. И мне ли не знать, как ты уступаешь ему – во всем! Уступив – даже меня. Так что когда ты пропал, я и не заметила.
– А разве я пропал?
– В лучах Павлика. В этой стране вообще все время пропадают люди. Ни за кого не поручись, ни в ком нельзя быть уверенным… – и Полина сдувает со лба процветшие гневом вьюны. – Не будь уверен, что я глупа и способна на героику.
И снова – маковые взрывы, раскаты, разлеты.
– Эти комментаторы очень менжуются, – говорит Полина. – Су-е-тятся, забегают вперед. Там – выход, исчерпанность… поле трав и виньетка куста, искаженного – потусторонностью. Последняя флексия, склоняемая ветром. Зачем взирать на историю – из куста, сквозь лучи заката, которые всех перекрасят? Сквозь испарения финиты… И не утверждай, что последний миг посеян – в первом: вытоптано… неплодотворно. Пока за кустом – кто кем обернулся, мы лавируем… свободны – на тропы. А вы – на паралич. Если малый сдал на излете своего педагога – почему не высмотреть его в годы учебы? И пустить по линии – любимых воспитанников. В этой проекции будущего он – не предаст! Я склоняюсь к тому, что жизнь – единовременный праздник. Да будет собранием лучших мгновений, а не последних! И, чем накладывать кучи сносок… – и смех. – Лучше предъяви событие – от другого участника. И выяснится – происходило прямо противоположное. Ты спрашивал, что я вяжу?
– Петли из пуха и времени.
И вдохновенно – Полина:
– Я чувствую, не сгорит и осень, как рухнут снасти, взовьются трубы, надует каменотесов – расхолаживать вечный сюжет: осаду города. И я раздам обеляющие пуховые одеяния – пешим и рукокрылым, и ветошникам-деревьям, чертовым резервистам – и цепенеющим цепям волн. И спасу их… – и, сощурясь: – Кто ты такой, чтоб объявлять мне приговор? Впрочем, задумано – любой… курьер.
– Кто десять лет представлялся тебе в самых курьезных… курьерских образах? Меж купидонов, купирующих хвосты дорог… – произносит третий. – Сорви с меня форму ночи и открой – невидимое… невиданное бесстрашие – проглотить приговор… в рассрочку с капустой – и ответить пред Тем, Кто его вынес… – и низвергая горний рог – в прогоревшую гильзу, в гиль, в отрешенное поле трав: – Посему я должен теперь удалиться. Заодно избавив тебя от единицы работы.
– Я все равно не довяжу – ровно штуку, определяющую метаморфоз, – говорит Полина. – Смотри прецедент: письма. Но за деталью неполноты – весь объем свершенного!
– Веление высших сил… не ищущих – каково мне с тобой расстаться! Удастся ли – снова бросить тебя на брата, читателя грязных газет. Но в удалении развеется мелкое – дух спертый, квашеный…
Качающийся, летучий, как мяч, цвет гнева.
– Думаю, Павлик опять захочет помочь, – говорит Полина. – Например, спустить тебя с лестницы. Надежд – или…
И вздернутый угол пламени.
– Чуть раньше – черный ход… черная дыра – сияние Павлика.
– Или – не выпустить отсюда никогда. Какое из моих наставлений он съест…
– Чем больше пространство между нами – тем шире наши с тобой владения. Мы будем – великими…
На подоконнике – пунцовая пыль или ржавые муравьи наваждения… крошки для птиц и ангелов, стимфалийские перья, клочки писем… или – чей-то взгляд, провидящий осень. Обведенная гневом – скукой? – вязальщица, манипулируя нитью речи, реки, дороги… И лицом к дороге – Привязанный и Вибрирующий: мак, сон, дым – и фривольно-кривые швы смеха. И готов перегруппировать их – в безалаберность струй, стенания, грифельную ломку пальцев, но… где – помпа? Беглянка-вода, водоотталкивающие щеки, клещи? Где погремушки, клаксоны – устроить тахикардию? Наконец, где – последняя деталь: объемный белый балахон… эта объемная деталь – последний белый балахон? Или подслушивающему… подсматривающему местное наречие – нет места для преувеличения?
Он шепчет: трудитесь, трудитесь, штопальщики прорех, заливайте слепые разрывы имен меж временами, цепляйте скрипящие в воздухе вертикали… ставьте в пролеты – свои позванивающие флейты, карабкайтесь по наклону пространства, спасайтесь! И просветы спиц – напролет: солнечное колесо случайности… и, вовлеченное в чей-то дальний взор – в блеск иночтений, превращений – их золотой запас, разрывает кайму окна – и летит над креном трав – на заточенный фальц финала: багровый ствол, завинченный – пограничной зеленью… ветвящийся, как вопросник… за которым – в экседре Шиповник, вторгшейся… заступившей… юный игрок Корнелиус, мчавшийся за огненным лисом, за аграмантом его следа, и влетевший – в штрафную площадку. В отражение купальщиков – не все равно, в чем купаются – в пунцовом колорите, в мерцании лета… в лицемерии, омывающем мгновение? И захвачен издали – гуляющим меж ними ветром, о разделитель ущелий! И мнится – краска вины на их ланитах… торжественность, неясность, рок: лица в раме обречены – пламени… но третий – пожалуй, скорее. Взвешены на весах окна – и левая створка легче пуха… Корнелиус уже чувствует – бесчестье вхолодную… хотя пока не предвидит из-за поля бледной, как асфодели, панамы – воскресения непоправимой усмешки, не узрит сквозь всходы пятницы и субботы… ведь вместо уныния каждодневности герою свойственна – необязательность, презрение к труду увязывания. Изобличающее его вещи и надежды расщеплены… мелькнув то в прошлом, то в будущем, невзирая на клич Корнелиуса – закатать разрывы! Меж временами, письмами… или в каждом освеженном ошибками углу совершается – совершенство творения? Вернее – Тот ли (поощритель пишущих и лгущих) воскрес, осмеивая… здесь каталог осмеиваемого, – хорошо ли Корнелиус разглядел? Тот ли выделен фрагмент – и вовремя ли? И что, если смещено добела – начало осмотра? И разразившаяся грозой Сцена у окна, приколотая к вертикали – молниями случайностей… приподнятая, оторванная, вообще-то – в середине экспозиции. В фантазиях соглядатая, что вот-вот расползутся, в гневных проекциях, в потекших красках… И ближе – к бесславному исходу, в раме и вяжется некое прощание… бегущие срезы клубка – против сбитой нарезки пограничного древа…
Но видение существует – вне сути словопрений, и возможен – другой рой прелых слов. Ну, например… например… Хотя нет. А почему нет?
И – осмеянное переписчиком: прекрасная доверительница – в огне… в окне – и дымящийся обманщик. Полуобороты – к ущелью, к полю трав. Разновес геометрии – призмы птиц серебряные – и растаявшие… пух, пунцовая подсочка золы, горящий цилиндр, пирамида дороги…
И такая фраза Полины:
– А старушенция в бесполой шляпе, сопровождавшая тебя по той стороне улицы… кто она?
– Ты наблюдала меня – до того, как мы встретились? – вкрадчиво, третий. И склоняясь к Полине, зауживая сквозняк и всполох: – Ты следила сквозь развидневшееся время, как из странности референций, упадка нравов и посылок слагается и наползает – наша встреча? И пока я лелеял ослепительный диссонанс свободы – был взвешен и учтен?
– И, уже принадлежа к другим началам, ты пометил устами чью-то лапку в кольце с опалом. Моя старинная проблема – внять целому, – говорит Полина. – Но осколки, стекляшки… Мелочи прельщают легкомысленных.
– Твои стекляшки преувеличили меня – в ударную фигуру, виновника обращения улицы лилипутов! А мой поцелуй – в великое предательство, нашлепанное из всех предательских поцелуев. Я был захвачен одиночеством.
– Что не исключает фанатки, не понимающей, но вприскочку обожающей твою деятельность, – говорит Полина.
– И репрессивной линзы с изувером, работающим над твоими чертами, разнося их и приструняя. Ах, да… в самом деле! Как я ни гнал ее, за мной упорно тащилась – тень. Или Судьба? – и передвинув свисток в угол уст, скрестив руки: – А может, твоя сумасшедшая любовь крадется за мною с бритвой? – и маковые отсветы и гром. – А вдруг ты смотрела – не в будущее, а в прошлое? На днях мне позвонила незнакомая дама. Некто транзитный имел для меня важный пакет, но время обошло его – и дело перепоручилось даме. Возможно, и она искала меня так долго, что показалась тебе – старухой. И призвала меня слишком поздно – успел окончиться город… пошли дачи, ее – последняя накануне ночи. Верней – это я, отстранившись, дьявольски превознес пространство.
– И наконец вы нашли друг друга – в заповедном саду… у гесперид.
– Уже и сад завершился – стал превращаться в лес… нацеленных в небо стволов-телескопов, горящие шпили, кусты антенн… Но, видно, высь им вышла с овчинку – и сосны вдруг окривели, заметались с одним на всех огненным оком и, шелуша ожоги, пустили когти… просеяв поляну – бывшую волейбольную площадку, и – под натянутой меж стволами сеткой – чайный стол, где недавно вершился крупный чай… и солнце пройдя по струям стеблей – вставшие в воздухе тучи листвы и хвои, рассыпалось в рваной сетке – и на площадке стояло сияние… Там я и увидел издали старую даму – в плетеном кресле у стола. Она разговаривала, обратив ко мне – резной, как фьорд, профиль, а к кому-то, смазанному шиповником, породистую и сардоническую фразу – столь странную, что я решил помедлить за деревом. Но ответ потерялся в хрустах разрываемых патронташей и падении из них шишек, щелчков и трелей. Тогда я переместился за ствол чуть ближе и увидел старуху – в другом ракурсе, с протянутым солнцем и едкой тенью, и поймал – другую ее реплику. И поскольку она вносила – иной смысл, очевидно, и назначалась – иному, но и сей был стерт от меня – синим пером окрыленной ели. Так, скрываясь за стволами и слушая престранные речи, я подбирался все ближе – к захваченной солнцем площадке… прячась за мачтами – к сладкоголосой сирене… постепенно убеждаясь, что, пока я меняю наблюдательный пункт, дама с той же легкостью избирает – нового собеседника, ибо противоядие света и тени смещалось так же неотвратимо, как и площадка, являвшая мне – все новые срезы, скрепы, воздушные вмятины… полуоборот – какое вместилище тайн! Но те, кто присутствовал там и к кому апеллировала царица вольного бала… волейбола? – по-прежнему были от меня скрыты.
– Те же и комментатор, – произносит Полина. – Пожалуй, я разделяю их раж – подсунуть комментатору кусты, могильники и следы невиданных зверей – взамен собственного тела.
– Зато ее лицо все более обращалось – ко мне, преображаясь из фьорда – в бухту Провидение, и когда наконец я увидел ее – анфас, мне вдруг показалось: последнее высказывание адресовано – именно мне… я даже смутился, столь недвусмысленно упрочивалось – случившееся со мной. До – или после… Впрочем – вряд ли детализированное, особенно – освещенной старухе, и я отмел подозрения. Далее я попытаюсь вычерпать мутную элегию нашей встречи. Разумеется, кроме нас двоих на площадке никого уже не было. Возможно – теперь они отступили за стволы и вытянулись, как выпи, цапли и рыба-пила… образы намекают бесчисленные протоки голубизны меж стволами, стремительно загустевающие. К сожалению, старушенция продолжала беседу со мной – с деталей. И хотя я поддержал собственную персоналию – под расщепленными солнцем и тлеющими волокнами сетки: тошнотворная правдивость – в означенном стволами портале… дама осыпала меня заточенными и ядовитыми вопросами – как Святого Себастьяна!
И обернувшись к дымящемуся, щурясь пред падающим светом – Полина:
– Карусельщица догадалась, что сплоченность упущенного тебя посадит.
– Да, чем длиннее я наблюдал старуху, тем более уверялся, что я – не тот, кому оставлен пакет, но безусловно подставное лицо. По крайней мере, я стал им – по мере превращения… от ствола к стволу.
– И она засушила назначенное – меж полуоборотами леса?
– Ей давно уже полагалось сменить собеседника. И, швыряя мне сверток, старая дама пробормотала: все равно что с моста – в воду… Так что наш общий путь и прощальные поцелуи отнеси – к неряшливости бинокля… к прогрессивным линзам непрерывного видения.
– Сверток не оказался бомбой? – спрашивает Полина.
– Пустяк. Два пустяка: отрезанные уши. Ты вряд ли знакома с их первым владельцем.
– Я давала язык молодому японцу. Он бубнил имена подсиживающей нас твари и утвари, ища над всем – власть, – говорит Полина. – Судя по дикции – безобразную диктатуру. Вы вчера нагрянули в гости? И чем вы развлеклись во взбудораженном доме? Мы очень играли. Вы играли Гамлета? Или – на тубе? Мы играли в карточки… М-м? А что за бордюр – на этих горчичниках: зеленоликий, пупырчатый Бен или фавн с козловатой бородкой, покровитель стад? Красные пятирогие башни со счетчиками, отматывающими вам срок?.. На карточках есть другие люди. Целые фамилии… И во что вы играли другими людьми? Целыми сериями поднадзорных!.. В их число, кажется – нечетное… Или – неучтенное? Чтоб выбивать неугодных четных – до приятного вам количества… случайно, не двадцать один? О, да-да, как вы догадались? Друг мой, этот бесовский союз цифр прельщал многих!.. Он искажает имя, – говорит Полина, – и вещь не просто косит, трещит, задувает изнанкой, но – меняет сердцевину, тайно продает ее – косноязычному диктатору… как я продаю ему – отрезанный язык. Притом он знает – лишь отдельные слова. Он разорвет мир – в плоские острова!
– Реальность начнет сыпаться. Упустит очертания, совокупность… – говорит третий. – И в двадцать два всех ожидает – одна ночь. Какое роковое совпадение… Но тут и там, схваченные липкими бликами, воссияют – разобщенные вещи, неслиянные, недосягаемые… стаффаж в картине мрака.
– Он не разгрыз разницы между слушать – и подслушивать, – говорит Полина, – в последнем ему мерещится неполнота информации. Что это вдруг? Вы присутствуете и слушаете полеглую скуку – или вы слышите много больше, чем вам отмерили, но вас нет. Как же я слышу, если меня нет? И – где я?!.. Не паникуйте, юноша из страны восходящего солнца, возможно, слышат ваши отрезанные уши, а вас растворили в стопроцентной тьме. Или – в двадцати-двух… Сева обнаружил, что японцу неведом вкус водки – и наполнил его до голубых глаз. Стал выспрашивать, с кем в России он решает тягостный половой вопрос. И раз диктатор ни черта не понимает, Сева вызубрил ему гениальную фразу: «Понимаю, но не принимаю». Теперь, как по мановению, – он все понимает! Но – не принимает… кроме водки. И, увы, веет перегаром.
И то же, то же – над полем трав: взгляд, следящий – течение дороги, вяжущий гнев – и перхоть пепла между прядями пламени. Кто-то осложняет окно – лишним временем, смыслом, дымом… И пунцовый, выплеснув за собственные пределы, забрызгал – не подчиненный ему реквизит. И удлинившийся ветер заживляет просвет между вставшими в раме – непреложностью. Уже сто лет – или двести? – пора сорвать болтовню, которая ничего не значит – ни для златоустов, ни для соглядатая – у него отрезаны уши, и имеют достоинство лишь вибрации и скольжение, ломкий жест, апломб и скопидомство роз… несущественные перемены цвета – и все надувающаяся гроза, упрочивая на лицах – свой отблеск. Но как безвременно хороши цвет и отблеск, и гроза, и ломкость, открытые – одному… владеющему – и тем и этим. И затягивается – мнимое спокойствие перед катастрофой… или – ее мнимость. И, послушные чужой воле, – затягивают пустоту, продолжая сорить словами.
– Одному из моих слепых предшественников – там, на площадке… старая дама поведала о неком учителе, чьи близкие тоже вдруг пропали из виду. Он гнал их гулкие, улетающие одежды и, вцепившись в особо увиливающий, беспозвоночный плащ, дал ему – встрепку… и из кармана выпал, шурша, в его ладонь стручок с горохом «сустак-форте». Старик не был уверен, что определил принадлежность плаща. Но с тех пор безумец крался за тайнами карманов – и был вознагражден: в каждом подозреваемом кармане отыскивался такой стручок – сустак-форте или сустак-митте… И подслушивал в истончившихся процессиях чью-то тему – то громче, то тише: трагическую музыку жизни… – и пауза, дым. – А кто – шалун Сева?
– Мой второй мм-м… старший брат. Тот, что торчит в желтом кресле и заносит на лист выражения гражданской позиции.
– Несет на лист…
– На прошлых выборах теща сказала ему: будешь голосовать против коммунистов – соберешь шмотки и переедешь к Полине. Образуем другого самца… Бывшая теща заведует народным образованием. Сева нашумел очерком о новаторской школе: молодые педагогички, положительная динамика… пластика… А на днях эта народница… старая комсомольская лапша, как зовет ее Сева, явилась к нам с новостями: ты еще помнишь воспетую тобой Ольгу Юрьевну, что влекла детей – к идеализму и устраивала волнения юных сердец? Ну, Всеволод, такая пышка! Поскольку ее открытый урок «Лев Толстой» собрал всех, кроме Льва, ее низложили из словесников – в воспитатели. И она ушла из школы – в секту. Ведет таинственный образ жизни, питается снедью зеленых оттенков и высохла, как щепка! Однажды ночью она приехала к твоей жене Тате, требуя – тебя. Мы объяснили: ты вышел, но вот-вот вернешься – куда ты денешься? И она осталась ждать. Утром Тата должна собрать твоего сына в школу, а себя – на работу, деду пора – в институт, мне – в роно, а Ольга Юрьевна сидит у нас посреди столовой, возомнив себя лотосом, – и никуда не торопится. Возможно, ты помнишь и Марианну Сергеевну, ибо восхищался, что в школе – штатный психолог, напирая – на особенный силуэт… ах, профиль? У нее посадили сына – за кражу чести. Правда, она уверяет, что мальчик не виноват: ему попалась не жертва, а провокаторша царской охранки! А баскетбольная девица – передовой директор, совсем забыла! Она обнародовала через твое перо, как счастлива с третьим мужем – на семь лет юнее… Так юноша бежал от счастья, а она наплевала на подрастающее поколение, отрезала грудь и стала амазонкой…
Пауза. Ветреный звон маковых коробок… И Полина опять опускает вязание.
– Не означает ли твое отсутствие здесь – присутствия на волейбольной площадке, в сетях, натянутых – меж стволами, как на мух?
– Сегодня в двадцать два я исчезну отовсюду. Хочешь перенести на завтра?
– Завтра мир будет другой, – говорит Полина. – Возможно, затребуют героизм, чтобы внести в него – наш город, это окно и схождение тьмы – в тот же час. Многовато составляющих.
– Чужие мысли, чужие карманы… птичий пух – целая практика!
– Я и вяжу – целое, мне скучно крохоборство дроби, – говорит Полина. – Пуховые, белоснежные смирительные рубашки – на целый город… И он легче пуха смирится с твоим побегом.
Словом, юный ловец и другие двое – в окне – и празднуют тождество… торжество – на короткой воде случайности… над которой брошена к подножью шиповника – огненная корда: гонять куст из лета в лето, из коротких вод – в длинные… И молит преклонивший в шиповнике колена и чело, ибо сердце его в смятении подобно праху, чтоб осенили – чьим-то бессрочным взглядом… не сокрушили сих отверженных, обреченных – пронзающему пламени, да будут благословенны… да останутся – в окне! А может, из растрескавшейся чаши куста течет – пунцовый… к окну, чтоб гонять по кругу – окно.
И пространство смято и вдавлено в прорезь полета… шестикрылое пространство… Или – спорок с полета времени, с кружения хитрости.
И уже Корнелиус, войдя в свои сомнительные видения… обручив подоконник – с пылью, устлавшей остывающий, прогоревший след, и не слыша грома, молнирующего – членение стекол и расторжение квадрата, упуская потрескивающую усмешку третьего фигуранта, взвившегося в ветер… сам Корнелиус Первый – рядом с Полиной. Бликующий и блефующий – не привязан к сцене, как первые двое – к частной собственности: окну, миру… и если можно заменить третьего – первым, значит – необходимо! И заместить его здесь значит – везде. Отметьте: в дому – в уличном фасоне… в покрывалах пилигрима. Помимо дурных манер, он отбывал у вас срок чепухи. Кстати о равенстве и праве. Не прав ли Корнелиус, что сей преходящий и равен – своему присутствию? Или – своему отсутствию? Но – насыпанная столпом над травой чешуя листьев… разорванные шипами пунцовые плавники… и опять переметнувшаяся от Корнелиуса на ту сторону – вертикаль…