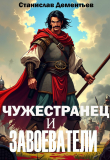Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Что приятно в иных детективных романах и больших приключениях: чтоб ничто не сбило их безотложное развертывание себя, позволяют полезным репликам – вкрапиться из воздуха, из печенья с сюрпризом, оратор то ли не успел обрисовать свое становление как ориона, неистового орландо, то ли забыл одеться, выходя в общий коридор, или – референт отчужденного среза тела, хотя говорливого: бородатый, лысый, эти неформальные встречи без галстуков и манаток… Возможен длинный – персонаж одномерен, или пощипывают – астральную связь… и пусть проглотят апломб, нам не важно, кто подбрасывает в огонь свой дорогой мусор.
Словом, опять внезапно и на совесть из ничего – догоняющий Мару новый зов! И пугает лущеной праздностью, по крайней мере, бездельно выясняет:
– Заинька с ношей! То есть пустились в путь? Сумочку там придерживайте! Пейзаж неустойчив…
Кстати о суме, собравшейся – быть потрошенной в час неразличимых и, утаив, как пошла, кусаться… И кто-то, в первых словах едва намечен, зеленый патруль, авессалом, возложивший на себя – шатровые своды в кочевье листвы, уклоняется от родства и расторгает признательность, но все человечнее – и в запале вышагнул из натека тени. Пригревшиеся на нем неясности тоже ветвятся в розное – что-то безрукавое, и на плече, удлиняя ухо, – пересыпанная желтыми бантами коса липы, или знамя полка, или крыло, а другое скрипит и бликует почти к патронной ленте, оплывая шипящим – планшетом карт, или лядункой, и не гонит с карт – чуть не настоящей головы под пером, но задувает штыковой прут за спиной – в общую звезду слежки, охоты и уточняется – обоюдоострым, вернее, двукратным, колотым от плеча до запястья колким украшением шпага, цвет кубовый.
Темный охотник следит быстроногую Мару косящим и по определению темным оком – и без церемоний подмигивает.
– Торопимся к хорошим событиям? К дегустациям и смакованиям? – спрашивал темный охотник.
– На сеанс спиритизма – пощебетать с властителями дум! – сухо поправляла быстроногая Мара. – Рассказать им о себе… – и налегала на спотыкающийся слог и неуклонно смотрела только вперед.
Удобно водить темный глаз, который не высветляет хрупкости, не отличит регулярный шаг – и захлебывающийся, гонку – от глухоманства, что позволяет обращаться к уходящим – так доверительно, будто пространство в собеседующих все то же. Тем милее, не пронзая разлуки, переброситься мнением – с давно прошедшими, поскольку не возражают, не уводят во встречные глупости, но поощряют и приветствуют.
– Кажется, капитан вызывает вас! – продолжал темный охотник и уже не тяготился ни стволовым, ни случайным сходством с предтечами, ни предержанием черепиц, и не уточнял – кронштейны, как время развеяния, но бросал на чужое усмотрение…
Быстроногая Мара морщилась: сей собравшийся из беспричинных частей вместо целой ответственности в любой миг может обрушить своды – на негодяев-филистимлян или на переходящих равнину После Весны – и поглотить всех идущих!
Краткий список близких по замыслу высказываний быстроногой Мары, произнесенных – вне намерения беспокоить слушающих, йо по раскрытии каравана дороги, по крайней мере – в живом ощущении перемен. Возможна близость не к замыслу, но к фракции нечестных, кто заучивает правды – за принятием утренних вод, и на обмелевший желудок – и вслед за стопкой, повышая ее – в пятистопный вызов тиранам. Кто выглядывает себя – в серебряном стекле, примеряя рога гнева и сардонический клюв, и наливное распутство, и овал раскаяния – и, пробуя закипающий суп, дерзко грубит Гертруде и Полонию. Или косит глазом – на вставший в окне военный завод. Мчась на подвиг – под розой безвестной спины, встречается – не с вампирским оком кондуктора, но – с планом эвакуации при дверях…
Кто подталкивает сухощавое портмоне – в прореху за подкладку и произносит в эфир полночи:
– Старая волчица я не боится, что где-то приметят ее ридикюль и заподозрят в его интимной глубине – отрадный потенциал. В привлекшей вас – целомудренные рифмы, вброшены демонстратором добрых дел, не ждущих рукоплесканий… Донести – то, что я должен сказать людям… дурно копируя знаки, известные всем – в идеальном виде, и оставляя тут и там – свои могучие долги… набивая все полости признательной Родины. Только так оформлена и моя котомка. Осы рифм… оводы, термиты…
Разрывающий незримые путы, он же говорящий во сне брат Сильвестр выкрикивал:
– Итого – гнус! Мара, раскройте свой потенциал! – и сбивался на заговорщический шепот: – Сдайте мне тайну ваших бумаг – которые тяжелее? Уложенные буквами и понесшие толстые лжи метафор? Преступные цепочки неточности! Или – органически правдивые в своей пустоте?
Продолжение – в звездные начала… в курящиеся После Весны, кухни садов, тамаринд, базилик и прочий бадьян:
– Кто-то чувствует себя гласом – кровавых редутов репейных розанов и мириадов раскатавших язык консервных банок, посланцем осиротевших за фруктом выползков, и скелетов новогодних елок и берцовых огарков кресел…
Возможен простодушный спешащий, ибо уведомлен доброжелателем о неприглядном мелькании в улицах – носорогов, но успеет бросить в костры небес:
– Еще нажим – и занявшую вас мою кошелку стошнит листовками из авангардного спектакля о буревестниках. Делаем коллизию обитаемой – вводим неслабеющий город, разгоняем – до бурлящей. А кто сказал, что он капитан? Я, например, ни минуты не сомневаюсь: выходя из оргии, горлан не удержался на ногах и опрокинулся в чужой наряд. Машинально влетев – в самое ослепительное…
Но некоторые моты, любители швырять вдоль башмака – богатства выражений, иногда замечают, что часть их словесных фигур случайно совпала – с расстановкой фигур на перекрестке, с общей экспрессией места или с неизвестными формами жизни… во всяком случае, можно выбрать. В спохватившихся – быстроногая Мара, кто вдруг понимает, что, наметив истинный облик кричащего, точнее – глубину погружения в материал, обнаружила – сращение с предметом и многим знанием пригласила печали.
И темный охотник намерен перехватить проницательность.
– Капитан с вами как на духу – в белом мундире. Объявляет боевой статус в открытом письме на ваше имя. По-капитански прямолинейно! – говорил темный охотник. – Имеете причины, по которым хорошавчик не должен принять звание? Или нуждаетесь, чтобы то, что зрите, вам удостоверяли другие? Поддерживали ваши видения? – строго спрашивал темный.
– Знакомство по переписке. Вечная путаница пишущих – с писаными красавцами… – бормотала быстроногая Мара. – Капитаны перекрывают потребности общества и мой вкус. Я ем крайне мало. В сравнении с теми, кто ест – захватывающе…
Молодой субъект в красных чикчирах обходил уснувшего под стеной закатного бычка – смежившую фары малолитражку, и внезапно встречался с собой – в продернувшей бычье ухо серьге или в застарелом треугольнике бокового зеркала, и склонялся и скреплял треугольное сходство в верхнем и в нижнем регистре, извлекал узкий гребешок и причесывал стрелы-усы, реющие от копоти к красному зареву, и пускал по лицу стаю улыбок – приторно карамельных и бессердечных, превращая богатый рамой портрет – в девичий альбом и в боевой листок милицейского розыска.
– А может, ваша душа не готова поверить в капитана? Так обратитесь – к погрязшей в неверии своей душе… Разве не знаете, что капитан способен приплыть в любой день и час? – спрашивал темный охотник.
– Я верю, что представленный белый наряд засижен пальцами одной м-м… инженю, – не останавливаясь, говорила Мара. – Все, что считает своей собственностью, как собака, столбит на публике – свойским прихлопом и прихватом. Никакого пиетета – ни пред белыми одеждами, ни пред героями, хранящими их – на собственном теле. И вера моя не нуждается в опоре на многоглазых. Ни в снятии с сукна – печатей юности. Как и старинное мнение, что капитаны – ведут…
– А если этот выводит вас из праздника, где вы шалили вместе? – предполагал темный охотник. – Ваш обогнавший волну муж? Потянувшийся к неизведанным островам, пока домовитая вы полнили торбу – заботой о родичах, не прошедших меж вами – к дымящемуся? Я, например, не читаю, но копаюсь в саду и хожу на охоту. И мне ни к чему держать на вас – безвкусный постпакет. Я и ваши родные верим, что в сумочке – другие сувениры.
Быстроногая Мара рычала от возмущения и, не снижая ноги, спешно меняла версию.
– У меня на службе одна м-м… инженю выписывает журналы для возвышенных женщин. Оросите ваши возвышенности нотами нашего аромата, вслушайтесь в эту симфонию… Для заваривания каши возьмите наш элитный прибор с позолоченными ручками… Раскинулись на зеркальной бумаге с режущими краями, чтобы почитывающие отражались – в звездном составе фототелефонов, шейкеров, блендеров, несмываемых плееров, несгораемых шлемофонов. Шикарных не доверяют почтовым ящикам, их доставляет курьер. Нынче всюду требуют пропуск, причастность, отборочные туры… – говорила Мара. – Пожилой человек звонит м-м… упомянутой – из основы учреждения и радостно сообщает о прибытии ее любимых страниц… посеченных не осколками, но префиксами – супер, гипер и мега... Просит принять, заплатить и расписаться, но вахтер прищемил его рукав и садит динамику. Однако нежной подписчице трудно сойти со второго этажа, она бросает: «Это ваши проблемы, а я захвачена работой!» – и, бросив трубку, углубляется в туповатую компьютерную игру. Так что несчастный придумал трудиться в белом мундире, теперь его принимают за важную персону – и пропускают даже подобострастно.
Стожок черного тряпья, или титаническая собака-ньюфаундленд, присев при чьем-то крыльце, усердно выкладывала на нижней ступеньке макет египетской пирамиды. Хозяйка, поигрывая поводком-змейкой, окуривала свой резной профиль и, выдувая дым или тянучее «у», с хорошей артикуляцией говорила:
– Увлеклась, моя утя? Совсем закакалась, манюсечка? Правда, кайф?
– Моложавый обветренный волк в белом фасоне – старец, курьер? – и темный охотник щелкал языком и сдувал летучую мелочь ночи и ее зуммеры – со сменивших его рукава кубовых шпаг.
– Фельдъегерь. Но, зычно осев на троллейбусной пристани, формируется в капитана, – говорила быстроногая Мара. – От человека до капитана – одно суждение. Не вся прелесть жизни – в реализме.
Неизвестно, что глубже впутывается в сны неуместного брата – развернутые над ним перечисления слов, или зеленый шум, или растительный узор, но порой он вбрасывает – неконкретное участие.
– Лгунья! С кем вы разговариваете? – кричал говорящий во сне брат Сильвестр и не мог собрать из нагара стволов – ни значимую фигуру, ни компромиссную, и не отличал патронную ленту – от веток, копотливо заряженных листьями, юркнувшими от жара и мрака – в трубочки, и путал лядунку или ягдташ – со свежим гнездом, и пытался оглянуться, но прибравшие его серебряные круги оттягивали строптивого – в центр простывшего я. – Вы вступили в разговор с невидимыми силами? – взывал брат Сильвестр. – Я о вас тревожусь!
– Ну хорошо, курьер не он… не тот, кто представляется курьером, – на ходу говорила Мара. – Капитан скамьи и видов на лайнеры с поваленными мачтами. Молодая м-м… о которой я рассказала, терзает другого горемыку – застенчивый старикан, чуть что – пунцов, с неизменным внучатым ранцем и двумя авоськами – деревенскими кузинами. Не спрашиваю, чем наградили вас сад и лес – награды потеряются у меня за спиной.
– Мара, кому вы даете это сумасшедшее интервью?! Не вижу отважного! – кричал спящий брат Сильвестр. – Мы имеем только голос – или факт позабористей? Возможный голубой берет рекомендует быть начеку: к вам – десант падших с неба. Не преминет соблазнять!
– Кажется, капитан упустил последний борт, а с продвижением по дну у нас загустение, – говорил темный охотник. – Вы ведь не оставите мягкотелого, кому с таким энтузиазмом сопереживаете, даже если это не он?
Позади темного охотника волновались наплывы листьев, то зерна, то чернила и шорохи, а в разрывах носились дорожные вспышки – и обжигали тростевые руки кукольников в зеленых перчатках, щелкали фермуарами, сгоняя вниз – большие мужские, грузчицкие, и пропуская на холм – мельчающие, гладкие и плавные, они же – хлопотливые и мятущиеся, и выше в рост – двупалые детские, робкие и липкие… Возможны зарницы знамени на плече охотника и блеск присборенной завесы, обводящие стоика – пылкой каймой, и не упускали ни штыковую ветвь, ни узлы перевязей, ни эфесы.
– В бумагах, сложивших мой сак, есть чья-то запись о дикторе, – говорила Мара. – Однажды утром, сообщает безвестный пишущий, диктор поведал мне леденящую сказку… в моей жизни постоянно присутствует диктор, почти мой внутренний голос. Тысяча и одна вариация, как тьма переходит город, и каждая пядь выстаивает с ней один на один… Город той записи спешил заявить о своей непорочности – и, чтобы не сойтись и с тенью тени, нарядился в снежное… как этот крикун, – уточняла Мара. – Суетился, покрывал свои улицы белизной снова и снова, метелил их в хвост и в гриву. Словом, остался – спаян, кристален, неуловим и неразличим. Хотя кое-какие линии утренним дорожникам удалось расцепить… или положить новые? Если вам повезет, сказал диктор, вы попадете на чистые улицы… Пишущий счел это не отсылкой – к фортуне, но указом – выйти на точный путь. Так что вряд ли удастся изрядно продвинуть крикуна, вытянувшего не ту дорогу: кружит, подскакивает, распадается… на траверсе быстроходных м-м… неожиданностей. Почему в вашем плане ему ассистирует – не скучающий вы, а опаздывающая я? Кто должна пройти незамеченной, но втянута в… поскольку серебро уже вызвано… В паутины слов! А в итоге склонится к благотворительности – как ее понимает улица: навязать еще один неподъемный куль, теперь живой – и совершенно чуждой мне практики… плюс выжатый в него виноградник и история виноградарства…
– Опаздывает здесь только спасение. Отложенное – на случай, что уже не понадобится? – едко спрашивал темный охотник. – Потому что я подряжен – непреходящим промыслом и тороплюсь много больше, чем вы.
Клонящееся, но разбитное трио путешествовало из гостей в гости – завидный щеголь в бандане и две знойные подруги по оба плеча, почти повисшие на баловне, в одинаковых распашонках и белых брюках, томно опускали головы ему на ворот, овевали кипучим локоном, закладывали под ушко поцелуи и хохотали в пути, увеличивая звонкость, и кричали то ли тем, кого покидали, то ли тем, к кому приближались, то ли друг другу:
– Неужели вы с нами попрощались? А мы с вами – еще нет! В вас много «поди сюда», с вами невозможно проститься!
Утомленный в обступивших его голосах – без разъяснений, даже неоднозначных или слабеющих, брат Сильвестр таинственно жмурит рассеивающий глаз или, напротив, приоткрывает – один из двух спящих и привносит тонкости.
– Мар-р-ра! За мной могут следить, – извещал брат Сильвестр шершавым шепотом. – Меня пасут… Бороться и искать, найти и не… не больше, чем триада. Я очарован триадами. Хотя некоторым не зазорно расширить чудесную. Преследовать, настигать, блокировать и уничтожать… Кумушка, взгляните, за мной нет хвоста?
– За вами – ангел-хранитель. Развязный. Желает вам радостей – за мой счет! – объявляла Мара. – Его следят! Начнем с того, что следят не вас, а меня!
Кое-кто, палящий и нелетающий, или нетвердая тетушка Саламандра, медная, как сбор в чаше фонтана или как пасека, бесстрашно шла сквозь полночные огни и равнялась с Марой и, сраженная абсурдом увиденного, пожимала плечом и хихикала:
– Догнала неизвестно зачем троллейбус и приехала сюда, хоть должна – совсем в другую сторону. Не могу, когда от меня ускользают… – и уже хохотала: – У каждого троллейбуса – свои принципы! И свои усы… А время горит! Разве здесь отрастить – потерянные куски?
Мара почти взрывалась.
– Неделю тому меня выследили двое тучных… тоже нашли куму! Вальяжны, непринужденны, вышагнули из Бидструпа – с желанием ворваться ко мне и славить мое остывшее явление свету. Позвольте, замечаю я, конечно, дата всегда жива, однако – зной, удобно ли вам волочиться – еще и навьюченным дарами – по страшной выжженной дороге, пока разгневанное солнце сдирает с вас кожу, как с бедного Марсия?!.. Но мне клянутся в любви, которая просочится сквозь все катастрофы… Ну что ж, натянуто улыбаюсь я, прошу, прошу к обеду – в час Аполлона… и тогда вам удастся освободить меня – для любимой телепрограммы, стартующей – в пять. Викторина для особенных знатоков… Да хоть и сериал «Перри Мейсон»!..
Гости изумлены: в мушесонье!.. В которое они прошвырнутся по магазинам в разведках чего-нибудь полого – для меня и полезных приобретений для себя, и вообще – с обозрением, так что ко мне – вместе с пятым часом… Я нарастила кошелек – на старинную мечту, а теперь придется обратить ее – в кручи деликатесов, которые вы с музыкой и гиком погоните по желудочно-кишечному тракту, что, естественно, не должно вас смутить… И, достойная беззаветных дружб, я врезаюсь в обжорный ряд – и вычищаю центральную экспозицию. В субботу, бросив экстренные дела – музеи, выход в филармонический концерт, перлюстрации книц наконец, священное нет – быту, я сдаю часть моей улетающей жизни – на подъем чревоугодия… Гости прибывают с опозданием – как раз в пять, когда Перри Мейсон в роли красавца пятидесятых Рэймонда Берра… то есть викторина, которой я ждала всю неделю… Мне всучают – не порожняк, хоть для приличия романтический, но пуд холестерина! Торжественно вплывает еще одна отлетавшая птица с росой на загорелом бедре, влетает еще одна отмелькавшая рыба – убрана солитерами соли, второй торт – сугроб крема, а также огненные воды, корзина мирных фруктов… пока не взвесишь в ладони и не прищуришься… Но за стол не торопятся, а, возглавив стаю пустых минут, рассыпаются по дому, чтобы живо макнуть нос – в потаенное, – на ходу говорила Мара. – Растревожена посудная горка – и найдены формы, способные смелее сочетаться оттенками, ободками и звонами – с печальной выборкой из животного мира, сообщающие схватке овощей – дерзкое, и натюрморты со вкусом и с широким надкусом выправляются, а отпущенный фарфор порошит кухню – нечистотами и осколками. Вспорот книжный шкаф – и тут же разграблен. После в фокус заходит мой гардероб, и тучные открывают рьяные полемики и примерки – сначала на меня, потом на себя, не жалея треска… И избавляют меня – на криках петуха… почерпнутых, разумеется, в собственном горле, завещая – неделю лихорадочно подъедать остатки, обломки, отсылки, все более ядовитые. А также одолжив у принимающей стороны на неоговоренные сроки – две шляпы, две пачки сигарет, свежие газеты, впоследствии – старые, четыре кассеты с любимыми фильмами, коробку книг… а между тем двое тучных ни разу не возвращали изъятое!
Два железных мотоциклиста с моделями космических спутников в лунках для головы, возможно, из планетария, мчались по рампе кварталов, развозя засыпающим этажам – назидательную звукопись стрельбищ, или марафоны весенних тракторов, ревущие джунгли, обстреливаемые диким плодом, пугали мобилизацией и, перекликаясь друг с другом – криком «Тарзан», и разбойными соловьем и гусем, вдохновенно исполняли фигуры и виражи, заносясь меж фустами зноя и света.
– Признайте, Мар-р-ра, вам сделали порядочное подношение, чтоб вы прикрыли двоих – на вечерок, – кричал спящий брат Сильвестр. – От кого? От жизни одушевленной! Если парочка – не персонифицированные Любовь и Вера. Или вампирствующие Честь и Совесть. Я, впрочем, полагаю, что вас посетили ангелы. Отряжены на вопль Содомский и Гоморрский и встали лицом – с идолопоклонством, порочными связями, мздоимством – плюс опустошающая зависть к чужому аппетиту… И все – в вашем доме! Теперь ждите Огонь и Серу.
– Но вы спешите, поскольку – спешите, дать себя – не только в проворстве, но в порывах чувствительных и, подхватив капитана, любезно экспедируете его – к порту приписки, – объявлял темный охотник. – Время, конечно, непрозрачное, народные машины-гиганты – на неведомых дорожках, но – чу! Озарение! Бросающее вас – наперегрыз проезжей части, чтобы выхватить из скудеющей – малую единицу.
Дальняя мостовая саднила неразличимостью – золотым песком встречных фар, а ближняя мостовая дробилась на красные кляксы, брызнувшие с бамперов ускользающих, на земляничные поляны. Под чьим-то жигулевским подолом, оседлав выхлопную трубу, качался пластмассовый кулак и, выпростав из букета средний палец, маячил им – догоняющим.
– Малую с шашкой или малую с синим фонарем? – спрашивала быстроногая Мара. – Синий период сносит кричащего – к стылым приемным… Холодно, говорит огородник, кутаясь в привставшую дыбом душегрейку, вода надежд стоит меж ветвями и не может войти в землю. Я не забыла посвятить вас – в мое стеснение? – спрашивала Мара. – В прыжках, крючках, в билетах на такси. Даже – в счислении потерь, если на грядущей секунде не сведу променад в… назовем манящую секцию дороги – пункт Б. В конце концов, помогите капитану консервативными методами. Научите концентрироваться…
Сосредоточенный пешеход с надписью на футболке «ВЫ СМЕШНЫ» проносил в тигле души разговор – тайный и беспринципно длинный, но неаккуратно расплескивал, то и дело надменно возглашая:
– Бесспорно, бесспорно… – и фыркал и смеялся монотонно картавой уткой.
– Мара, открыть вам, зачем пикнические Милосердие и Справедливость меняли посуды? – и неуместный брат подпускал в сон тонкую усмешку всеведущих. – В стенах рассеяния моих знаний и опыта одна просветительница тоже любит дарить коллегам – полое. Чаши – для не брезгующих рождаться по тридцать и сорок раз. Поддержка трудолюбия – питием размокших писем от любящих чая и кофе. Самое ужасное – разочаровываться в подарках… Исследовательница, несомненно, помнит, кому какая чаша придана ее толчковой рукой и в чьем златом ободке повис – странный призрак абсента, хотя на картинке коллектив цедил полезный зеленый чай! Пусть не ориентируется на классиков наблюдения, не продвигает свои пометы, но… органика? Вы переходите в чужой дискурс… в повествование – непристойно предсказуемо, вздето на крючья басни! Кто-то правит входящие в вас приборы – в заедающий орнамент, в геометрию знойных республик… Едва я подозреваю, что хлебопродавцы начинают узнавать меня, я сразу меняю булочную. Или прима университетской трапезной вдруг улыбается мне с раздачи и сладко интересуется: а вам, как всегда, бройлерную ножку? – значит, я приглашаю к себе на блюдо анемичный сырник, а назавтра обедаю в сестринской зале. Где всякое мое решение пополудни – оригинально, где я – не избит!
– Вовремя мыть за собой чашки! – бросала на ходу быстроногая Мара. – Ставить зубы со свежей береговой линией, менять одежды и букет волос, не повторяясь в соцветиях, инициировать переходность смысла жизни и цифр, когда диктуешь свой адрес…
– Невозможно! Чуть соберешься – и уже угадал в соседнее мгновение, удостоверенное иным каноном, не менее поощрительным, точнее, взыскует – другого уровня самосожжения, а некто со старыми индексами давно ушмыгнул дворами.
– Да, да, расселась вязь времен… Ломать календарь игр, переносить сроки посева, путать последовательность действий, – на ходу говорила Мара. – Расплылась вязь знамен… И в награду вы получаете вторую жизнь! По крайней мере в конце первой – вас никто не узнает.
– Мара, каким лотом вы замеряете время? Вечной темой или троллейбусным маршрутом? – спрашивал брат Сильвестр. – А у меня кружил тополиный снег минут, шествовала матрона-колоннада с гранитным сердцем и с выводком несгибаемых дев. Нарядные дети возвращались из объятий фруктовых деревьев… взводя по курсу – курки игрушек и срывая с них стебли рук и лап… Шла цыплячья группа одуванчиков – интернатские оторви да сдунь, сданы – в прогулки по земле. Проходили туристы, и на стеллажах их тел, во всех секретных ящичках и в пристройках лоснились, цеплялись, змеились неживые сущности, каковые – брось их – опупеют с тоски. В меня вперились горящие любопытством звезды – я насчитал три тысячи. Чинно провлачилась аптека, роняя то очки и черный нарукавник с давлением, то скачущие пилюли и бандаж, но решительно не замечая… Шел едок газетных полос и глотал правду за правдой, наклонив репортажи – к светлому западу неба, а ветер услужливее библиотекаря торопил за шиворот – вечерние новости, вообразившие себя парусами. Процвели снежноягодник и ракитник. Мчались сто машин и шелестели предчувствия гражданской войны в Испании. Гуляли собаку-медведь – чау-чау в маленьком черном платье. Я заметил и собаку-голод, тоже кустистую. Занеся в кусты раззяву-пасть и пряча в ягодах глаза, зверь силился разгрызть что-то несъедобное, но очень значимое. Над крышами летели художник и его полукружевная подруга…
– Острейшее зрение – без очков… – бормотала быстроногая Мара. – Каким лотом? Возможно, содомским. Но предпочтительны мерцающие меры. Тик-так. Асимметрия – ароматы абсента над гладью чая. Разрозненные записи, достоверность которых не поддается проверке, но полнит мою суму…
– Шла тяжелая хромая, – рассказывал брат Сильвестр, – и старалась продвинуться вперед, но ее переманивали шаткие стороны. Рядом путешествовал терпеливый десятилетний, стащив у спутницы лицо, и то подскакивал, паря в воздухе и болтая сандалиями, то превращал их – в черепах, и не мог приспособиться к ее шагу. Я решил не узнавать, каким порывом заброшена в калеку пригоршня сада с семенами, чтоб взошел этот кроткий росток… Шел князь ночи в маскераде кота – и в шерсти сентиментально сохранял золотые коготки гулящей весны – оцарапавшие смолу почки, чуете, как бесконечно не был в чистоте? Наконец был принесен носитель просторечной культуры, предупредительно составивший для меня свой портрет… кстати о виноградарях и огородных, впустивших вашим словом – мои рассуждения об урожайности жизни. Надменный, ниже – Счастливчик, похвалялся старинным землепользованием – и вот такой морковью! Мне показывалась рука от локтя – до пяти выходов хищно скрюченной моркови, – сообщал брат Сильвестр. – Стоя на вашем месте, этот Джузеппе Арчимбольдо писал себя и природу – почти вашими аппетитами. Уверяя, что поле После Весны ему отмеряли – сорок банок варенья! Что в золотом веке Счастливчика хранили сорок габионов малины, двадцать редутов лука и двадцать – картошки. Дворец его зимы приглашал сорок компаний закрученных в стекло огурцов и сорок крученых опор помидоров. А чтоб не скучали кариатиды румяные и зеленые, Счастливчик брюхатил сорок бочек компанейской капусты. Я пытался отозвать его к вопросам живописи. И, блаженно посмеиваясь, Счастливчик объяснял, что десять лет гулял на болото и обирал недотепы-кочки – на сорок корзин клюквы! Или часть полета по сухому лесу – и в обиходе двадцать кипящих тазов клюквы и двадцать – брусники. Иногда гордец таранил собрание игл полным рейсом – и скреплял версию сорока коробами земляники, чтобы дальше заматерела в чернику. Но внезапно, чертыхнулся Счастливчик, внутренние органы его дома – банки, бочки – без видимых мотивов закрылись сонником и молочаем, или бородавником и козьей шерстью, редуты сошлись с полузабытьем, а кочки, естественно, окочурились – и все стало каким-то марким, затем жеваным – и вовсе слепым…
Ветер волочил по асфальту кассовую ленту в фиолетовом крапе, длинную, ритмично надрезанную и завитую, и с ней – шуршащие истории о кассирах, бежавших с деньгами и молодой возлюбленной – к морю.
Ближние из провожающих трав стояли навытяжку – в тревожных зайцах, поджав в дрожь верхние лапы.
– Возможно, кто-то пожелал – суммировать увиденное… Перевести на язык волшебных звуков. Или на язык пустыни, – замечал темный охотник и, невзирая на оглашение собственной спешки, срезающей спешащую Мару – в арьергард, не порывался разомкнуть мизансцену – и доправить дорогу до какой-нибудь булочной перемены со стеклянной солонкой в глазнице, до перепада приборов и нравов – или до зачтения приговора, следов зверей, но складывал руки – на полуфинишных перевязях, отчего кубовые шпаги, вооружившие его – от перстов до ключиц, отпускали колкость и дружественно перевивались – с завсегдатаями серпентария. И пока силы симпатические вскрывали над темным охотником – ковши с зеленой завесой и воспаленными бухтами складок, темный посвистывал и непринужденно подчеркивал переливчатым – философическую обочину в горжетке травы, и скучал ожиданием, когда Мара одушевит свой уличный долг и сопроводит спящего – по бурным снам его.
– Я не посмел сказать, что референтные группы помидоров и огурцов отвергли истца как бестактного: ни меры, ни вкуса, – вздыхал спящий брат Сильвестр. – А потом Счастливчик сентиментально благодарил меня за такую редкость – содержательный разговор, в его устах – базар, и шагнул в свои обезрыбевшие картины. Итого: пока вы неуклюже торопились свести два квартала – к цифре пшик, гиганты успевали выложить обширнейшие мозаики, антре голопузых детей гряд и реев, периодически полнокровных и сушеных… Парадный вход в Услады Человеческия! Вы не умеете потрошить время.
Высокий фургон – то ли на подъезде к горбатым лоткам, запряженным конскими головами весов, то ли в предчувствиях Большой Провиантской Стены или Большой Стены Тьмы – сдержанно выказывал верхние лунные углы как вставшую посреди тротуара и расписанную инеем триумфальную арку. Отпотевшие силачи, пораженные смутностью и немотой, выхватывали из абриса кладовой седые, но молодцеватые коробки, и следующий шаг был – исчезновение. А может – неназванные герои разбирали свои победы, или мародерствовали нестроевые.
Мара вдруг обнаруживала, что проезд во двор, в чьей диагонали она наблюдала между словом и словом – отнесенную полосу лощины и узкокостные до схематичности клены в острых осколках – наброски корон, нарезки зубчатых стен и взятые в красно-белую ленту, или в шлагбаум, растекшийся поливальной кишкой, мотыльки карликов-маков и гуляющие в панамах кашки, на деле – зеркальная дверь в неведомое учреждение, чьи ледяные створки поддерживают и умножают – уличное: газон и деревья, всего в шаге от Мары, и надломленный лист сообщал – уже не из расщепа древа, а из дверного шва: «Прием посетителей прекращен». И если кто-то, полночный фланер, не найдя своего двойника, обижен, что палят дуплетом и левое надставляют – левым, так нет ничего нового под луной, и все – мыший галоп и томление духа.
– Кредо его – на конце шипа, тот в ягоде, та в засоле… уличный базар – в улетевшем слове. Все выходит из берегов! А теперь меня выследили новые двое. Вы и ваш дозор, – не останавливаясь, говорила быстроногая Мара и строго уточняла: – Итак, вы утверждаете, что не видите никого, кто пригрел шелковую фигуру бездействия и любезно вставляет в нашу беседу – кое-что… летучие образования. Но живо ощущаете, что никто настойчиво отправляет взоры за вами.