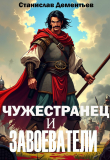Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
из книги пира
XLI
…суть дома сего – вхождение в сверкающую ночь торжества или в торжество ночи. Большие сгрудившиеся: декламаторы, виночерпии, сердцееды, их смещения и отождествления… Любовь обнаруживает кучность даров на высоте и запорошенные глаза, а вещи вложены в грани с бегущей искрой. Многие звуки сплетены меж собой и плавны… Так что все недоставшие улики – здесь: готовы превращаться в вино, и в злаки, и в румяных зверей дома. И хотя вздутое пелериной стекло или балетные пачки фарфора музицируют о пошедшей хрупкости… о сердцееды и зверобои! – их неустанные уста!..
Но что за вторжение – во вторую треть торжества, в полутень от стократ пересекшихся веселых путей? Кому пред захрустывающим вертеп и обсасывающим ножку канкана телевизором ниспослан – кривоугольный сидячий сон? Жуткий старец дивана, восточный пришлый из свившегося в каракуль странствия – или в смирительном бредне пространства, сбежавшегося на нем в последний узел. Нет, безобразный жид – Шейлок, заспавший жену свою жизнь или незабудочку-дочь – и что-то еще имел… он взял такой тьмы, что прогнула все трубки его остова, кое-как заткнутые дроком, и промаслила кожу. Это веки или чашки перекошенных весов? Нос или птица, севшая отдышаться в ботве морщин, анемичная анима? Губы или выползшие из бездны березы грибы? Но расколоты фаянсовым блеском где-то прихваченных, как корки – собаке, зубов. Он непристоен – в здешних ясноликих торжествующих, в точеных и медоносных, держащих в груди – не сердце, но череду роз. И пока дряхлый поползень восточной души обшаркивал ставни снов, пред сгруженным в угол костным остатком чужеземца кривлялся – немолчный ящик-табунщик, разбивал вражеский нотный стан, топил плавающие в лагуне видения и, сдувая хук и свинг, желал усыпить – и детей, увести сладкими голосами – за круг торжества, к утренним небесам. Всходили времянки сада и поля – и торопливые, приторные речитативы. Деточки, вы жадны к загадкам? – куражились ветви и несли сквозь грифельный сад пернатые кошелки скорлупы и переносы и переносицы с орлиными яйцами глаз, или – спуды кочек над упавшей в соль водой… И дорогу в поле закручивали вспять то ли длинношерстные паутины, то ли – снятые с граммофонных пластинок ожерелья царапин. А хотите, мы вам такую загадку загадаем, что никогда, никогда… И прорыв в поле заслоняли бандуры – бочки дождя, и размывали, и подмешивали в направление – камни, гримасы сфинксов и железные кубышки когтей, за которыми там, вдали… да, сестрички в зеленых платочках… Ну, детки, размыслите-ка на файф, и дорогу в поле перепиливало жужжание оводов и ос, и взбивали муравейники и курганы компоста, – вы, конечно, отгадали эту о-очень трудную… Болтливый сад брызгал росой, и притоптывал кирзовыми пнями, и чмокал присосками сучков, раздувая листву – в шестиконечные разрывы. Ну, конечно, это… Поле редело, и ручей нес главную линию – надорвавшуюся жилу… Взрослые же сердцееды и виночерпии старались над загадкой страшного диванного или коверного старца с заклеенными глазами, забившегося – в укрепсооружение сон… в хороший отдых после трудовой жизни. Кто сей – неверный, вывороченный клещами и щипками из остова, маска, я тебя знаю? Внутренний эмигрант, он знает – власть груба и плохо окликается, и тьма огней не обелила его но – подкоптила. Какой чужой – по свившейся в овчинку тулье волос и по налипшему на подошвы… По перебоям дыхания и топляку времени… По улице из сентября в декабрь, от кривляющегося в примерке пенсне и моноклей дождя – к невидимому лесу, бинтованному снегом – в березняк. Размытая часть – на миг, на вырост – кирпичный дом: отступление, три ряда оконной пелены, подхваченных закатом плавников и перьев, и в серединной раме – таинственный красноватый свет, уводя вглубь… Оглохшие ворота с кособуквенным окриком: машины здесь не ставить. Три ведьмы – лиственницы, сомкнув веки с кружением земли, и все выше – полураспады золотых ресниц, и градом – шишки слез… Но, конечно, родня – последней в ряду уличной продаже перчаток: семи черным реям отрубленных, сморщенных кожаных рук, что шипят на ветер и корчатся, и рвутся с крючка – летать по городу, рассыпая – накипь и козни. И свояк прихваченной черной армией искореженных перстов и пахнущей крысомором безнадежности…
По разговорнику: о, не просто пра… а скорее – щур… Не поверите – муж! Вечной кузины дома, уже не вспомнить, чьей именно – простенка, наличника, окна… Ей смерклось – две семерки, две косы, давно наточенных до песни, но ее любимое уравнение: жить – равно стоять замужем, так что материковую часть она чинилась в мужевладелицах. Для вас средство выражения личности – движение, танец, паркинсон… или сборка стальных конструкций, телекинез, наконец, поиск тротилового эквивалента – тем и этим объектам, а для кузины… хотя пятерка приобретенных ею габардинцев – не сказать… предыдущий был к ней в расчет – тремя месяцами, развлечение на сезон слякоти, и тоже провален. Но сестра косяков мудра: если где-то что-то течет, тянет гирю, цыкает вкруговую зубами, ее это может не касаться, да? Вырвать из души рабью преданность тяге – и вдыхать настоящее. Не видеться сколько угодно – лет, столетий, но при встрече, в попытке потрошить, чем семеричная оптимистка полнила прошедшее или просемененное… слово время здесь – бранное, чем множественней его число… но – иные длинноты: чем наполнены – темы, планы, оказии. И вам разворачивают последний день и час: отлетевшая от календаря цифра, забродившее варенье… Дрянь в кошачьем манто, столовавшая воробьев на трамвайном биваке, соря им свои пакостные семечки – между рельсами, чтобы налетевший железный рысак разлузгал птичек! – а прочее уже… Итак, кузина напряглась в-шестых – и нашла осколок дьявольского числа – шестого мужа… Шейлока, отсучившего себе этой Вселенной – о, лет на восемьдесят с…
Декламаторы и сердцееды уже превращались в виночерпиев, а спящий – в провожатого, в царапающийся кустарник с ягодами прощания – с той, кто вышла к нему из Мертвого моря и кого проводил – обратно в пену, и пожертвовал с ней – всех, кого взлелеял, и сам уже – Мертвое море, суховейский ветер, никто. И не отгадать нам, кого никто столкнул со скалы – или накормил умирающего из рук своих, бросив бутерброд между рельсами… Пред вами ростовщик или спаситель мира… Но скорее – непреходящий жид. И поскольку сквернит око – кривизной черт и пропорций, и поскольку оскверняет – золотое сечение нашего торжества, ни один из нас не сопереживет ему.
А вдруг кузина старушки-двери заспала или заобедала, что опять – жена, что это восточное дерево – ее шестой муж, и отбыла?.. Веселый из сердцеедов произносил: он так давно спит, что, пожалуй, проголодался, пора растолкать его к столу, я заметил, что горячее полустерлось… И декламировали: да, чтоб свинину нюхать? Есть из сосуда, куда ваш назарянин впихнул всех бесов? О, я буду покупать у вас, продавать вам и лгать… но я не стану с вами ни есть, ни пить, ни молиться… А седьмой виночерпий с голубыми, как долины винограда, глазами хохотал: – В его возрасте лучше лишний раз поспать, чем лишний раз поесть.
XXIIC
Дева ужаса Леокадия была здесь с выездом – в лето шестое от ее бесформенного ответа Учителю, кое-как обнаруженного и немузыкального. Мною было отвечено… – лепетала впоследствии Леокадия и, разбитая отвращеним к себе, никогда не могла воспроизвести, но отняла от прав своих – сообщаться с Учителем чем ни есть и из одинаковых со всеми условий.
Ее сопровождала Марго благотворящая, знающая в посредничестве. Разве можно так каторжно помнить кого-то постороннего? – удивлялась Марго, питая себя южными соками земли. Ладно, выпьем за его уши, за крахмальные мульки, которые пачкал твой амебный ответ… За его глаза, смотревшие над тобой, какие у него радужные оболочки, помнишь? Орлан пополам с белохвостом… Бурав пополам с отходами. Проглотим – за его палец, который указывал тебе путь, а других подзывал, – пусть срастется с остальными и зайдет в гнойник, и все его подвески и неустойки… И допьем – за его тяжелый позыв к женщинам и пологое миропонимание… А теперь, когда мы расчленили туловище, а наша разблюдовка ушла, мы пересядем к нему за стол – кто, если не наставник, наставит нам еще? Значит, с тех пор ты не произнесла ему – ни собачки? Ты – настоящая могила! Зачем любить сложа руки? – здесь Марго загибала язык свой под прощание капель. Возьмем его между страстью и страстью и сделаем перегруппировку сил. Он, конечно, красногалстучный индюк, сладкомясая пионерия – всегда готов, но раз ты его любишь, пусть платит за чувство – плодово-ягодной юшкой, ничто не бывает само, учила Марго благотворящая. Ну, теперь этот папа у меня под прицелом. У него всегда есть – от спирта до тормозной жидкости. К нему, к нему!..
Лицо благотворящей Марго было чрезвычайнее лица, сбывающего фальшивые доллары, хотя бледнее желаний, подавленных, как туфли для автобусных путешествий, и к чему жить, если не к чрезвычайности? Дева ужаса Леокадия и Марго прощались с субтропическим соком земли, сложившим струю здесь и всполошившим – чуть поодаль, в педагогической среде, и в погоне приспускали на себе замокшие тоны и благовония, садили на язык мятное, отзывавшее отроческую чистоту, одалживали у города приходившую первой пожарную машину – и сокращали расстояния.
Но едва они приблизились и покинули трубящий и брызжущий красный фургон, Леокадия возвращалась в деву ужаса, на шагу высоко поднимала ноги и постыдно длинно избирала, где выпустить стопу. Марго тосковала от вошедших в Леокадию перемен и провисания приключенческого выезда. Мы же не рубить, мы – почти на фотоохоту, убеждала благотворящая. И, не отвергая силовое и болевое давление, приближала деву ужаса к явочному дому. Но взгляд Леокадии серебрили мертвечиной шеренги – дворовые гаражи. Один раскрылся, а из недр шла дождливая корма. Леокадия, имевшая весть, что Учитель владеет авто, думала: она! Правда, папамобиль не был прояснен: боевая машина – или сарай на колесах в одно и-го-го, но и колеса, и принцип работы – крайне похожи! О мерзость – дать себя в прыжке, в задравшейся перистальтике, обнажить, что ты – все ближе и циклопичнее, сбивая собой – не единицу живущего, но подавляя – жадными мириадами: от микроорганизмов или гельминтов до… до… Гадкий животный ракурс – крадущегося к добыче, захлюпнув в себя все свои звуки, исковеркав тело пробками и растяжками, а из неучтенных разрывов сочится – бескормица… И пока из гаража ползло, Леокадия в тошноте от происходящего вся сошла за дерево, чтобы не узнать оператора, а Марго не просматривала даль, но не глушила глаз – остеклением. И пока подвода не подвела себя под горизонт, Леокадия не отличилась от ствола.
Но когда благотворительнице Марго удалось провести Леокадию по горящему и ерзающему под ногами пейзажу еще на три пяди и почти к подъезду, их встречала другая острая коалиция: люди, птицы и зверь, и последний, поместившись в изрядной и кипучей особе черного панбархата, со штампом луны под корчеванным хвостом, имел личную неприязнь к замешанным из чужих земли и воды – и вечную радость взъярить гром. Гору подозрения составила также – неизвестная автохтонка в заломленном кепи, с лицом ежесуетным и ежевичным, вошедшая в бриджи не то камуфляж, не то конфуз с чужого бедра – с обрюзгшими, возможно, на том же бедре, карманами. В опущенных – раздували шею и топтали друг друга две двукрылые фиолетовые единицы и бело-коричневая, коих в целом топтал – нестабильный барчук, легковесный для натурального и тяготящий – своей незавершенностью, сближением с бескостной куклой, проворно вступившей в игру, чтоб выказывать – гундосую алчбу сладкого и одноплановость, посему в обращенных к нему периодах, сиплых – камуфляжной и отрывистых – панбархатной, влеклась фальшь. Леокадия, имевшая весть, что Учитель полон домочадцев – кормильцев и иждивенцев, вновь трепетала: а вдруг – они? То же панбархатная луннозадая – вдруг из выхоленных, учительских? И, объятые в коалицию сарказмом, наблюдают, как объятая ужасом Леокадия и благотворящая Марго – подбираются… Могли ли выходцы из мрака подъезда не идентифицировать Леокадию – с ужасом, а благо – с Марго? Могли или не могли?
Леокадия пред многоглазой композицией с сеянными в разных уровнях прижимистым лаем, низовыми клокотаньями, и гундосым дай, и отцыкиваньем внезапного интереса – мечтала без промедлений сойти во тьму, и Марго легко смещала ужасающуюся – в углекислые лестницы. Леокадия опрометью шла к лифту, благотворящая же едва ее догоняла, успевая оттеснить Леокадию от закатанного в пазуху лифта баяна и, не давая порскнуть на верхнюю кнопку, давила незатейливые дорожные ми-мажоры, а лифт вез деву озноба и деву благотворящую, и с ними бушевания мехов – на учительский троячок, где Марго вновь успевала к рукаву Леокадии, чтобы честно покинула малую авиацию.
Изгнанная из летающего железного шкафа Леокадия уже сама летела на следующую площадку, чтобы, прежде чем разделить с Учителем стол, сойтись со стеной и заглотить ее твердость. Чтоб содрать с себя сыромять будней, вытянуть из позвоночника турецкую саблю и взять царственный образ… а лучше – быть немедленно взятой отсюда хоть на седые утесы, хоть в чердачное окно луны, до которого еще – полдня пути в гору, далее – по отвесной стене ночи… и сорванный канат Млечного… Однако Марго, разбуженная южными соками земли, не желала таиться, но – быть услышанной и препровожденной к эликсирам. Потому предлагала Леокадии – спуститься к месту и звонить, а найдя ее глухоту, держала – площадной зов глашатая, коим разжевывала, что тактика жизнетворчества – сковать, не дать и опередить. Дева ужасающаяся, внимая завету, едва уворачивалась от обморока, но чувствовала: территория заволакивается. На шум грозились вышагнуть из стен ключники: насельники и надомники, не говоря – об Учителе! О домочадцах: кормильцах и иждивенцах, если ловко спихнуть коалицию под подъездом – в заказанные сарказмом пустотелы. Где-то фордыбачилось до немедленной выволочки отбросное ведро, а кто-то в сей миг оставлял семью… Санэпидстанция с минуты на минуту могла сделать визит опекаемым тараканам и грызунам… Всем, всем дано было высмотреть Леокадию – крадущейся!.. Но твоя беда в том, – между тем дополняла зов свой Марго, что у тебя нет концепции!..
Дева ужаса ставила шаг вперед и другой – ввысь. Но из неясных сторон выходил лохматый шорох, и несчастная стремглав отлетала – за петлю лестницы. Где, кусая пальцы и налетая зубом на циферблат, догадывалась, что Учитель, золотящийся ныне – в приватном образе небывалой близости, за напылением стены, редеет и пропускает известковые золотухи… а способность ее к речи, похоже, опять загоркла, и звонки в священную дверь уже вытерлись… И за каждой расширяющейся в плечах дверной крышкой Леокадия беспощадно прозревала – засады и арсеналы, и во всяком глазке встречала – оптический прицел, и под всякой мушкой – разящее недержанием дуло. И, пока двигаются глаза и еще не утрачены связи с землей, лучший прорыв на позиции был – освободительное движение: девы глухой – от девы подслеповатой, но остро внимающей творению благ… Подчеркнув наблюдателям, будто веруешь и следуешь – направлением, уложенным в шпалы лестницы, как-нибудь прокрасться через сей вытоптанный сектор – к лифту… или пробиваться врукопашную – и снижаться навылет.
Однако из низов вдруг пучилась контратака: вносили целую армию голосов-первоцветов, поддержанных бурями ничем не обоснованного веселья, – и свою, прогулочную, идеологию лифта. Воздушная передвижка ускользала от Леокадии и лениво отвлекала свои расшатанные аккорды к началам, там в подробностях помещала все нагрянувшие голоса и еще прохладнее влачилась под крыши, где находила лишь много желаний – сложив пропеллер, вновь погружаться в надсадные технологические процессы. Посему на дне, раздвинув дверцы и выпустив клубы внутренней отрады, лифт опять замыкался и зацеписто путешествовал вверх, а после – вновь на посадку… Леокадия не смела выцедить вздох и все более раздувалась – и заходила в новые прицелы и глубже под мушки, тогда как односторонние прения Марго уже заходили в дальний звук и в дерзкие умозаключения: раз Леокадия темнит и не отвечает ни Учителю, ни теперь уже – деве благотворящей, разобщив себя и последних – недвижимостью: малоподвижным бастионом, оставив Учителя – на Марго, то единственное, что остается посреднице, кстати, рисовавшей себе между словом и словом заревую губу, – принять зависшего в воздухе руководителя, орлана с буравом, на себя и проявить, как «Спартак», свое изрядное красно-белое мастерство.
Страшные грязные кружева предсказанного слияния раскрывались пред Леокадией, как рваные летучие мыши, волочили змеиный шелест и ластились к ее одеждам иловатой оборкой. Подъезд все более отягчался музами бытия. Нездоровый металлический звон шел от сплетенных в венок почтовых ящиков, о заслонки их дробно колотились черные комья газетных букв… на площадках сгустившиеся длани деревьев, подстраховывая друг друга, душили натянутые шипением стебли рам… и все изощреннее становились способы перевозки голосов, лифт бескрыло метался в бункере, нападая на стены, вздымался наобум и куда-то пушечно садился, меж противоборствующих в нем дерева и железа неустанно сочились отработанные веселья движенцев. Теперь уже и внизу и вверху клацали расщипанной бородкой и резались в штопор затворы, палили залпы дверей… Рядом, внутри кладки, нарастал подмоченный вопль: отстань от меня, отстань, отста-а-ань!.. Незримый художник камня, проходя сквозь коробку радио, повествовал о том, что волнует душу художника: – Сам по себе камень закрыт. Однако я сумел его раскрыть – и теперь камень заговорил… – и прочил не оставить камня на камне от стен – нераскрытыми и водящими глушак и молчанку… Да, а в финале я! – кричала благотворящая Марго и превозмогала тезисом – известия раскрывшихся стен, потому что в финале не бывает слабых соперников!.. И сколачивались этажи шагов, и лай панбархатной, и вой иных, утяжеленных природой зверей. Донные допущения – кубарем поднимались, а верхние катились по порожистым маршам все ниже – к панической деве ужаса и ораторствующей деве благотворящей, сообщавшей, что на прохождений вертопрахов – на длине рук или иных длиннотах… научится на представителя юриспруденции. Но представит не адвоката, а прокурора, потому что, признавалась дева благотворящая на открытом диспуте минералов – с владеющей лишь арго штукатуркой, мне всегда больше нравилось – не защищать, а осуждать!..
В миг последний, тщетно ища спасения, дева Леокадия открывала беззвучный и постный рот и подхватывала ужас свой и все, что лепится к туннельному, и сошвыривала с лестниц – в продавленные зловонием черные огурцы парадных дверей… или в либеральную модель мироустройства… И несла ужас, рассыпая, где узко, ручейком и змейкой… и при носке путалась в аммиачных разливах осенних позолот, но смотрела в неотложную скорость «неотложных», каковые последние – спешат к смертникам и столь живо, что проскакивают – много дальше, оставляя тут и там – неотложные от крови кресты, а эти – сливаются в мультипликационной гонке, вышивая средний уровень города – полувоздушный коридор жизни – кровососущим бордюром…
XXXII
…день семидесятого года и семидесятого рождения тети Маруси, подсыхающей вместе с гидрокостюмом реки, забытым на антресолях холма и впутавшим дельту капюшона – в волчьи ягоды.
И в семидесятый раз спрашивал тетю Марусю барханный хор, или хорохористые сойки, присевшие на порог ночи, и ночной козодой: чем вы приняли заниматься в жизни? Каковая занимательная – все тоньше, согласно тонкой солдатской… и подхваченная земля солдатской шутки: жизнь вошла с вами в боевой контакт и нанесла потери… на что тетя Маруся рапортовала, устрожая голос до контрольного и не сбившись: – Поставят задачу – будем выполнять!.. Даже если решения этой задачи не существует, все же лучше – поставить. А мы всегда рядом с вами, отмечали вопросившие – поющие присяжные или песочные птицы, или та, что, единожды порхнув, выхватила тетю Марусю, необъявленную Марию – в молодых первомайцах с демонстрацией светящихся лиц, и пыльников на высоком подложном плече, и фанерного аэроплана, и надписала на крыле: здесь были и есть… или: мы, друзья, перелетные птицы… а поздний сквозняк или поздняя тетя Маруся нанесла на щеки ранней Марии – мазки тюльпана и мака.
Посему и к семидесятому рождению вновь дарили тете Марусе – не потомство, но жизненные задачи – парторга или землемера, хоть не прежнего необъятного услужения Родине и мерного шага по ее мытарствам, а – землемера, и мытаря, и менялы ЖЭКа, и она приняла почетный ход – от крыльца до крыльца, блуждание в лесу лестниц, в горных ущельях у щелей дверей, сквозь которые подавали ей голос дети партии, в перелазах и зеленях на их старых гнездах, чтоб забрать то ли подати, то ли взносы: вырезку из их золотых тельцов по прозванию боевые, и заверить, что в руках партии тельцы сии, вне сомнения, удлинятся… Между тем река уже откашляла с холма зубы лун и все мокроты и сносила посох течения – в позумент, потерявшийся в песке, и отстала от жадности – примерять на себя что ни встретит: пламенные глаза солнца, и группы и единицы, пролетающие на разной высоте, и жевать, как на торге, верхушечные срезы улиц и построенные над ними треуголки, папахи и метущиеся короны. И изверглись кочевья спорной земли, приписанной – к белодонным соборам снегов, или к мечетям лета, или к их создателю, и валы чужбин, и явилось назначенное – косточка оболочки…
Гости тети Маруси были – братья самоотверженности и друзья перелетных птиц, такие же тростевые кадровики с вытопленным оком и устланной мерзлым шелестом гортанью, лбы имели степные, раскатившие сияние – к апогею, а платье – двурядный костюм, назначенный выстоять – под защекотавшей его струнной полосой и под листовским усатым аккордом медалей, и негнущиеся ботинки начищали не гуталином, но осенними или осинными бархотками с развернувшего им ковровую дорожку – Дерева последнего часа. С каждым гостем были два ангела или две жены. Прима-совесть – прозрачна, как разлука, посему – невидима. Ниспосланные вторые – локоном перманентны, телом прямоугольны, как лобовая атака, и укрыты от поражения – текстилем, раздевающим династии земных растений, дабы уподобилась жена – празднику урожая и бушующему гумну, а не редколесью и крутояру. Пальцы влагали в оправы экзальтированных металлов, а голос шел – многодневный, метущий заслоны.
В кратком поминании: богобык самовар, топчущий стол, или вождь, опоясавшийся застольными ликами едоков, вознося их и себя многими ступенями – к вневременной форме чуда: к дворцу Мавсола… Краски и сияния: обернутые флагом багрянца наливки, и воскрешенные в графинах лазоревые башни льда, но уже разлагающиеся на токи слез, и щербатые уксусы, и горчица – желта и ядовита, взяв масть – адмиральский погон, и летящий перец, порох, прах… Изрубленные узлы пунцовой овощи, а также разбитые на красные доли рыбы и центральная тема: сбитые белизной в тучу головы с крылами накрест – платформа с пельменями, и камбуз бузящих вод, кроющих новые противни с осыпанными мукой головами, и страстное ожидание – счастливой, где спрятана копеечка.
Гостья Галата, соратница по старой коммунальной квартире, оплывала собранным из щепоток одиночеством, а кто-то великий, задувавший ей сквозную любовь – сквозь медный рог и протягивавший сквозь антрацитовый гобой, сгрудился сам в себе, как скалы, вечно навытяжку и лишен движения – и земного пути… и беспутен, и имя ему – камень молчания, который насмешка над стоиком разбросала – тут и там. В семидесятом рождении тети Маруси сей первородный и произносимый лишь камнем, несомненно, стоял по колено – в козьей шерсти чуть прошедшего стада облаков или севшего в изумрудную шерсть тумана, но засылал один глаз свой – в пятно окна, и силился приуменьшиться до гостиной и воссоединиться взорами – с головным обедом. Простирался к тьме, затаившей под буфетом свою черную дылду в серебряных клапанах пыли, и тянулся к длинной дверной расщелине обжига ночи, подвывающей на одной ноте, или к щели, щемящей медно-медленный рог полдня. От напрасных его усердий оставались скрипы и пузыри за корой стен и книг, коими были первоисточники, а также первопуды и однотомы – гослитские классики, и источались в желоба плинтусов, и запитывали червоточины гостей – червонным светом. А в обиталище гулливой Галаты остались свидетели – овечьи и козлиные головы, окаменевшие в крестике на подушках, разбросанных тут и там, и на отмелях звона – лодочки с любовными парами, связанные лазурными соцветьями – с цветением мира, и съежившиеся в кулак раковины, зажав манерную и минорную музыку, и фарфоровые нимфы в гротах, и глазурные пастухи, пуская с локтя – корзины с изобилием, розы и яблоки, а также – веселые пепельницы с секретом и мятые нотные страницы, провалившиеся за диван. И уворачиваясь от замедлившего окно полдня или собирающей черные камни ночи, и заслушав петляющие походы тети Маруси, гостья Галата делала странные объявления, что вошла в Ренессанс, а дальше правит – в северные искусства, придвигала к себе блюдо с яблоками и, вооружась косарем, деловито снимала с фрукта – картофельную кожуру сытого года. Но обескураженные нажимом яблоки превращались в розы, и Галата не успевала насладиться – и тянулась за четвертым наслаждением, и за седьмым…
Когда с окрыленными головами было прикончено, красные гости перевесили струнные пиджаки с себя – на грифы стульев и сопроводили одышкой усвоение провианта, но обнаружили силы прошелестеть барханным хором – многую песнь войны. После чего тетя Маруся находила в комоде три новых атласных колоды, их с выхлопами распечатывали – и, не мешкая, все пришельцы включались в карты, потому что, сколько помню, братья птиц и соратники тети Маруси были – головорезы-картежники, но резали – исключительно дурака и «девятку», а других игр не ведали.
ПОЛНОЧЬ ДЛИННЫХ КОЛЕС
Ишь, чаю набузгался, сидишь, как Карл Маркс! Слушай, ты очки подбери свои, понял? Пусть тут, на столе, не лежат. Давай, спрячь в карман или ко мне в сумку. А то этот, с верхней полки, сейчас спрашивает: это мои очки? Я говорю: с чего это – ваши? Это мужа очки, не ваши даже ни на сколько, а ваши – откуда я знаю, где? А потом смотрю, а его очки – вон, над полкой, на сеточке парятся. А то бы цапнул твои очки и привет. Да он спит, не слышит. Я говорю: вон ваши, на сеточке, а это мои очки мужа. Смотри-ка, сам дрыхнет, а очки понадобились! Так бы наши и захапал. Он, когда пришел сюда, закрыл дверь и переоделся, я в коридоре ждала. А потом ушел куда-то, говорит, в ресторан, голодный, что ли? А вернулся, еще в сумку зачем-то заглядывал, из сумки что-то ему приспичило. Потом лез наверх спать, и вдруг просыпается – и на твои очки нацелился! Спрячь, спрячь. И что ты так любишь купе? Вечно тут сперто, вздохнуть нечем, в сто раз бы лучше в плацкарте ехали… Куда ты опять собрался, какие пятьдесят копеек должен?! Почем ты у них бутылки брал? И еще пятьдесят копеек им отдавать, когда они воду за столько продают! Сиди, не ходи никуда. Небось не помрут без пятидесяти копеек. Да у них в ресторане такие барыши, тебе и не снились! Сиди, говорю, нечего. У тебя щепетильность, как у помешанного. Допей тогда эту бутылку – сдашь заодно. Чего это стыдно? Это наша бутылка, мы за эту бутылку платили. Не выдумывай!
IIXC
МУЗА (раскуривает на подоконнике длинную трубку. Рядом лежит книга П. За спиной Музы в раме – горный пейзаж. Вырывает из книги страницу – на раскурку. Смотрит на букву П). О, как я презираю этот проем, это неубывающее приглашение в пустоту! (К присутствующим.) Вы, разумеется, можете предложить мне тему для импровизации. Например: пиры, продолжающийся праздник, поезд незваных гостей, скорость замеряем в потерях… Черт бы пустил это П! Позор, провокация, пороки… Посещение Мамигонова… кстати о незваных и потерях. (Наконец пускает из трубки тонкий, душистый дым.) Мамигонов – это болезненный процесс: борения, исступления, выход дольних пород… Над его проблемами усердствуют худшие умы человечества: о, посадите меня на эту часть света и дайте, дайте руководить ей… (Пускает дым.) Однажды издатель, книгопродавец и я праздновали вечерний час, не ожидая в опустевшее книгоиздательство – ни-ко-го. Но Мамигонов – тут! Вносит непросохший роман и способен рукопись продать. А прежде ищет дать благодать чужому уху и высматривает – каких счастливцев охватить первым авторским чтением с листа. Старой маме Мамигоновой, видно, уже зачел… (Надевает на голову лавровый венок.) Я хочу огласить коллегам по столу настоящий роман – мой, и посвежее – сегодняшний! Одновременно ко мне в котомку закатилась еще бутылка водки, не сдавать же при Мамигонове, что от нее осядет, кроме кляксы? Все жду, что внедренный в тело книгоиздания враг рассеется, но Мамигонов тверд. И мне подсказывает сама печаль: придется записывать эту твердыню – на себя… Допили, что – в первом приближении, то есть на виду, и я говорю: Мамигонов, издателю пора издавать, а книгопродавцу – выходить на читательский рынок и контролировать финансовые потоки. Правы ли мы, что все длим наш нескромный литературный пир? Он прослышал в моем голосе – зов и, наконец, засобирался. Я шепчу книгопродавцу и издателю: буду здесь через двадцать минут с водкой, ждите! – оставлять им тоже, знаете… Но Мамигонов – женолюбив, безотходен – размахнулся меня провожать. Сворачиваем к площади, а на пастбище ея – полный собачник! Наши несчитанные охранители в крысиных шинелях. Сращены с дубинками и четвероногими сестрами, бьющими хвостом и щедро дающими голос – и привыкли получать на счет раз. Над всем автомобиль – немытый лимон, в недрах – полная скверным словом рация, а на куполе – бегущее вкруг себя и горящее на том очко. А мы – меж большим возлиянием и другим большим. Идем и не дышим, чтобы не отдать наши интересы – воздушно-капельным путем, и ну пожелают пересчитать нас по головам, проверить документацию – о легитимном существовании? И тут мамигонов кейс, что едва сомкнулся на новейшем романе, – тррах! – и… как разломившаяся на зачитанном месте дурная книга. И все страницы от Мамигонова – врассыпную. Не сюжет, а порох уронил не успевший в литературу поставщик – под колеса и лапы внутренних войск.
Вижу, глаза Мамигонова встали. Конец романа. Но шепчет гоголем через запертую губу: – Оставим в огне, такова судьба… – а то! Налицо – полная несостоятельность таланта: ни литературной секретарши, ни всестороннего агрегата, чьи жесткие колеса принимают навечно и возбуждают множество, все свез в мир на заправленной треском карете, на бреющей машинке – в одном на человечество экземпляре. Конечно, с его закрывшейся новинкой ни благоденствие, ни любострастие не уйдут, но разве Мамигонов проникнется этой конъектурой хоть на палец? Бросишь роман, возьмешь – безутешного автора, а это в пять раз длиннее! И престарелая мадам Мамигониха заживет растоптание сыновьих листов? И вот мы с ним, выхваченные из густого хмеля – фарами и засвечивающим очком, этой очковой мигалкой, ползаем на быстрине правосудия – под ментовским кузовом – и собираем по строчкам его облаянную культурную ценность.