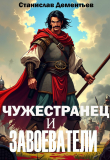Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Возможны его жена, она же шедшая мимо, и записные дети, не вступившие в город С., сдавшись – моей аморальной, но победительной линии: в последний час утвердив героя – в невидимых. Для себя – и для всех по ту сторону госпитального вала, ни к кому в С. не послав вестовых, что блудный брат их и всею жизнью жданный гость – вернулся. Точнее – возвращен, и дни его не имеют другого истолкования. И в цепочку – подслеповатые яблоки, прокатив на себе запекшееся солнце – мимо рук его, бездарно искавших по одеялу, но – к лучшим едокам… и понесшие от печеных яблок пустобрехи-куры золотой ряби, обещая себя – не ему, но истинным отцам – правды, реализма, особенной въедливости… или самому рыбному месту… Молоко и мед в шорах кадок, взяв не тот наклон и пролившись – не по осоту чужих усов, так по дурнишнику морщин, так по пастушьим сумкам щек и по кострам из автомобильных покрышек, оставив ему – государственное угощение брандахлыст… Ни чьих-нибудь праздных, назойливых вопрошаний – о надежде, прочной, как шрапнель, или траченной, но все же… Ни расплетающихся быстрее, чем чапыжник его пальцев, чьей-то памяти велосипедных колес, что довезли бы – до ветра… и мимо – к огорошенной птицами дороге…
Вот когда устав драмы посрамлен на слом, на скандал! Где обязанная явиться – та всегда полная Ложка на все времена, поднесенная им – мне? Извлекавшаяся мной к каждому обеду – пред глаза прекрасной иудеянки…
Нержавеющая ложка, на коей нацарапано: накорми голодающего – из рук своих, начертано: утоли страждущего – у смертной черты… Варианты – подержи ему таз с умыванием, сверхопасную бритву, крест…
Возможно, и это его исчезновение – общее место… как у всех – целина одиночества. Дублированное набежавшими в узел дорогами: приблизительный Крым, и кремнистый, конопаченный сполохами лес, и затянувшаяся на запад, выбросив над собой шлюпяки, – долина…
Старый сквозняк переслаивает слова старой самарянки. Но мы могли дежурить в его пейзажах. И на каждом шагу последовательно прощаться. Перекрикивать канонады – над его бушующим лбом. Или он простился со всем уже раньше – и в дельте судоходной госпитальной ночи ему играли совсем другое? Он и себе теперь не был виден, так что ложка прощена… далее – прощеная ложка. Но, Бог мой, Корделия шла мне в руки! Жаль, опять не по росту…
Недоумение старинной дамы – или сотрясение гор! Окаменевшие, гомерические гримасы, ложчатые вмятины слез, бедные ореады…
И когда надо мной трудилась школа, стесненная в злокозненных сроках – моими побегами, досылая вдогонку – басовитые артикуляции, и когда шел мой расшпиленный, расточительный университет… притеснения и гонения – за добросовестность жизни, одомашнивание великих сюжетов… впрочем, ни та ни другая сторона ничего не называют своими именами… и когда мое студенчество завершилось – он еще… да, в четырех часах – длина утра! О, конечно, мы все равно бы не встретились – что-то подсказывает мне фатальное добровольчество обеих сторон – оглашенную над собою художником непреложность. Щедрость людей, изменивших себя до неузнаваемости. Но еще столько лет – культивация, рекультивация… вера, что проницаемость утра – сродни выстуженности ночи.
Ведь начала у меня, несомненно, есть. Его голос. С давней усмешкой прекрасной иудеянки: однажды в моем вечернем докладе о просивших ее к телефону голосах – неизвестный, обрывист, излишне – одна нота… несоприродность. Да, да… Как всегда – проездом. И хотя еще годы телефон оспаривали кланы голосов, мне удалось вспомнить обрывистый до неузнанности – тот… даже если пришлось – вообразить.
Я почти видела – одного из двух, наследующих королевство. Возможно, стопа формуляров, в кои вписаны оба, накренилась – и внезапно раскрылась мне сообщением: арьерсцену, где я скромничаю в своих служениях, порой переходит некий студент, чье имя – мое длиннейшее ожидание: корыстолюбие пятидесятых перекрестков, жажда пожирающего полувзгляда… не на брата моего – по призванности к предательствам, отпечатленной в чертах, но… но, возможно, младший Невидимый уже репетировал – свое не-вхождение в замкнувший смертника город С…
Отправления – из города на расстоянии четырех лет и еще утра.
1961. Моя дорогая! Я очень виноват перед вами. И все же так хочется видеть вас обеих… Пришли мне обязательно фотографию Юли. Встретиться с ней мне, вероятнее всего, скоро не придется, а видеть очень хочу, хотя бы издали… Хоть на фотографии. Доволен ли я, наконец, своей жизнью? Что тебе сказать?! Судьба моя, вероятно, наказание за все мои грехи. А что у тебя? Что на кафедре? Постараюсь в ближайшее время вырваться в С., найти тебя. И все же напиши, хоть немного. Жду письмо и фотографию.
21. Х.61. Моя дорогая! Опять я… Долго пришлось ходить на почту – я не надеялся на ответ. А потом просто не хватило духу встретиться с тобой. В твоем письме столько благородства, столько… Походил около вас – и так и не отважился. Твой запрет понимаю и принимаю. Но все же очень хочется вас видеть. Заглядываешь ли ты на институтскую почту? Домой писать не решаюсь. Сегодня я снова в С. Хочу вас, хоть только тебя одну увидеть, но звонить не посмел. Буду, вероятно, на следующей неделе снова здесь. Ответь мне что-нибудь!
Дорогая, друг мой! С Новым годом всех! Целую вас всех! Всегда твой.
Дорогая! Несколько минут до 1962 г.
Только что прилетел в С. из Москвы. Хотел позвонить тебе, но не решился. Вряд ли ты сейчас дома, а маму не буду беспокоить. Первой электричкой уеду к себе. Напишу оттуда.
Дорогая моя, дорогая! Я ведь тебе говорил, что минимум два раза в месяц захожу на почту. И все, что ты напишешь, я получу. Немного задержал ответ, т. к. пытался вырваться в С., но пока, к сожалению… Весь май на заводе были бесчисленные комиссии из-за несчастного случая со смертельным исходом в соседнем цехе. Ни к кому не доступиться. А сейчас все в отпуске, я остался один, и по крайней мере два месяца – ни надежды. Все же буду пытаться. К тому же на заводе есть кое-какие перемены. Меня хотят перевести в начальство. Директор уже предложил, а я, как умирать, не хочу. Что-то будет? А в остальном все по-старому. Живем, скрипим, работаем, ругаемся. Что у тебя хорошего? Пиши. Целую. Всегда твой.
10. IV.62. Милая моя! Дорогая! Опять я. Что же мне делать? Обещали отпустить меня в С. к твоему дню рождения, а потом… Страшно хочу тебя видеть. Как видишь, я еще живой, а что у тебя? Как ты, как мама? Пиши мне, еще и еще надеюсь на твое доброе сердце. Целую. Всегда твой.
Май. Поздравляю с праздником! Желаю всего хорошего, хоть это поздравление попадет к тебе вовремя. Целую, обнимаю.
Мою дорогую, девочку мою – с Новым годом! Целую. Всегда твой.
Все еще существующие бывшие ученики поздравляют с Новым 1964 годом. Как говорил профессор (по телевидению), желают мирного счастья.
Впервые я предала его в четыре года.
В третий или… уже ощущая вкус глубины – в семь или восемь, в начале шестидесятых. Отступление болезни, настойчивость Музы, скука маленькой пятничной старухи – пред видением изливающихся на постель чернил… изливающейся из чернильницы – пачкающей реки забвения, всепокрывающего течения вымысла.
Далее, параллельно походу черной реки – шествие из античной трагедии, чтоб продолжиться на всхолмье провинциального города С. и спускаться сквозь май шестьдесят пятого главным проспектом – до темноты: величественная огненная кульминация. Гладиаторы, хор. Всего двадцать лет пути – от долины ада. Идущие почти молоды. Они поют и танцуют. Братства, объятия. И по малому кругу шествуют малые чаши с вином. И мне – глоток трагедии из чьих-то высоких рук на перекрестке… чьих?
О, толчение неизменного снадобья: героические усилия – пересмотры заданных единиц, переводы в другие расходные меры… в длинноглазую оптику – и вдруг: сколько пересечений, сближений! Даже – излишней тесноты. Да прольются – на шествие огня с холма вниз. На тысячи факелов Мельпомены – на много лет…
Шествие: аренда – громоздкой формы реки.
Начертанное огнем направление.
Красные ливреи зверя.
Проседающая под тяжестью земля.
Шел ли Невидимый – в круговороте масок в толпе огня? Так нас крутило-вертело, и отовсюду сыпался огонь… И принес ли свое застарелое, покладистое прощание – возлюбленной им и мною горбоносой иудеянке в день тьмы, встав во многих, впрочем, уже неузнаваемых ее студентах, как всегда, не приближаясь ко мне… Он исчез несколько раньше? Но всегда невидимый – разве с тех пор переменился?
Он и в другой день мог безнаказанно наблюдать за мной. Nota bene: сумасшедшая лира старца, не подозревающего, что – обнаружен. Сумасшедшее воображение: если я существую – он все же поднял на меня глаза.
Спросить мимоходом старую самарянку, не слежалась ли где в каменном перелеске и последняя тайна, каменная, жестяная – или зыбь по траве: его имя и наконец-то с какого дня есть – и неполный день, чтобы мне его полнить и метить? И, подняв глаза, я обнаруживаю, что передо мной – кроме вечно живой воли…
Никто ни в чем не виноват. Ни начало ампирных пятидесятых – еще до моей любви к ним… Ни растворенный во всем: в холодном, в минорном, в слюде фиолетового и в самолетных линиях, и в афишах, пришелушенных памятью – к стене, наказанной четвертой глухотой – на месте улетевшего театра… Ни тот, кто решил, что мне ни к чему – дверь в дешевых аппликациях счастья, ежедневно заслоняющая собой – подчиненные ее взмаху пробелы, не подлежащие воспроизведению… я с радостью прощаю солгавшего. Даже если смиренно знал, что ожидание – подсыхающая смоковница, и ничто не случится, мне же хотелось – окопать ее и лишний раз унавозить, вдруг распустится – и летом, и царством… Да простится и мне – сие предательское сочинение.
Несомненная магия сквозняка: что-то не замкнуто, где-то рядом – проем, проход… И все мое прошлое – высматривание, подслушивание и подтасовка не знающих срама примет, и сокрушительные ослышки. И особенно сокрушен в них хор, скрытый уличным поворотом, косяком перекрестков, караванной зеленью: смарагдом на крытых коростой животных весны… и отчетливый, заслоненный шиповником и тимьяном или тенью их – патефон, где, лавируя между хрипов, поспешают по кругу поезда, поезда, почтовые и скорые, пассажирские… и носят по кругу затертые имена и нелепые вопросы: Мишка, Мишка, где твоя улыбка…
И каждый день, не даровавший – ничего, кроме тонкослойного струения жизни, был – упражнение: сличение заштатного, расщипанного несчастья – с вселенской оставленностью. Чтоб в густом гневе предать три города – огню.
Я вижу пресветлую ликом горбоносую иудеянку. Она опаздывает в институт, где давно ждут студенты, но никак не найдет туфли, в которых можно пойти. Время летит – и она нервничает, и примеряет, пара за парой, – все, что у нее есть: и превышенные, надземные – для длиннейших аллей, увитых цветами юности, где светло от даров и дано приблизиться к золотому крыльцу… и громоподобные и превратные наполовину ботинки – для разбитой рокады, до сих пор – сырые… чтоб идти и идти сквозь расставленные на часах неумолчные города, пропахшие керосином беды. И смиренные постные ботинки, чтоб брести по камням чужой земли, где движение неощутимо и глотает звуки шагов… Стеклянными зоосадами одиночества, и долиной – по руслу ушедшей реки, забывшему даже росу… Но все двудольное множество башмаков почему то – совершенно истоптано и разбито.
шествие между весельем и радостью
Кто идет по сельскому берегу между весельем и радостью, между великими деревьями в школьных звонках гнезд – и заряженной зоркостью летней водой, высмотревшей чуть не семеро идущих, как против Фив? Чуть не чертову дюжину! Или – отличает не всех, но избранных на пикник? И косятся – на моющих серебряный град, неконтактных, как мины, рыб, и косятся сквозь деревья – на отбуксированные в камень холмы, по которым скачут фисташками зеленые искры. И везут продавленный амброзиями снаряд: кратеры, пелики и килики, солнцеравные сковороды и расписанные страстями тарелки и ложки: зализанный сиянием амбушюр. Крутят детские коляски с запевалой-осью и крылатые колесницы с оскалившими клыки головами картофеля. А пятый или девятый идущий проносит в дефиле между этими экспонатами – во все многообещание бури – бурное, сладострастное платье. И в окрестности его извержений, в косяке оборок – десятая Дафния, оброчных лет и такой же барочной формы, катит по щекам, мимо губки-трапеции, водяных блох и ловит сверкающих – лиловым рукавом. И толкает пред собой садовую тачку, продвигает к горизонту погребцы, бонбоньерки, конфитюры и иную суспензию, поместив еще на ручку – две надорванные между пломбами вализы с бюстом. И маркирует пройденный путь – малокровным пунктиром пшена, охами и отвлечением. А последний в идущих – многогневный, с наросшей на затылок спиной, с разлетевшимися от носа глазами – налегке, и пытается достичь – первого, уже дальнего, забывающего обернуться, вовлекает его – в сверхъестественные сочетания слов, будто посреди веселья и радости от кричащего – отсекли и отвратили! И поскольку желает —,опять к себе на руку, манят пагубным пристрастием или мастерством интриги… А тот, уже дальний, – оставляет за собой столько волнующей безответственности, и удлиненной рыбами и наитиями воды, и чудесно украшенных сверхзадачей фигур, что пора бы истребляющему дорогу криком – вместе с ними и со всплывшими над дорогой ракушками листьев, наливающихся – черным солнцем… на водах и на листах – веселиться и радоваться. И веселые предыдущие – предпоследние – смеются и недоумевают. И двое почти фаянсовых – так отбеленных до туманности, и почти молодых, но определенно имеющих за плечом ранцы с вином и провиантом, и одна из фигур – двояковыпуклая, со звенящими скулами и непочатой склокой волос, а другая – некто переиначенный: запинающийся в сочленениях, погруженный на ходу в изъязвленную перечтениями газету – или в плащ, объявший его нахрапом, до самых уст, – спрашивают: а кто есть вы?
– Я? – и кричащий изумлен, и глаза, откатившиеся к кромкам лица, каменеют в нишах. – Я не ошибся, вы ищете мое имя? – и прикусывает язык, и причмокивает от внезапности: – Так меня зовут сочно. Например, Бартоломью… – и намерен выпрямить местность – до кратчайшей, подрубить тучность впереди идущих – и прорвать их бродячие, музицирующие посуды.
А двое с полными торбами не сворачивают ни различий, ни лямки с плеча, так отбелены от прошлого и готовы к; веселью, что почти несогбенны и не чувствуют ноши – подозрительны и техничны… И когда первая, отбывающая туманность и бледность, пресытясь болезным, вдруг разводит – зазеленевшие, как окраина ночи, кощунственные глаза, вытрусив из них – скрученную в рог дорогу и трусящих ее прихожан, и взбеленив облака… ей навстречу – бурлящая высь, смывая дамбу.
– Так выпукло – Бартоломью? Такое пригнанное к вам имя?
И другой – объятый плащом, как морем, до голубой губы – оторвавшись от выложенного ин кварто текста, предупредительно:
– Не развязывайте ваше имя к ночи.
А кричащий, с наросшей на затылок спиной, почти простирает руки – лишены, заволоклось… Искажает путь изобилия – призрачностью: утраченным, желчью неотступных цветов на безлиственных и застуженных металлическим бликом стеблях… И деревья, раскрошив земное, роем закручиваются ввысь, раскрасневшись, стачиваясь и заточаясь… а не успевшие ветки превращаются в остроглавые статуи безымянных святых, меж которых промышляют мелочные, глухие серые птицы. А другие стволы мечут ветви – воплями – к форпостам земли, и всхрапывают и клацают: яффа, яффа – зловещий город, подгнивший тропическим фруктом и сомкнувший героя и его победу… а плачевные кроны, оплаченные водой, – разрознены узкими, как рачьи клешни, серебряными листами… И сквозь пряные, приторные благоухания обоняет – ядовитый дым: где-то в будущем давно свершаются пикники и слияния с природой – и вовсю практикуют сыроядение радости, и осыпано – штрихами, щепотками – на подножье оргий, за деревья, и начислены задеревенелые ориентиры – закоптившиеся черепки и камни, и раскрепостившиеся кости, обсахаренные пеплом: гарь и иней. И пока впередсмотрящий, уже дальний, не внемлет – ибо с каждым шагом отсекает пройденное, наделяет им отставших – отлетевших, как златые треуголки рыбьих голов, и увлекся щедростью, сам кричащий слышит, как в ближних предшествующих – шумят рукавом, однозвучным лиловым, засевают профильную щеку блохой дафнией. И морщится, и бормочет:
– Будет слишком – призреть эту барочную, массированную груду… – и, сморгнув прошпигованное птицами древо, видит – птицеглавого грифона, растрясающего крыла, расшеперившего бронзовые перепонки. – Много натяжек, чтобы я пожалел старую рыдающую дафнию… пластины со смывшимся взглядом – две… – и вновь раздражаясь: – Почему же, ваши милости, я не смею быть Бартоломью? Паршивцы Бартоломью – не такие, как я? Дерзкое имя исключает мое существование?
– Смеет ли ставить на ваше сострадание Аврора? – спрашивает его вдруг явившийся в черной тени грифона человек в черном, молодой избранник скрадывающего порывы и празднество цвета. И заужен стрельбищем, или вспышками бронзовых фаланг, или перепонок… или свистящими ланжеронами.
– Я протянул, как термометр, сорок лет и еще утро и не ведал, что в моих ощущениях нуждается… Вы спросили о моем сострадании – утренней заре? – уточняет последний, с разлетевшимися на западный и восточный огонь глазами, наживляя – неотступность острой, как цветы, желтизны.
– Возможно, он ратовал о вечерней заре… – замечает бледноликая, со звенящими скулами. – Слышите, посадивший на себя чужое имя, он же – обобранный? Я же назовусь – Нетта. От слова нет. Потому что отзвук нет – длинней, а я хочу потянуть время. Чтобы охватить состраданием – все роды и виды. Один из охваченных идет перед вами, точнее – за мной, пока я говорю нет, он всегда пленялся бессмыслицей! Одновременно он… – и бежит веселье, прорастает вкривь и вразлет, и в ранцах откликаются пересуды сосудов, и всхрапывают ремни и петли. – Однажды я услыхала по радио чье-то письмо: прошу поздравить моего сына, потому что мой сын – почетный донор… Других исступлений за ним не числится. И кто бы думал, что я его встречу? Кстати, ему пустили арию Нормы. Вот – почетный донор! За слезы бессмысленной благодарности. Но нас на время оторвали от наших забот…
– На неопределенное время – слушать и слушать музыки негации и пользовать сострадание, – кивает объятый плащом до голубых уст – или запинающийся за узловатые литеры корней, укоренивших пески и травы. – Но имя, что предъявлено вам зачерненным персонажем, на этом веселом тракте отнесено к даме, проматывающей между нами ракурсы платья. Широта дарения изобличает зрелость… – и новый грифон, распахнувший себя на незримом пороге перемен… несомненно, нарастающих – от минуты к минуте… грозный дозор протягивается ветвью и рывком разрывает захлест плаща – и, отпрянув, нижайше рассыпается пред таким же нижайшим… заниженным, закороченным на радости облачением. И почетный донор – веселясь над схватившей листы и лица оторопью – вновь запахивает и ставит парус – вдоль ничем не обремененной шеи. – Меня выкорчевали к веселью – из снов. Я выбросился к беспросыпной радости – из постели.
– Лучше б на нем был тот объеденный мышью бронежилет… – бросает распыляющая бурное платье: Аврора, и уже простила утро, и подведена и подтянута под монастырь – раденьем или китовым усом и рденьем – или подверчена под белокурый овечий чуб. – Где он мне мелькнул, черт возьми? Очевидно – там, где есть мыши. От начала времен и далее…
– В самом деле, где вы прозрели жилетку? – вопрошает объятый плащом, отстав от газеты. – Вы помните, где вы были вчера? Хотя бы – с кем вы провели ночь и откуда взялись сегодня утром?
И шепот Нетты:
– Возможно, эта орлица – портниха и экспедирует социальный заказ…
– Их оторвали, и теперь они оторванцы, – бормочет последний в идущих и первый в кричащих и взирает на самого дальнего. – Мне сорок лет, и я уже примелькался жизни, я ей приелся и вполне свой… И ничего не произойдет, если среди веселья и радости – сократят мой путь… пропустят меня вперед. У подлеца – эпический шаг! Но раз ваша воля – еще прозаичнее, мир отойдет ему.
– Хороши ли бывшие принадлежности? – спрашивает кощунственноглазая Нетта. – Каждая уникальна – или частица общего целого?
– Ваша беда не в том, что вы потеряли, а в том, что оно у вас было! – бросает Аврора, испещряя дорогу – слетевшими с бравурных ракурсов созвучиями и желтыми венцами. – Почему ценности всегда попадают в глупые руки?
– Разве первый не сказал вам: «Раздай все нищим и иди за мной»? – спрашивает зауженный молодой человек в черном, он ступает по отбитому краю дороги, сливаясь то с распятыми на черных тенях деревьями, то – с искрящими, воскресающими за каждым стволом просветами, изрезанными – отставшим и наступающим, и над ним процветает телефонный шпионаж потрескивающих, опутанных стеблями зонтиков и коробочек. И за ним следит болеющий скукой, прозеленевший взор.
– Возможен процесс перераспределения благ, – произносит объятый. – Если выдвиженец убрал ваш кубок, я отдарю вам драгоценный ритон – бараний рог, украшенный на исходе – мордой владельца: утоляясь, есть с кем перемигнуться. Он давно мне не попадался, но жизнь не кончится сегодня?
– Как знать! На вашем месте я бы остереглась подобных произношений, – говорит Аврора. – Я ведь еще не вспомнила, где я видела… Или мы ищем своих мышей и свои рога – там, где светлее? Мы догадались: свет даст нам – все.
– Заря, что подержанна, как мир, – неужели мир так м-мм… и бредущая на зарю парочка оторванцев… – бормочет кричащий, с центробежными глазами. – И размазывающие рот – трапецией, сея мелочных дафний, и сверх меры содержатся в каждой – до последней глупости. А за ними – ревнитель красоты, сострадающий – только идеальному… Вы не понимаете, речь об акциях… – и отдергивает пальцы, и сбивается от закравшейся в счет желтизны при дороге.
– Нефтяных компаний, автомобильных концернов? – спрашивает объятый. – Или… – и цыкает голубой губой. – Мнимо обанкротившихся предприятий?
– Протеста. Или – веселого разрушения. На случай, зачем староступенчатая Дафния так рыдает и разрушает целостность, ведь вы держите на пикник и на радости? И возок ее, согласно с безмерным сложеньем рыдающей…
– Возможно, ее сын – дитя неуслышанной любви, – говорит зауженный молодой человек в черном. – Глухой. Хвативший в жену… не знаю, как вы к этому отнесетесь, – столь же непроницаемую деву. И если с небес низвергался ярящийся головолом – плевел затянувшейся там войны, Дафния подавала знак: шумим, братцы, шумим! – и слышащие только себя спускались в убежище. Продолжая в том же духе. А ныне она оставила глухих – в вымышленной тишине… временно – выменять на свою старость благотворительные хлеб и вино, но есть ли что увлекательней времени? И никто к ее бедным деткам не достучится – с известием, что эфир помрачен, искорежен и содрогается… Дальнейшее я доверяю вашему воображению.
– Неисчислимы поводы для уныния, – вздыхает объятый плащом. И расплескивает газету, и перелицовывает зажелтевшее – на запорошенное. – А я полагал – ее, как весь народ, разволновали перестановки в министерстве финансов.
– Узрела над собою неотрывный кувшин и рыдает, – говорит Нетта. – Свирепый, криводушный кувшин… – и запрокидывает голову, и видит в глубине над собой – запекшиеся города облаков, размыкающиеся в синеву, посыпая святых, рвущих на себе остроглавые кроны, – пеплом. И над молодым человеком в черном, зауженным бронзой просветов, – звенящие на весу зонтики и коробочки. И, устав от удушливого всезнания, сыплют лепестки в его взвихренные волосы. Зарубка на стволе: начало положено, в нем проступает фактура, плоть…
– Дожить до ее лет – невероятный труд, местами отвратительный… – замечает Аврора. – Но не исключено, что она – профессиональная плакальщица и ей хорошо заплатили.
– Возможно, истинное имя поможет мне пробиться – сквозь ваши скитающиеся посуды? – говорит последний в идущих, с разлетевшимися глазами. – В действительности я – Дурис, вазописец. Значит, опять – время о чем-нибудь напомнить: продуть трубы, прозвенеть сосуды и артерии и выхлопать пекло? Ибо в толще жизни застрял, как заноза, правоверный глухой… Кстати, – там, откуда вы бежали, или – куда вы идете?
– Мы идем на пикник. И почему – вы, а не мы? Вы не разделите с нами трапезу, отныне Дурис? – спрашивает Нетта. – Вас привлек не чарующий запах яств? За чем иным нас догонять?
– Возможно ли отказать себе – в усладах, а чреву – в скрипучей работе? Но с особенным аппетитом я жажду – ведущего!
– Ему могут быть неприятны люди из прошлого, – замечает запинающийся объятый. – Вы для него уже умерли – и зачем-то манифестируете назойливым привидением… Читали прогноз? В конце трассы возможны грозы.
– Пребывать в благодати – и впускать сброд себе подобных… располовинивать, размагничивать… И ответьте, где последыш Дафниевой глупости? Там, куда идет, или… кажется, от ее расплесканного тела тянет рыбой… Я хочу уже знать, где – сад тишины!
– Где, где… – говорит Аврора. – Расскажи – пятому, десятому, и жена тут как тут… Вы же – противник артельного… дела, надела… – и прижимает и обнюхивает надушенные бурей рюши и пены, и набрасывает на плечи. – Тьфу, дует… задувает из одних времен – в другие, – и заботливо правит пузыри. – Старушку сгубил ее завидный слух. Отличный слух, будто на соседней улице дают гуманитарную помощь. И не утерпела, и – очертя голову… И теперь у нее полная тачка счастья. Но теперь кто-то пробросился, будто основа всей жизни – духовная сосредоточенность…
– Неужели тот лидирующий персонаж укатил ваши вазы? – спрашивает звенящая скулами Нетта. – Блоха запрягла гору, а у первого – ни в руке, как у вас, ни под плащом – как у моего приятеля… и хотя к нему на спину подсел ранец, да в нем – тара под персики. Пока он сушил очередной ритон в очередном притоне… он говорит: в корчме на литовской границе, – у него стянули рукопись книги. Думали, в этом пакете – золото! Бывший владелец – уверен. Донору мало, что ущербных человеков горячит его кровь… болящих, порченных, вокруг него всегда клубится шушера. Он хочет обозначать себя устно и письменно… денно и нощно. Возможно, боги его укоротили, – и стряхивает со лба темную склоку волос. И стелющийся смех. – На соседней улице в самом деле давали помощь от Армии спасения. Не хлеб, не чай, не лапшу – персики! Водяные шары, что скользнут в вас и лопнут – дабы всем было радостно. И каждый персик, как в супермаркете, виртуозно завернут… правда, не в фольгу – в какие-то грязные, исписанные страницы. Я думаю, это и есть его рукопись… – и вытягивает из ранца мятую сигарету. – Нынче мода: вырывать из рук, высыпать из окон. А он опережает и отдает добровольно. И кругом – порядок: никакого мародерства.
– Дэн Сяо-пин повелел развеять свой прах, чтоб не занимать собой землю – чтоб крестьяне пользовали место под посев яровых, – объявляет почетный донор. – Свою радужную оболочку и кое-какие органы девяностодвухлетний покойник просит принять нуждающихся.
– Даже свекла была бы уместней, чем персики! – говорит Нетта. И, подавившись пущенным дымом или смехом: – Попутчик как нашелся в капусте, так в ней и рос, – и ненавидит подружку-свеклу. И никогда не ест. Мой конек – сто вариаций, одна другой багровее!
– Свекла отстает в развитии… – бормочет объятый, уткнувшись в газету. – Я ем свеклу. Просто это не доставляет мне удовольствия. Парализует – ее бесовской, развратный колор.
– Разве жизнь благороднее заревого, вечернего колера свеклы? Ты не находишь, что она катится в пищу богов?
– Я знала неофита-слепецкого, он тоже кропал том, – объявляет Аврора. – Или он был садист и просто так истязал бумагу шилом… пока регулярный кочет клевал ему печень. Тоже передавал бесценный опыт! А когда слепец полегчал и кочет его ухлопал – кто мог прочесть собачьи кучи маловыразительных точек? Так что определили – на дачную печку. На истинный профит.
– Почему вы все шествуете, о воплощение занудства! Разве вам не везде готов стол и дом? – спрашивает кричащий, с центробежными глазами. – В кружевных мантильях деревьев… на подзеркальнике вод, покрывших энтузиазм водоплавающих – стрекозами, отмывающими полет… и на застеленных солнцем холмах?
– Гонконг выклянчил у Китая часть праха, чтоб развеять прораба китайских реформ – над бухтой Виктория… – и объятый складывает газету в карман плаща и вытягивает из другого – такую же желтокрылую. – Потому что мы выбираем для пикника не прекрасное место, а прекрасное время.
– У нас отняли – там, где мы были, – говорит туманноликая Нетта. – А мы идем в царство радости, где нечего отнимать… Где уже ничего не отнимут!
– Вы уверены: царство радости – в будущем? – спрашивает кричащий, с наросшей на затылок спиной. – В земных широтах… в дивных градусах и более слабых минутах?
– Я смотрю, вы сидите на информации, – замечает Аврора, и подсушена, и подтянута – до объявленных дудок и складок, объявленных – бурей. – Клянете трапецию, а ваш профиль – заточенный спереди ромб! Профиль пустыни.
– И предпринятые фигуры по-прежнему отбрасывают нас на стартовые позиции, – произносит зауженный молодой человек в черном. – В окаменение отсветов и отзвуков…
И, подпрыгнув к кривляющейся над дорогой ветке – и оставив в воздухе молнию или рубец полета, и нагар и эхо, возвращается – с истолченными в гроздь розовыми цветами или с оливковой ветвью.
– Мы так весомы? – интересуется Нетта, пуская дым.
– И проглотивший нас и сомкнувшийся мир, сотворяясь заново, обретает возможность – совершенства, – говорит молодой человек в черном. – Post hoc – ergo propter hoc.
И кощунственный взгляд, цвет горной породы змеевик.
– А здесь вы откуда? Тоже извысока? Я прозевала ваше прибытие.
– Возможно, вы прозевали и мое существование.
Молодой человек, зауженный в черных трафаретах деревьев – или в бронзовых лонжеронах, в их аффектированном свете, льющем реликтовые порталы между стволами – друг в друга, или – в безнадзорные щели… как сообщающиеся с пикником сосуды… как неоконченное предложение – в чье-то желание: приблизить стороннее, редуцированное – к остекленевшему рыбьей костью центру…
– В самом деле, в вас есть кое-что неожиданное, – говорит Нетта. – Ответствие черт – грубым древним лекалам, забытым кем-то внутри меня, их страшной черной позолоте… – и бросив сигарету, раздавив стоптанным каблуком: – Обрюзглой тайне моего существования.
– Непроцеженным инстинктам, – замечает объятый и цыкает голубой губой.
– Я показался вам бесплотным, – говорит зауженный молодой человек в черном. – И готов остаться в этой весовой категории.