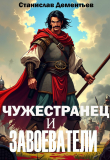Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Спящий брат Сильвестр посмеивался и отмахивался от высказываний Мары как от сомкнувшихся с паутинными.
– Вы напоминаете старую деву, уверяющую, что в юности у нее был жених – красавец-пилот, но на подлете к свадьбе разбил себя, ее сердце и испытательный образец.
Новые прохожие голоса догоняли и обходили Мару, кто-то почти умолял:
– Вы поможете мне с ними связаться? Пожалуйста, что-нибудь – телефон или адрес. Ну хотя бы – тех, кто с ними встречается… видит их издали… иногда…
На плоту балкона в верхних каскадах приоткрывалась дверь и, перекатывая кадык защелки, выдувала шафранный флаг противостояния ночи, проделки, бравады и вихри, и сразу несколько плывущих ноктюрнов, совсем не зауженных ущельным часом. На втянутой в кривизну эмблеме флага или чуть глубже мерцал полуочерк соучастников и почти окукливался в многофигурный терракотовый танец.
Над перилами выше резвились сухопарые струящиеся одежды, подозрительно равные меж собой – протяжные, малоемкие, распашные, не знающие работных лямок – и, подхвачены ветром и опрокинуты, попыхивали блестками и гуляли по проволоке на рукавах.
– Капитан волен приглашать в свои сны не все, что присмотрели зеваки, и отвадить доктринальную часть, – произносил темный охотник, и подхватывал – складчатое, отдыхающее у него на плече, и стирал с половины лица жар После Весны, оставляя – ожидание и непреклонность.
– Вы и впрямь, дорогая, подворачиваете в наш конферанс – никем не запрошенные ответы и мнения, просто забрасываете меня камнями, и легче ли мне – если камни плоские? К сожалению, при сложившихся наших-ваших я вынужден довериться – именно вам, – вздыхал неуместный спящий и упрочивался не в осанке, так во влиятельном белом кителе или в интонациях неожиданных и в глуховатом целом конспиративных: – Представьте, я отправлен со срочной вестью… не уточняем, кем и откуда, но – с пышной и резонансной. А поскольку быстрому Ахиллу – мне – никогда не догнать черепаху вас… – и спящий горестно разводил руками. – Разумеется, для начала вы принесете мне клятву, что поместите услышанное – в кровь и не приметесь уркаганить!
– Все-таки представляется курьером! – почти торжествовала быстроногая Мара. – И, как все здесь, грандиозно спешит. Принести только клятву, – спрашивала Мара, – или заодно что-нибудь еще? Упорствую во-вторых, что мы не одни. Летчик-налетчик, или кавалер числа сорок и дочурок – дебелых двадцаток, не вовсе проросший в общий план… ни косточкой не оступившийся в тридцать девять… С нами клубнеплоды и их круг: стена, прозрачность, идеалы, юпитеры. Наконец, захваченные вами взоры и тысяча биноклей на оси! А у рыночного местечка, где мы вышли друг на друга, в арсенале – продажность. И в-главных, – с неустрашимым отчаянием выкрикивала быстроногая Мара, – мое промедление отверзает – зловещее! Драму, долину пепла! Но вы можете позвонить по телефону доверия и подарить сообщение – им.
– Вы тесновато толковали мои сады и мои охоты, – говорил темный охотник.
На груди выходящего из деревьев или над кратким схождением лент и шпаг колыхался рогатый отсвет нефритов и изумрудов, или нательный лист, или сам охотник смещался из окраинной позы – в другую провинциальную, и в этой Мара прочитывала меньше вязкости и запустения и удваивала беспокойство.
Темный охотник принюхивался, по склону После Весны шел газ неостывающей полыни, заточенной в шипящие серебристые трубки, в пачкающие грифели с голубой солью, и блажь вылощенных лунным блеском иных трав и дров, и подвалы почти тишины забывали снять стебли – с отыгранных звуковых дорожек и царапались, чиркали спичками, пощелкивали огнивами, словом – мерно зудели напоминаем о связке стебля и слуха или о близости стержней, каламов, воскресных и подлунных цикад – со стрекотом пламени.
– Но, даже свернув к великим задачам, капитан успевает предупредить о неотступном соблазняющем, – замечал темный охотник. – А я стараюсь оправдывать надежды капитанов. Шеф явно надеется, что я прельщу вас – новым дорожным направлением. Миссией, рвущей награды. В крайнем случае – подвигом самоотречения.
Сокрушенный царь с мешковатым оком, рыхлый кабинетный спесивец тяжело бежал по улице, оконфужен – мелкой клеткой на желтых брюках, трусливо мятущейся, и еще больше – собственной прытью, и уже не вмещал в себя длину вздохов, и, оглядываясь назад, задыхался и отплевывался, хоть никто не преследовал несчастного, разве – неизбежные силы… И пытался ускориться – до полнейшего исчезновения.
– Зачем вы торопитесь к старости, Быстроножка? Старое тело пахнет рыбами! – кричал спящий брат Сильвестр. – Вы видите, что на всякой поверхности произрастают глаза и уши? Согласен, дайте мне аудиенцию. И немедленно! Дело острое.
– Звучит уязвленный смех, – объявляла быстроногая Мара. – Барышнины нервы: опять самое светлое сошлось к предложению — уединиться?!
Недремлющий и могучий в ключице билборд, кряхтя, разворачивал косую сажень – от провисших в полете мостовых к быстроходным пешим и воспламенялся советами: «Расскажи все, что знаешь и думаешь, что знаешь. Открой рот там, где ты есть. Бросай слова не на ветер, а в телефон, подключенный к нашей компании. Говори, говори, говори!..»
– Допустим, – не останавливаясь, предполагала быстроногая Мара, – вопреки манифестам, я обожаю чужую тайну. Но зачем раскупоривать ее – сейчас, а не завтра? Или перекатить половину суток – и букет увянет? Так недостойное вечности – недостойно и моего внимания.
– А кто из нас поклянется, что возьмет дальнее фа в знаменитой фауст-октаве… точнее, покойно наблюдает себя – в завтрашнем дне? – едко вопрошал брат Сильвестр. – Рассматриваю намерение ускоренно выйти в завтра – предательством общего дела. Мы должны с шиком допровернуть наше сегодня!
– Дадите капитану аудиенцию – в пещере автомобиля, которым доставите его в пенат. Или в пароходство, на кручу морской дали… – предлагал темный охотник. – Вашу честь заслоняют адмиралы и корыстный земной возница, знаки дороги и воздушные клетки с тремя птицами света.
– В режиме желтых подмигиваний… Я путешествую с надежными спутниками: с дымом или с исповедальной нотой! – объявляла Мара. – Хотя порой меня преследуют лимонные бабочки. Приветы ночных светофоров. Кстати о ночи – в пещерном автомобиле… в яслях, в вертепе. О тщете покрыть остатком моего желтого – заботливое препровождение в капитанство и в почтальонство – сначала зевнувшего символы дороги и осевшего гонца, а после – еще и известий. Супер-пуперных – в его сне. И легкого пути нам не обещают. Ночевать под разверстым небом, поститься, бороться с тягами – воздушных потоков, к прекрасному, порочных открытий, отгонять не наши донесения…
Далеко впереди как будто мелькал или бледнел и мнился пустынник, ненадежный в желтой панаме или в напяленной луне, и, не представлен газонокосилке, пускал пред собой деревенщину-косу и размеренно снимал с левого края – зеленую гамму и прикормленных: шалфейные и лавандовые, и менял цветовое решение, подпуская – прокосы недообитаемого седого и мерзловатый мышиный.
– А вдруг все же наметем часть пути – в вашем красноречивом ридикюле? – непринужденно спрашивал темный охотник. – Вложим в мятущее всю душу… Или вернее пошелушим фортуну в недрах капитана?
– Даже то, что мне снится, очень может лишить покоя – многих! – заявлял спящий брат Сильвестр. – Как вы знаете, все существующие известия уже произнесены, и величие вариации – в языке, которым оденется. Конечно, тот аскет морковноговорящий мог выразить мое послание – овощными, чей век, слава ему, длиннее вашей кичливой спешки. Вечно плодящимися оливами, и лозами пышноусыми, и винной ягодой… лучше – арбузной, арт-объектом сильных пространств. Но в вас, пожалуй, больше огня. Вы должны гордиться, что я остановил выбор на вас!
– Вот он, жданный час, раздевающий истину! Царь горы! – сумрачно изрекала быстроногая Мара и приветствовала других своих спутников, столь же верных, но по строгости не озвончают своих имен: Справедливость, не рекомендующую Маре восславить – Конец Пути, эту выпаханную замыслом пустошь, и почтить счисление заповедных серединных участков, а также – Скептицизм, советующий не тешиться – ни подкатами и фиктивными промежутками, ни справедливостью, а также – Наваждение дороги, что обхаживает идущего и готова исполняться и распылять заряд реальности. – Холод ушел, саранча ушла, шагомер ушел… – бормотала Мара. – А дальнейшую расстановку сил размечаем – мироедками-гарпиями, что слетелись на сытный стол дороги. Кстати: утверждение о некапитанстве взыскующего из белого мундира – неполно и некорректно, а представление его разносчиком, неважно чего, вы из скуки отвергли… – и грозно возглашала: – Так узнаем суровое: крикливая мужская фигура капитан на деле – прокурор! И будет сердит на руку, гуляющую по чистым прокурорским карманам… как и на выпущенную – в мой колчан.
– Напрасно вы мне не верите, Мара, – кричал говорящий во сне брат Сильвестр. – Я действительно – посыльный. Скажем крупнее: Посланник, Вестник! Но о букве… – здесь сновидец несколько тушевался и задумчиво откашливался. – Должен шепнуть вам, дорогая, что письменный, вневременной я огорчительно незнаком – со мною сиюминутным, сибаритствующим во всяком самовыражении. И, предупрежден доброжелателем, никогда не расправлюсь с отзывом на послание – безжалостно и мгновенно, не стоит вверяться незнакомцу. Но если пронести ответ – сквозь пешки дней… недель, лет – и лишь там прижать к бумаге, это будет – настоящее! Что ни строчка – многослойный, глубинный я! Так что весть, которую ныне я перепоручаю вам, длиной – в частую треть моей жизни!
– И не снежноливрейный страж при вратах в какое-нибудь иное местечко? Грузных – в его сне, но до намека прозрачных в вашем? – весело уточнял темный охотник. – Не стережет – разгулявшихся по трассе скорохода, и морских волчцов, и прокурора, профи, растекшегося по уличной скамье самой незасиженной версии, чтобы не проспать сон о крахе карьеры…
Брат Сильвестр держал паузу, и смотрел на Мару пристально, и, возможно, взвешивал те и эти сверкающие во сне смоквы и яблоки, чаши и гири, и срывал с лица невидимое серебряное – паутины лунного света, шоры – и вдруг твердо объявлял:
– Я догоняю вас, чтобы кое-что припустить к вашим бумагам. Да, да, весть, о которой мы говорим, не из дальних сторон. Лишь – упущенное ваше! Вы кое-что уронили, но так торопились, что не заметили…
– Но высмотрел спящий – даже в отсутствие очковой детали, меж снами с ним неразлучной, – говорила быстроногая Мара. – Зато на нем представлен оживленный реквизит, не объявленный в декларации платьев, что взялись – прокатиться на сновидце, свить на нем гнездо… Перебои в важнейшем и наличие неуместного знаменуют – несостоятельность персонажа: он не может видеть – реальное… хотя связь его с внешним миром вообще перпендикулярна. Если я день за днем лечу на работу – с севера на юг, а тем же всепожирающим временем он режет город с востока на запад, мы вряд ли смотрим на вещи одинаково… Он видит себя посланцем, несущим – благую весть. Я вижу в нем спящего стража закона – с молвой… а вы – бестрепетного капитана. Тогда как он не замечает – никого, кроме меня! – говорила Мара. – Я же созерцаю не только вас – но и сидящего в вас охотника… ловца. Это невзрачный сон, – и Мара смеялась, и весьма надменно. – Если любителю капитанов грезится капитан, а лавочник с таковым не соотносим, значит, сон – ваш. Или его, или мой, какая разница…
– Ну хорошо, я признаюсь во всем! – кричал брат Сильвестр. – Я украл кое-что из вашей чертовой сумы. Вороваты, нас не задушишь!
– А может, кого-то присмотрело безумие, – предлагал свое толкование темный охотник.
Неспящий дворник, сложившись прямоугольным существом низшей природы, кропотуном-хитрованом, волочил за собой картавый, хрипучий вороной мешок или не вместившийся в тело желудок, и презрительно всматривался в улицу, и выхватывал все, что не нравится – или все, что приглянулось, – и швырял в голодный зев. Но, встречаясь с пивными банками, со смаком растаптывал, и бросал тараканов к себе за плечо, в насевший на лопатки рюкзак, и планировал дорожиться – пред понесшим потери алюминиевым делом. А может, сторговать – и все лишние штрихи.
– Значит, золото и танцорка-медь, уверяете вы, не входят в любящий союз: вы, дорога и дым… Вы, дорога – и бабочки, витающие вкруг вас – в пустых контурах. Сверкающие мотыльки – только взметенные ветром хрусткие буквы. Вы – и встречные бахчи солнца и луны, алебастровых, как китель на капитане. Вы и ристалища лета и осени – битвы теней и лохмотьев. Наконец, вы и толстушка-сумочка, мешающая и вам, и дороге. И все, что скреплено золотом – каноном, прелестью, тайной, – по вашему слову не существует. Магический свет покидает высокоствольные окна пункта Б, церемониала в излете дороги. И кто-нибудь призрак подхватывает в кулак муху последней искры. Полагаю, что и в посланиях, коих у капитана – одно, а у вас – сума с горкой, тоже – никакого богатства: ни роскоши метафор, ни разъевшихся гипербол, ни просто состоятельности. Кстати о капитане… – темный охотник веселился. – Еще вариант: перед вами – верховод Корабля Дураков. С вестью, что привел свой знатный борт – и гладь его палуб, и все его зеркала и гудок к нашим услугам…
Обещание народных гармоний или чистокровный гул выходил из дальнего парадного и, разойдясь на четыре глашатая со священно голыми головами и в раздвоенных кожухах, пересыпанных рокотом, граем и эхом, катил со ступеней манерные кошели, вползающие то в палицы, то в обручи и змеешейки ночного кошмара. За хитротелыми величаво наплывал концертный тамтам в корсете тугой синевы, он же – возможный анкерок: гром пополам с ромом – и, построив группу специалистов в цепочку, перебирал двойки рук, как мающийся жук, попутно обжигая те и эти. Шумящие погружали шумных на три колеса – прицеп, арба, плаха – или рухнувшая голубятня, не прибрана ни отблеском двигателя, ни реактора, разве – веслом химер и симпатией бездорожья. Или крокодильим хвостом, он же – подъездная дорожка, брошенная на вздутые плитки.
Кто-то, впрочем, уверен, что к дороге непременно приписан крупный черный автомобиль. К запутавшейся в собственных фалдах этой или к любой, и пока никто не доказал обратного. Речь, конечно, о гордеце, строившем дорогу. Точнее, сочинившем ее – из повторяющихся крестов на идущих друг сквозь друга шоссе, из эмалей суббот, вензелей холодных течений и иного раппорта… о принесшем страховочный трос – притянуть пункт А к какому-нибудь забирающему Б. Или о каждом, кто встречал по курсу – видный транспорт в черном блеске. Хотя бы верит – в вероятность встречи. А заодно в покровительство скоростей – всякой ночи, и в безответное чувство полночи – к скоростям. В намерение одного из путников – впихнуть в дормез двух других, и в желание автора – пристроить всех сразу, этот желающий прозревает – некий аллегорический двигатель, то есть сюжет, что промчит заложников на железных конструкциях – и выбросит на видимое уже издалека побережье. Чернота же техники в чем-то сродни – беспросветности.
В списке улицы выпячены редакции газет, но смещена типографская дверь, а едва мы подкатывали к предержащим печати, мне грезился пышный текст – что-то вроде комментария незримых… впроброс горнего и заветного, но речи газетчиков, доглядывающих жизнь из ночной машины… тиснения дольние и чрезмерные.
Возможно, мустанг казался черным – лишь оттого, что прибывал за нами в полночь. Мы мчались сдавать верстку: редактор номера, и кто-то из журналистов – с недожаренным, и последние руки: верстальщик и корректор, у кого нет запала на такси, но влекутся – в ночные окраины, разумеется противостоящие. И хотя великолепное сегодня еще не сошло с земли – и прейдет ли когда-то? – и полнит улицы своими красками и густеющими постами, и мосты пахнут сыромятью, йодом и захлестнуты горбатым током пространства, но в залетевшей в сегодня завтрашней газете уже заносчиво названы – вчера, и недосвершившиеся глаголы холодеют в копытцах прошедших окончаний. Вчера окончилась война и открыт новый враг коллонад – сырость… Вчера пропал ореол у царицы полей…
Неважно, что кто-то, настукивая пальцами погоню, еще раздумывает, не заказать ли шампанское? Или все же – большое пиротехническое представление? И одинокая Берта, которой завтра не будет, и вряд ли о том спохватятся, неунывающая Берта с путаной седой косичкой заседает в парке – и, узрев важного чужого ребенка, семенящего мимо, протягивает ему круглые маленькие конфетки, свои любимые…
Надрывные тормоза – пред входом бессонных печатников. Ждем отворяющего, всегда отвлеченного по своим ключам. И пока один несется с рулоном – подразумеваемыми за дверью и еще не прошедшими лестницами и коридорами, оставшиеся расслабляются после аврала. Салонное музицирование. Воркованье пива – почерпнуто в круглом, как сутки, киоске, звоны крышек о твердые автодетали. И раскинувшиеся в креслах следят ночную жизнь, и упражняются в комментариях – и заходят в цепенящие… Знать бы поздним идущим, что за ними без церемоний наблюдают – разнеженные и разбумаженные, легкие языком, что шаг подхватывают – лихачи ярлыков и формул, чеканщики и лицемеры. И не знают редактуры и цензора…
Но вот угасшие фляги аккуратно проставлены – рядом со стаей колес… по стороне сухого прямоугольника.
Отринувший правила полет – сквозь карусельный город ночи, и все летящее и слывущее – импровизации рассеченных улиц, то воспаленно оранжевых, то марсиански красных в нестойких и беглых титрах, то слишком широкополых и фантастически пустынных.
Игровые автоматы перхают с угла аккордами неосязаемых, но раскатистых миллионов и подмигивают грядами цифр и портретных овощей… Или некий садовод, промедлив в соблазне, превращен – не в камень, но в этот увеселяющий столбец?
Строительные краны над дальними крышами, собрав на хребет пурпурные пены ламп… или – судное творение виселица?
Чей-нибудь телефонный крик: не больше пяти… нет, нет, я сказал: пять! В крайнем случае – шесть… и не обязательно посвящение числа – сваям.
Засвечивающая глаз демонская палитра августа, идущие на понтонах бальзамические бульвары…
Три разговорщика – на необитаемой троллейбусной пристани. В белом кителе – се верный мореход. Острова Тирады, мелководье, хандра и морзянка сляпанных спешкой предметов… Сердитый возглас, и дамская ручка никак не стряхнет с себя длинное прощание, и господствующий – под высокими крылами деревьев, предпочтя затемнение, неясность, не удержав лишь – повадку ловца. Но на вихре летунов-зрителей сплющиваются – до почти картонных, до сновиденных, и если кто-то охотится, то явно – за чем-нибудь сдавленным… Послание, пакет, устное, чтоб подменить – на свое, столь же плоское. Возможны кто-то – с изобильным кубком и розанами… и пухлые пальчики винограда… Другой же в-третьих – с корзинами урожая и дичи. А по мановению последнего – плющ и потянувшиеся паутины, серебряные тенета, и внесен ледяной блеск Борея…
Кровавая сыпь на траве и асфальте, ужасная гекатомба: тучи дикарей – подавлены каблуками прохожих. Тяжелая обезумевшая яблоня раскачивается – над дорогими детками, растерзанными и никем не оплаканными. И разрывает свою пустую грудь.
Окраинный разворот, фырчанье и всхлипы подоткнувших город лопухов и чертополохов, пораженных в пурге колес – настоящей метелью, и уже простоволосые и почти ржавые.
Бедная моавитянка сбирает колоски дождя, выходя на справные нивы в сорняке ваты… Древо голубой кости, кое-как удержавшее – вспышки плоти, но припрятавшее под парапетом тесные бусы капель, и мечется в мокрой чугунной решетке, и вхолостую ловит – царапающее, наглое карр.
Готические шрифты зимы продеты на снежных перепонках в неотличимые агатовые и седые прутья деревьев.
Мерзлый старикан отмечает в зимних кронах – не сугробы, но одеяла, перины, пипифаксы, и на каждой ветке можно прилечь и соснуть. Да и электричество по ветвям пускают лишь осенью.
Прерывные двухстрофные домы-аристократы, и между снега – летящие щепотками анабасы-башенки, искря чешуей, нездоровые флюгеры и чернильницы печных труб с гусиными перьями дымов, как на старом почтамте… или завитые, напудренные парики с кронштейнов, и не то розетки в козьей шерсти, не то козьи лики. Крючконосые двери под гнутыми козырьками с ледяными виньетками то всматриваются – в Новый год, то удаляются в глубину праздника, и столпившиеся за ними окна счищают мандаринную корочку. В сих волшебных плечом к плечу – все, кого я люблю и никогда не увижу… в самом деле, пролетаем мои детские улицы – и что за совпадение! – в сгинувших росли как раз эти дома. Но улицы коротки, а искусство полет – вечно.
Площадь Отрешенных: фонари вогнуты в мостовой туман – и ни поживы, лишь моргающий желтый, отставший от светофора. Наш транспорт перечеркивает на вираже огнем – обмерзшую стену стужи или спину горгульи…
В те поры мне, кажется, случалось гулять в лесу – только глазами. Жаль, лишь в ночном лесу – на объездной дороге.
Но здесь интересовались: чем вымеряют время? Проще нет.
Три ночи в неделю существует ночной лес – чтоб врываться в наш полет над рокадой. Или трижды парусный флот – чтоб топить, пока мы свидетельствуем, сосны западной окраины…
Каждый день четвертый – новости ночи и златошвеек рассвета перечисляет мой возлюбленный диктор с меланхоличным, пиитическим голосом, безукоризненно равнодушным к выпавшим событиям. Нефтяной кризис… Денежный кризис… Продовольственный и лекарственный… На свистящих согласных я начинаю подозревать у него за щекой – чуингам. Но время от времени – встряхнувшись – грохочет беспощадным чудовищем трагедии:
– Информационные агентства сообщают: сегодня вечером в Турции произошло крушение поезда. В катастрофе погибли семьдесят пассажиров…
И спустя час, вложив в голос все презрение мира:
– По уточненным данным, в Турции погибли не семьдесят человек, а всего – тридцать шесть.
Раз в неделю я смотрю порцию романтического субботнего сериала. Если положиться на непрерывность истории или страсти, то переулочные дни разбредутся, но сплотятся субботы.
Между вторником и средой на одной радиостанции бурлит сладкий джаз и возвращаются великие. И очень разнообразят мои бессонницы. А поскольку я обожаю джаз, то от вторника до вторника нужусь – в нигде.
По средам выходит телепрограмма, и я жадно поджидаю анонсы. Хороши обещания Хичкока, что-нибудь с Джеймсом Стюартом и Кэри Грантом… «Головокружение» или «К северу через северо-запад»… Приятен посул мировой мелодрамы – «Незабываемого романа»…
Всякий четный и ведренный четверг можно поймать журнал, не скажу какой, с безграничным запасом приделов, топотня героев из всех застенков, рогатые головы, удары с воздуха, с моря, с земли, отслоение и шевеление – под… и я, творец, раздаю имена…
Или сумрак пятнадцатой, по моим подсчетам, зимы, озноб безответной влюбленности – или жизни, что вся еще впереди – плотная, как леса охоты, и стелется, как сытые стадами медленные равнины, и еще разделяет ножи на фруктовый, мясной, книжный, хлебный и возобновляется поминутно… Странствия под колпаком настольного света – по зачитанным замкам и застроченным тисами и английскими привидениями аллеям, откуда невозможно вернуться навсегда и без крови… И вдруг из старой темноты столь же старых комнат – радио, начало 2-го акта «Евгения Онегина», раздольный хор: «Вот уж веселье…» – это сочетается лишь дважды – давно, и еще раз – давно, из песка сна.