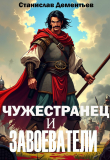Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
– Отныне я смотрю сквозь вас и вижу мир незакопченным, – говорит Нетта.
– Отныне и во веки веков, – произносит молодой человек в черном.
И подкрадывается к влачащей тачку – неумеренной, как трехлопастная арка, Дафнии с вознесенным пикой затылком меж отрогами взлелеянных лиловым плеч. И стряхнувшая мед оторванка-гроздь, набирая в воздухе – тремоло и чадящий гриф, пикирует – в собрание мелко трясущихся в тачке кулей и мешков. Но за полоборота полутусклой, полускрипучей пики – не разрезанный на смыслы плеск трапеции, сливаясь с рекой. И забрызганная блошками продолжает себя – параллельно многоочитой реке – в бессловесных… о, сколько их, несравнимых, – косточки, посахарившие черепки кострищ, и – смотри выше пухнущих на крылах веток или храма – остроглавых святых, зализывающих лохмотья или убаюкавших за душой серых птиц, и – еще выше: рачительные и помраченные, что грохочут, сеют, сорят… Но вторая или пятая касательная – к дарованной сладости: гроздь… аварийные вспышки роз… И трапеция смята – в обморок, в самозарядное о-оо! – одно из Дафниевых богатств моросит на дорогу… И, сотрясая пейзаж, подрезает тачку и хватает куль – в объятия, и выщипывает из тайника меж вализами с бюстом – корпию: пресечь пшеничный пунктир, заткнуть бездну… О золотой благожелатель в черном… или черный гриф, клюющий наши следы – чтобы ненавязчивая дорога нас посеяла?
Так свершается провожаемое нами – или кем-нибудь неизвестным – шествие между весельем и радостью, меж подскакивающим на кочках чувством к вину и примкнувшей страстью бомбистов: залучить в затяжные уста – разительно тающее, тлеющее… Хоровод вертопрахов и бражников – вдоль хрустальных, сервированных судаком и форелью вод – или вдоль обнесенной животрепещущим частоколом миссии Флоры, в чьих перебоях – скомканные холмы не скудеют зеленой искрой. И, возможно, что-то насвистывает – тот дальний: шалопут, забывающий обернуться, и в дульце его сдвинутой на затылок шляпы алеет ассиметричный, шестикостный лист… а за ним шелестят плащи, уста и иные сладострастные складки… ловчий лиловый… ромбы, кипы прямоугольников – под вскипающий абрис персиков, а сами панбархатные закруглили и зашили землю ливнем… И над всем качается лирный звон органиструмов – или праздничных колесниц, запряженных – восьмеркой киафов… или – напротив: спрягаемых – бурдюками, мехами и остальными пифосами и скифосами. И ныряют в напущенную форсункой тень – и из тени в свет – вспотевшие фляги, серебряные манерки – или отуманившиеся склерозом молочники, и кряхтят корзины. И разлакомившаяся коса косматых термитов или наймитов, а над ними надписаны белые бальные бабочки… И дорога, брызнув из-под колес, обгоняет веселых идущих и, помедлив пред взошедшим за холмами, в новейших холмах, кагалом крыш или куполами дынь и пожертвовав – золотом или всеядностью, устремляется – вдоль безлюдных вод.
И объятый плащом, запинающийся, отсылает взоры – над желтизной газетного листа… или правительственных зданий – за три чешуйчатые излуки уползающей к радостям дороги.
– Мне видится там дорожный столбец, здешняя передовица – дабы застолбить официально, сколько прошло и осталось до чего-нибудь архиважного. Или… – и опять сверзаясь в газетный подвал, – через триста метров наступит время – обнародовать сокрытое от нас таинственной завесой… и, возможно, будет нами учтено для дальнейшей жизни.
– Не копать, на два метра вниз – клад, – говорит Аврора. И веет белокурым овечьим чубом и эоловыми оборками.
– Или не указатель, но живописное полотно, – вставляет кощунственноглазая Нетта. – Музей одной картины.
– Герма с черепом цезаря – или с беспрецедентными кукушьими полномочиями… – произносит кричащий. – Но какой художественной дезинформацией ни оглушит – дальше продолжается то же самое. И поднимается к горизонту, и переплескивает… Или я взираю – еще глазами неведения?
– Успеете окрутить Аврору, – говорит объятый. И уста лазурны и сливочны. – Стать сателлитом, перемять каждое из ее платьев – и функционирующее, обмуровочное, и альтернативно пылящее в глаза. Длинный роман, километров на пять, а потом – в кусты…
– У гонимого вами бедняги… и угоняемого все дальше – голые руки, – говорит Нетта. – А вы возьмете счастье. Прямо на дороге.
– Да, кто-нибудь, возможно, и подхватил это шествие веселящихся глухих, – замечает кричащий, с центробежными глазами. – И видит, что первый – неокликаемый – уже угодил в ров… боров! И тот, что сразу за ним – с неуслышанным воплем и бессмысленным хрустом – летит в забвение, а последние – за чужими спинами – не подозревают: слишком смеются. И всей командой репетируют архиважные планы – новое, скандальное прочтение классики. Эти сюжеты – как дорожные знамения: стандартны… категорически – ничего сногсшибательного! Но творцу не обязательно с кем-то себя идентифицировать. У меня нет привычки – мыслить о себе третьим числом, как цезарь или Гертруда Стайн. Я путаюсь между всеми – наконец раскромсав собственное тело… стремление – не к смерти, но – к свободе! Я не включаю себя, потому что хочу – судить… или – любоваться.
– Вуайер! – говорит объятый плащом. – Кстати, я тоже путаюсь между вами – в неглиже…
– Жизнь праведная – и жизнь веселая… Я предпочитаю вторую… и третью, и десятую, – говорит Аврора. – Отобрали, скажите пожалуйста! То, что не вернешь, я обычно дарю. Мало ли, что и куда отобрали из моего дома? Значит, я смогу веселиться в другом месте. В питейном поле. Если он у вас оттянул, значит – зачахнет без такой невидной мелочи… Кисет с карбункулами, свинчатка? Или – как у попутчика – рога, что никак не обнаружит? Возможно, вскоре они обретут четкость.
– Он всегда ищет то, чего у него нет. Острое и ужасное. Как в готическом романе, – говорит Нетта.
– Нетта не любит брутто, – бросает неотрывно от газеты объятый.
Скоро, скоро предстоят интересы: сквозь звенящие лиры и веселые разговоры веселящихся о веселье пробиваются дальнобойные тарелки – там, в полосе пикников, отнесенной ветром или течением времени и отдачей, – уже сумерки, и щелкают швермеры и петарды, и в воздухе – огненные письмена… Вероятны возлияния, магнетизмы, фонтаны одежд… или застольные беседы, словом – радости и шипучие, и цокающие. И какой-то свист и бульканье малахитовых рыб – или шуршащих жабрами листьев в сетях ветвей – или в их отражениях на маркой воде, раскачавшихся – канонерками, расчехливших стволы, рассучивших мелкокалиберные сучья…
– Я пересекал чей-то двор, и уши мои зачерпнули речь, – сообщает кричащий, с разлетевшимися глазами. – Нынче летом будет засуха, тьфу, эвфемизмы – аравийская депрессия! И еще – семь таких же лет, и забудется прежнее изобилие, и глад изгладит землю… А на вопрос, как пройти… не помню, куда: вы пойдете вдоль реки, и выйдет из нее племя плоских от голода рыб – заглотить что-нибудь… и птицам зноя будет нечего есть, и повесят вас на дереве, чтобы склевали с вас вашу плоть… должен ли я почтить случайность и принять услышанное – за пророчество?
– Во время текущей засухи… впадающей в следующее лето… в Туркмении учредили День Нейтралитета, – сообщает объятый плащом и опять выворачивает газету. – Протянули проспект имени Нейтралитета и сварганили гильотину… pardon, Арку Нейтралитета. Одноименный мост с выбитыми балясинами, водоворот, смотровую площадку и шампанское «Ледяной нейтралитет».
– Да и дом разлетелся на сто магических осколков, – говорит Аврора. – Но я вынесла сквозь ураганный огонь – ураганное платье и отсутствие проблемы: в чем пойти на пикник. Так что же объявлено – зной на многие лета или разгул пророчеств?
– Если первым объявлен – тот, сиюминутное не корреспондирует с оптимальным, – говорит кричащий, с наросшей на затылок спиной.
Но чем крупнее – шествующий навстречу шест, за которым – аберрация, замутненность пространства – аляповатым знанием… или – летящий навстречу гарпун, сбивающий на пикник, и в фокусе – упругие натюрморты, и из сорванного полога, то есть завесы, сорванной и уже расстеленной на поляне – красногалстучные индюки-персики… ау, не злоупотребляйте пастельными тонами, бубнит кричащий, маловато огня, дефицит ураганной массы… или – арбузы с перерезанными глотками, брызнувшие – пурпур… Чем ближе веха, тем навязчивее – ее перерождение, наступившая вдруг неоструганность, деловитость… И с последней ужимкой дороги налетают – на бесцветный осиновый кол. И, прервав целеустремление, изучают – глиняную табличку с клинописью… или на крепежной детали ржавый гвоздь – ухающую под ветром или под филина надорванную фанеру. И взамен километров, килокалорий, мгновений до старта и иных замет следопыта – скороговорка, кляузное кривописание: «Здесь окончил землю рыжий муж, клейменный до пят веснушками, уши из розовой папиросной бумаги. Объяснялся картаво, на монотонном языке, окончания сопрягал». И холмистое новообразование – деревенская груда расшитых корнями земляных подушек, и мерцающие пролежнями грелки камней, а сверху посажены в паутину два пятнистых, как глобус, незрячих яблока.
– Сами и кокнули, раз последние с ним беседовали, – говорит Аврора. – Вот и музей одной картины.
– Сопрягал неизвестно с чем… а известно – зачем? – вопрошает объятый и опять перелицовывает газету. – Возможно, у него были проблемы с пищеварением.
– Или – из общества «Прострелы в спине», – говорит туманноликая Нетта.
– Огненно-рыжий вплоть до самовозгорания, – произносит зауженный молодой человек в черном. – Глаза северные, архангельские.
И из сломанной трапеции – вдруг тоже сверкания: брызги речи… или – обанкротивший немоту ил.
– Какая веснянка, какая окрошка… – произносит Дафния. И звучит лиловым, обметает со вздутий барокко пшеничную пыль. – Здесь все в заблуждении, мой сын не рыжий, скорее – всклокоченный… будто с подрывной работы. Он очень обеспечен… – и, оглядывая тачку, в страхе: – Но кое-что бумажное, пергаментное…
– Как бы у него не воспламенилось! Возможно, сновидцу вострубят побудку, – говорит кричащий, с наросшей на затылок спиной. – Кто-нибудь добренький! Не отомкнете ли свою винотеку, не плеснете ли… не в ритон, так в пригоршню? Не скучать же до пикника.
– О счастье, тут чужой сын! – объявляет Нетта. – Жаль незавещанные уши. Папиросная кожура, а все-таки… – и кричащему: – Вы же возгласили засуху. Не убойтесь камбалы – спуститесь к реке, пока ее не выпили мы. Или нарыдают новую? Возможно, молодой человек в черном скажет, сколько еще течь – ей или вашей дороге. Он необычен, значит, в его присутствии есть какой-нибудь крупный смысл… По крайней мере, что – не он, для меня не имеет смысла. Или сказанное им так же случайно, как ухваченное во дворе.
– Я тоже здесь – только тень, расщепленная на множество ходячих суждений, – говорит зауженный молодой человек в черном. – Например: вера в то, что есть некто – знающий все или главное, изобличает в вас леность духа.
– Источник передает: в огородах сельских тружеников обнаружились змеи, – говорит объятый плащом. – Егеря на наш запрос разъясняют, что в лесу змеи не встречаются, но появились тигры и фердинанды. Они не многочисленны, и жителям ничего не грозит… – и, оторвавшись от газеты: – Если первого не смутил этот небесспорный указатель – верно идете, товарищи…
И вновь подхватывают котомки и трезвоны – серебряные в памяти и золотые от солнца… или от дома Соломонова – царю Валтасару… и пробитые петлями окарины возвышенных до урагана и сниженных до вечных покоев одежд, и – между весельем: прохлаждающимися протоками и междусобойчиком лепестков, зонтиков, медовых коробок – простирают шествие дальше, к радости.
Но впереди вдруг опять – взрыв барабанов и бенгальские огни сосен: лес великих костров… И рухнувший мост Нейтралитета докатывает до ближайших кастрюль – кувыркающиеся, жужжащие обломки, и пляшут по дну солнцеравных сковород… Или – сотрясает костяк деревьев, хлопает фрамугами, раскрытыми из крон в синеву, исторгает клекот – или нескончаемый шарф факира – из поставленных на ветки остроглавых святых. И воздух вокруг и над трамплином дороги – отягчается, каменеет, обращая бабочек и стрекоз – в легкомысленные, полустертые петроглифы, и в проточных зеркалах меж рогатыми канонерками расшипелась бессребреница-тьма… И последние идущие аккуратно собрали движение – в щепоть, на плечо… и щепотку – на другое. А предшествующие, сбросив широкий шаг, раздраженно свернули свои папиросные хлопушки – в козью ногу тишины… а другие подобрались под крылышки скулящих колясок, протянув себя – меж мешками с картошкой и живостью воображения, слившись с поклажей… или удалились в иные бугристые фортификации. И Аврора комкает и прижимает к душе – сладострастное, и садится – в пыль, и набрасывает на голову бурный подол… А кричащий свергает фуксом блошковатую Дафнию и расплескивает – в колтун красно-бурых водорослей на рваной подошве, и кричит: – Земля! Горчичные цветы, коровьи лепешки! – и бросается на тачку, покрывая собственным телом – скуксившиеся кули и канистры. И бормочет: – Какая грызня на псарне туч… – и высматривает разбежавшимися глазами – какую-нибудь бутыль, и бормочет: – Возможен уксус… Зато запинающийся, объятый, без запинки опрокидывается – на спину, в траву, подложив под голову ранец, разметав плащ и опять явив – заниженное, ждущее новых веяний, и закрывает лицо газетой. И сквозь громы – из-под листа: – Нам сообщают: уже несколько дней к избирательным урнам привозят долгожителей – для досрочного голосования за пожизненного первого консула N, баллотирующегося в императоры… Спрашивается: адекватно ли оценивают ситуацию эти безнадежно устаревшие люди? Понимают ли, чего от них хотят – над избирательной урной праха…
– Сброшенный на подкрылки членистый, – говорит туманноликая Нетта, перейдя его ноги в футбольных гетрах – или в иной азартной снасти. – И опять целит в доноры.
И усаживается на слетевшее с чьих-то круч и закрученное в ионическую капитель одеяло, и вытягивает из ранца сигарету. И пока все веки заклеены, а клейменные очевидностью прочие части скатились на задний план, изучает зауженного молодого человека в черном – кощунственным глазом, зазеленевшим, как капсюли на ветках весны. Молодой человек – прислонясь к стволу, представив черты – грубые и прекрасные… или неумолимые, циркуляционные… слившись с черным трафаретом – или с его расчесанной ветром коростой, и в порталах – над стелющимися стопинами или стеблями – бронзовый луг, и воронки от пикников выпаривают сахарную фурнитуру.
– Как мир музыкален, полнозвучен, полифоничен, – говорит Нетта. – А? Вы не ощущаете его молодости? Чудесной инфантильности? – и оглядываясь: – Умалились, как дети, и еще меньше. Где они? – и препоручив грохоты – паразитирующим очевидцам, жжет сигарету. – Вы вошли в меня тайной и не вместились, и клубитесь вокруг… Я хочу вас познать.
– Так оглянитесь, – говорит зауженный молодой человек в черном. – Поднимите камень, отведите куст полыни и войлок цветений, расщепите дерево – и отовсюду к вам выйду я…
– Нет! – говорит Нетта. Дым, дым, дым… – Нет и нет!
– Не умножайте фикции… Фантомы и привидения.
И высь смолкает. И такая широкая пауза, что слышно, как на лугу растут поганки. А все сгинувшие без вести и раскассированные вдруг воскресают из-под своих колесниц или выбиваются из-под камней и выходят из треснувших деревьев. И Аврора сбрасывает с головы бурный чехол, и подсушивает, и подтягивает себя к дальнейшим прорывам. И непомерная Дафния возрастает и опять надувается непроизнесенным – до Аполлоновых лавров.
– Но пасаран! – и почетный донор снимает с лица газету, сверкнувшую прорехами для глаз, и опять вворачивается в ветрило, оплавившее лазурью его уста.
И туманноликая, звенящая скулами Нетта бросает сигарету. И бросает:
– Жаль, что незнание жизни не освобождает от жизни…
– Что вы так боитесь звуков форте? – вопрошает кричащий, вспорхнувший с тачки.
– Все вам расскажи! – и Аврора взбивает белокурый овечий чуб. – Пусть вас терзают подозрения… – и кричит: – Как я устала… откуда я знаю, почему? Не трогайте меня, я устала! – и вытрясая из дудок бурю сладострастия: – А у вас и примет нет. Что писать, если вас изгладят с этой дороги? Здесь плелся некто и вопил, что его ободрали? А зачем вам идти за несуном? Чтоб еще что-нибудь отнял?
– Если первый отнял у меня все, – говорит кричащий, с центробежными глазами, – значит, теперь он – я.
И идут себе дальше. Пока черные стволы или Лаокоон вырываются из змеящихся, множащих жала ветвей. И один несет случайно подобранное имя… или – вечное, как заря… а другие – так и не произнесенное… или непроизносимое.
Но и те и эти шествующие – всего лишь краснофигурная роспись на вазе.
ничего, кроме болтовни над полем трав
ПРИБЛИЖЕНИЕ (I) И РАЗЛОЖЕНИЕ (II)
I
Н.Р.
Стиль неподкупный реализм: лето семьдесят второе, кордон, овраг, угадываются очертания входа – тяжкие и особо тяжкие… Отъезд Бродского, а наш первый курс не подозревает и оглашен на нескромной практике – на отпущенной от тождества и стремящейся к пасторали местности, которая лет через… цифры скачущие проглочены как неточные… вдруг сгруппируется в фундаментальный пейзаж – родина Президента. И однокурсник, что укрупнит мне жизнь прецедентами – или сузит круг моих поисков, – еще с нами, но я мню его статистом, а ныне – рву на себе… или в чьей-то разверстой костюмерной, захлопанной саранчой одежд… и потрясенно бормочу: родина больна… армия больна… я же – окопная мышь или мнимый больной – умираю за мнимых статистов. Но он уже перешел Рубикон… во власти угадываются очертания входа… и – в иной стране. Абсолютный документ.
Герой рассказа – юный Корнелиус, ловец дутых вещей, мчится за огненным мячом, проносившимся от препон – в лиса, за хитрящим и вдребезги рассекречивающим… словом, обогащающим. И, влетев в очередной шиповник, он наживает преследователю – Сцену у окна: на подоконнике, за полем трав – Полина с трудами дней, плетением или вязанием… возбуждена пунцовая прогрессия: розы, шипы, кудри Полины, захваченный ими ветер… И здесь же – бликующий собеседник Полины, с колеблющейся половиной усмешки… скрестив руки, закусив, как свисток, сигарету – и затачивая прищуром дорогу. И развеиваясь вместе с дымом. Двойной портрет: мерцающая аритмия, угол смеха, солнечные марки в кляссере стекла и взведенный курком шпингалет. Перепосвящение взоров – спускающимся на парашютах деревьям, ломая ветки… зелени парусины, орнаментальным конвульсиям строп… и на высоте пропадает – вставший в шиповнике и наобум прочитавший канон грозы… И Корнелиус пропал! Но не в розах – в момент преступления собственных сочинений. Он поджимает стропы рифмой: катастрофой. А далее – ощущение непоправимости… и приспущенное – в память об этом дне гнева – солнце, пройдя сквозь черные пружины и скважины, исчерпывает – вставших в окне. Но лис или мяч, числитель свернутого в огненную сферу значения, пересмеивает траекторию прошлого, как чумная амазонка, зондирующая Булонские аллеи, и опять заносит преследователя – в те же алеющие кусты: в алеющие соглядатаи. И форсированный пунцовый – и всколыхнувшиеся к фарсу фланги: расслабленный абрис – ореол… В нем, вполоборота к ветру – Полина с забранными в цвет гнева локонами, с плетением трудов… И, скрестив руки, лицом к дороге – третий фигурант.
Итак, Корнелиус вторгается в сомнительные видения, упустив – маркированность стекла… разорение, шелестящее мельтешение монограммы… или монодрамы третьего, извергнутого в ветер… Здесь такая фраза Полины:
– Ты взошел в кустах вместо розы? И рядом со мной тебе привиделся дымящийся проходимец? У меня – тьмы знакомых, и каждый хоть раз да был проходимцем. А большинство – и осталось…
Но Корнелиус – за случайность восстания на его пути кустов… нежданная инсуррекция, сатанински утонченный инструмент: шипы, иглы, розы… секущая времени… И находит новую примету: кто собран временно – из тактов смеха и развеивает свою тактику на глазах?
Полина теребит красной спицей пух.
– А теперь я отдамся воспоминаниям над пухом и прахом. Сенсационным разоблачениям! – объявляет Полина. – Лето Роковых Совпадений. Когда слагалась величайшая книга, мне исполнилось восемнадцать – и я не знала о настоящем ни-че-го! Правда, странное совпадение? Ты даже слышишь скрип пера – и не ведаешь, что это… но щелкаешь сессию и являешься за диалектами – в еще более оглохшую точку, где только… я не брезгую цифрой… пять миллионов сосны и березы, но в конце твоей жизни эта дыра, ха-ха… окажется родиной знаменитого героя! Или я злоупотребляю приемом? Мы обитали в развалинах школы… сладчайшей жизни. Межа коридора, заваленного мертвой мебелью, уходящей во тьму. Справа – девичья: концертирующая свора кисок первого курса – и пара старух с пятого, творящих надзор за нами – и тремя нашими сокурсниками, возможными сатирами, слева. Патронки сразу вскипятили романы, но третий отчего-то решил, что он – лишний и, отвергнув варианты, существовал в параллельном мире. Днем мы практиковали… шатались по глиняной дороге и разбивали ее – на упущения. А вечером в левой половине развалин созревал виноград и превалировали музы… залпы шампанского, карийон посуд и целовальные переборы… и запрещенные эмигранты голосили с магнитофона один для всей округи секрет – кого-то, на их критиканский взгляд, нет… А кого-то – жаль. Куда-то сердце мчится вдаль… А правые, чуть совершеннолетние идиотки выбрасывают штандарт невинности… аншлаг? И вычисляют драматургию, и строят козни… надуваясь освоенными удовольствиями – дымом и теплым пивом, и в десять – проваливая в сон, чтоб всю ночь чесаться от зависти, пока через коридор – поют и любят, и, опрокидывая мебель, выскакивают – под летние звезды… затихая – только к рассвету, чтоб настичь сиесту. И когда мы, уже наполнив глупостью день – и посетив жужжащее, гудящее лесное кладбище… стыд: кладбищенской земляники вкуснее и слаще нет… для левых опять – зажигают звезды. Впрочем… оно нам нужно? Заряжают пушки, совлекают бесславье с виноградов… и костер танцует под вертелами, где финишировал бычок…
– А третий? – спрашивает Корнелиус.
– Ах, этот… – задумывается Полина. – Чуть ли не третий. Ведет себя загадочно, на вопросы отвечает уклончиво… Да кроме облизнувшихся путан о нем никто и не помнил, я – первая. Понимаешь? Первая – я, а не ты. Кажется, он заботливо поливал бычку чресла и подбрасывал под крестец – огонь, а куда-нибудь – лед… А третий смеялся – над ними и над нами! – говорит Полина. – И через десять лет хранил для дряни – мои оскорбленные гримаски и высоконравственные репризы. Он-то слышал, как опускались великие страницы, и что ни день – новые. Все дано тебе – для того, чтобы вскоре рыдать над собственной слепотой и посыпать голову блестками позора. Блест-ка-ми. О, знать бы, что в одних с тобой захолустных обстоятельствах… почти касаясь плечом… Знать – сразу с происходящим! Ну, как – этюд с третьим участником?
А в финале кто-то произнесет вымышленную фразу:
– Они отлично доказали свое бессилие и полную непригодность к жизни тем, что умерли.
II
Сначала – бегущий юный Корнелиус, ловец дутых предметов и трагических, возносящихся и низверженных линий – игрок в мяч, отныне – подследственный, а через несколько фраз мелькнет и – под-подследственный: самосев, но первый – Корнелиус с лаконичной косичкой на затылке, так вяжет кипу – и траченный вязью момент, и море – за песчаной косой ночи… вязать – значит помнить… помнить – значит вязать. Но пока Корнелиус принимал на веру разбросанное горстями утро, его туманные перехваты в красной пыли – опять просмотрел вход в игру и прошляпил арку: поворотную траекторию, накопительницу голов… Какие летали головы! Корнелиус же ведет предмет – мимо свистящего аркана и мчится, не разбирая дороги – и к чему разбирать, если цель – охота за красным? За огненным мячом – вытертым прытью в эллипс лисом, что хитрит вразброс с заданным посылом, и проскальзывает, и вдребезги рассекречивает – и заметает любые расстояния. И вытягиваются в беспричинную и великую улицу – вечерние перекрестки в мошкаре фонарей и взятые в поливальные жвала шоссе… взмывшие паузы взморья – и портики рощ с перистилями огненных лужаек, и прочие гряды и резцы… вариант: и свернутый в свитки лес – историческая библиотека… И снова наплывающий и раскалывающийся многогранник города: исполненные в разной технике – промысел, инициатива…
Но некто – случайный в церемониале прохождения улицы… не предусмотренный – здесь или везде… И Корнелиус в одночасье – беден и совершенно застыл, как просквоженный стрелой… и зорко глядя вдаль – засылая правого орла и левого ястреба – мимо райского вреза витрин: – Черт и пес, это же – он! – подпрыгивая, нанизывая на перст – перспективу: – У афиш – тот… – и, забыв, что краснохвостая комета еще не остановилась: – Сосчитанный Тот! Третий лишний – в Сцене у окна! Первый – я, наблюдающий окно – из кустов шиповника, пока шипы пронзают мне кожу. Вторая – Полина за полем трав, на подоконнике, на распахнутом ветру – с превратностью вязания, скорость – в пуховых узлах, пунцовые спицы… пунцовая аномалия – напившиеся шипы, розы, кудри Полины: цвет гнева, засвеченный ими ветер… уста, роза ветров… Каков куш – колющего: спиц, ресниц, шпилек, шипов… рогов! Наконец, колкий третий – рядом с Полиной в обнаруженном изводе окна – бликующий, дробный, с колеблющейся половиной усмешки… скрестив руки, закусив, как свисток, сигарету – и зауживая прищуром дорогу… и развеиваясь вместе с дымом. И на ваше позднепраздное любопытство Полина имеет честь отрезать, что он – увы… что его уже… и память о нем гасит черным пером – обтрепанные цирки холмов и дрожь балансирующих на синем канате рек… жонглирующих – головнями бакенов… а также: треск летящих по кругу деревьев в рогатых мерцающих гермошлемах. И позднее: глянцевый корпус дурмана – и пробоины полных вздохом долин… Это третий, развеявшийся – в безымянных солнечных ромбах, обводах – сейчас, впереди, в огненном столпе осени… то есть – в толпе и опять устремившись к исчезновению… ускользнувший – златых рангоутов солнца и прочих уз – но узнан, узнан!
Что, нынче – воскресение? Здесь морочат и усмиряют уклон – уличный, потусторонний… величие беспричинности – или Корнелиуса? Юный игрок – в разветвлении дня, промокая шеломом панамы – ошеломленный лик. Клясться о проходящем – непреходящим? И, оттягивая себя за косицу на рубеж родовитых вещей и явлений, имеющих – основание… не имеющих основания – на глазах развиднеться… разве – усекновение секунды присутствия: – А кто решил, что такой-то фрагмент и группы паразитирующих в нем подробностей – и преступившего их третейского – я увижу только однажды? Вы возделываете и орошаете земли, где его уже… и отныне ему… и полоскание эвфемизмов. А если вышел – ваш ресурс? Ваши возможности закрыты, а мне назначено любоваться… непревзойденный он! – семь лет подряд и в ряженые субботы? Дано: впервые некто явлен Корнелиусу в сцене с Полиной у окна – и связан с ней взятой в раму и застоявшейся минутой: анахронизмом, поджигающим пространство… наконец – чьим-то взглядом, остановившим окно: брошенный в лето сигнал тревоги, карту выщербленных шарлахом полушарий… вернее – смыслом, который кое-кто подпустил… да, из шиповника. Двое в раме – торжественны… тождественны – стоят друг друга… здесь – вонзившиеся шипы. Спрашивается: сколько раз Корнелиус увидит третьего, если Полину он наблюдал тогда – в сто первый раз? При просчетах мирового зла у нас – полжизни! Его мелеющий горизонт, а дальше Корнелиус удовлетворен – и наращивает свободные зрелища.
И новый перст: – Кто отец ужаса, отказавший – черни ваших очей, чтоб семь вечностей ему потакали – мои? Рваная фактура: форшлаги, всполохи, кружащий смех. И ритенуто – натянутая медлительность, провокация! Прерывист – значит, необязателен. К счастью, он удаляется. Под эгидой мерцания и дроби. Остановить его! Склеить – разлитым всплошную и липнущим к коже насущным… повязать душевной канителью! Трясти – страстный проблемный дискурс, раздумья о социуме… И вам в усердия – половина его усмешки: повышенный угол, колеблющийся фитиль. Не сравните ли – со своей половиной? Подумаешь, и Корнелиус зачехляет косицу панамой, филигрань – от нескромных, он знает нечто… я хохочу, как группа филинов. Но как разошелся мяч… с направлением, где успел наш прослоенный далью третий друг, наш клейменный красными люфтами плоскогорья! Упустить вечный гон – или тайну воскресения: откуда вдруг – вопреки исходящей прямой наводкой реальности… За показания рыжей наводчицы – ни реала! На случай кем-то из бывших в раме двоих – исход провален. Ваши цели и средства? Учитывая кровавую гамму…
Но мчаться, потрошить? Или – заунывно красться за тем, что случится? Репатриация отпавших, их оживленный променад – вот суть, а дальнейшее – лишь переливы. Да предадимся размышлениям и озарениям, измышлениям и расчетным ошибкам – в прохладе экседры Шиповник, меж порхающими с ветки на ветку розами и рассыпанными – тенью каждой – кошачьими головами тьмы. Ибо красный лис, он же мяч, вольно несущий свое свернутое в огненную сферу значение, то и дело – согласно теории вероятности… или вопреки – пересмеивает траекторию прошлого, как чумовая амазонка, отмазывая Булонские аллеи, и заносит преследователя – в те же алеющие кусты: в алеющие соглядатаи, открывая ему за полем трав – многократность вертикали и превознесенное окно: биплан, разбросавший крылья рам… во времена трав, шипов и роз… таких маневренных, что Корнелиус навзрыд запутан: настигнутый им двойной портрет уже выставлялся в раме – или… сейчас упустит петляющий лисий огонь – и никогда не увидит Сцены у окна? Или не увидит потому, что помчится за третьим, а в его жизни эта сцена давно прошла? Форсированный пунцовый – и склоняемые к фарсу фланги, их расслабленный абрис – ореол… И вполоборота к ветру – Полина с забранными в цвет гнева локонами, с вязанием: пух, птицы снежные и серые, тающие – на красных спицах. И скрестив руки, лицом к дороге – пришлый третий: аритмия, вьющийся угол смеха, дым. Перепосвящение взоров – спускающимся на парашютах деревьям, вздутой зеленью парусине, черным сложносокращениям строп… и на этой высоте пропадают – вставший в шиповнике и прочитавший в увиденном канон грозы… и поле отчужденных трав, мечущее лаванды и маки…
Да, Корнелиус пропал! И не в ромбах шипящих кошачьих зевов, но – в собственных сочинениях! Кто подобрал рифму к стропам – катастрофа? И ритм непоправимости… и припущенное, приспущенное в день гнева солнце, пройдя сквозь черные стропы над головой Корнелиуса, исчерпывает – вставших в окне… и бьющийся заклад воздуха – между Полиной и третьим… насыпая ему под куртку – осколки, подбираясь к вздернутому вороту, отгибая… Наблюдатель заостряет край воздуха? Лишь – чужеродность элемента: внутри дома – не отстав от уличного вида… вида на дорогу, не почтив иное пространство – преображением. Разорвав себя на тут и там. Окно как место разрыва… Но что Корнелиусу – Полина? Спартанскому отроку с недозрелым лисом… И кто и зачем видел Полину встревоженной? Ее страсть – безмятежность…