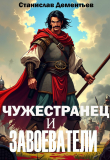Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Из многих тут и там натешивших и нагревших меня домов мой настоящий восходит – не к скользящему месту (землеотвод, башня воздуха и праведности, узурпировавший их камень, узурпированный – грудой), но мостится на склоне времени. И самый мой несомненный – склонение пятидесятых, потому-то я и сбиваюсь – в блудные дочери, ища возвратиться – по дорогам, заискивающим пред местом.
Итак, пользуясь нашим множественным присутствием, мы что-то сообщали друг другу или urbi et orbi… Кто сказал – счастье? Меня неукротимо утомляют чада – что, возможно, я вдохнула – от спутника. Обрывки разноязычных речей – асинхронным городам: инспирировать недоставшее пространство – понтонные переправы меж перекрестками… либо я и все, видимое мной и захваченное – где ослаблено поступательностью… либо – мой невидимый сопровождающий из крылатых долины ада… и раз его присутствие ослепляет, я сосредоточена – на более достоверном круге: счастье слепоты – или существования в нижних слоях, в уровне рук – манипуляции, волшба, дары!
Но мистерия Велосипед. В сухостое неплодных дверей, в расселинах плотных недолетов – плотогон, или Гость с лучшими золотой и фарфоровой улыбками. И цари, и пророки мечтали увидеть – что видите вы, и – не увидели… не считая лазурной конструкции в нижнем углу, возможно в руке Невидимого – эта схвачена мною сразу. Как старомодна! Каков гегемон – против от неглубокого и заигравшего остроту трапезного средства. Пилотируемые отныне мной – эти сумасбродства! Раскосое, цепенящее лезвие руля… Три колеса-циферблата массированных стрел или мышьих хвостов, разбивших собственное число… Кошель с превратными ключами – при пущенном на стебле седле, небезынтересный пост… Органика коловращения, выборка челночного… Зигзаг рамы – над зажевавшей себя змеей или вечно сползающей цепью, за которой и я сползаю – в шипящее запустение: натянуть тугую – на две зубчатые звезды мне с тем полом и возрастом не с руки, а даритель уже невидим… в цепную реакцию с ожиданием доброго самарянина, кто перебинтует уронившую себя и меня механику, польет елеем – и подбросит за унесшимся миром на дружке-осле. Каковой самарянин – или его сосед, еще добрее, – нашел в индексе моего странствия, что я должна обходиться – малым. Припустив за мной, не жалея стати: придержать за седло и ссадить меня – на два мышьих круга…
Вопрос искавшей меня с сообщением доверительницы, новой самарянки: но вы ведь помните, как он приехал на ваш день рождения и привез вам велосипед? – здесь центробежность гордости – в высоту дождя и вымываемой мольбами меж глин – не то бухты, не то попрошайки-ямы.
Оказывается, серебряная, воможно, как прах Самарии, дама – тоже мамина студентка, да-да, родная кафедра, но на курс моложе, чем он… введение кумиров: профессор и ваша мама, сначала они и были – вся кафедра… и под маминым водительством – летняя практика в Рубежном… амброзии, пальба веселий, священные перелески, заштуковавшие в круг священных животных молодости… во что бы мне обратить рубежный практикум? И как ни обернись – внезапный урон в цельности и последовательности натур… лейтмотив: но что-то произошло – и… есть доминантный эпизод, его насыщенная, несвертываемая мелодия. Соответственно реквизит: в прорехах стен – вид снаружи, вид из души – тихоходы-деревья, намекнув кружение улицы Розы в огненном мешке лета. И для записи ритма и глазомера – продольность и повторяемость окон, мотивов, причин… чин листвы – сбрасываем краплак красный и кадмий красно-лимонный как вызывающие верховные нерасположения и экспансию белого: уточнения седьмого дня октября, в чьей глубине – невостребованность дара, кощунственные отсрочки. Плюс указанная модель пятидесятых – педальная машина времени. Несмотря на нарезку кругов, доставившая меня из раннего, кубического периода – в поступательную сумятицу слов: несомненную дешифровку последней реки. Бега пегих вод в подпалинах и в тотальных яблоках… Бесчестный тотализатор – одной реке дали фору. Несущей бесчестье: пучеглазые яблоки. По крайней мере, мне очевидно: даритель – отец-Время. Или Гелиос – с одолжением отпрыскам колесницы.
О, конечно! Я остаюсь у руля. Здесь пир обойденных – перебирание ядов. Упустить – самое сокрушительное его вмешательство в мою жизнь? Как поминутно упускаю – всю, что ни минута – что-то стряслось и… не меньше землетрясения, премножество лиц облегчив – маской ночи, сровняв постройки их – с тьмой, сравнив дороги их – с решетом. Полустертая сейсмография: разбитое на минуты поле, криводушный каркас странствий, деталь – зёрна, фон – терновник, тракт, клюющие птицы… застрявший на весу вираж крыши, разлетевшиеся на буквы книги: превосходящие негласные. И скобянка просеянных сквозь редуты тварного светов. Но к чему груз – на побережье?
И очевидно: Невидимый явился в праздник. Поскольку праздник был – всегда с ним. И поскольку праздники столь малоземельны – одно-другое утро и… не встать мерному поместью «Что Ни Утро» – никакого обихода, лишь разбросить службы комедии и перегрузить положения. Ибо, опережая меня, начерталось: каждому – свой город. Но – скощение срока: по разным краям одной ночи. Мы богаче праздника: он – иногда, а наш дом – никогда. Пара стены и дверь Возрождения в аппликациях и вьюнах – здесь, а достройки и чудеса… Целое разложено – на тысячу прихотей: переулок, козыряющий то ли пиками оград, то ли – обелисками последних лучей, темные музыки и пение с крыш, шепелявость хормейстера… Ветер на эстакаде и мечущийся по склону запах примул, внезапный, все снимающий поворот. И к рассвету – перехватывающая горло медная проволока горизонта.
Недоставшая часть дома – четвертая стена на театре, куда внесли свои пантомимы все мои близкие.
С наследной же щедростью – умолчу, что всеобъемлющий мелодический эпизод, как и перекрестные рифмы, – воздухи, просиявшие нержавеющий купол – на дне ложки. Бегство стрел на прокативших меня циферблатах. Что моя праздная захваченность Невидимым – его способность совратиться фигурой самораспада. Растворения – во всем. Магия великолепного сквозняка: если исчезновение неосязаемо – никто и не исчезал? Возможно, меня спасало до сей поры – что мне не открылось место исчезновения. В отличие от вздернутого на петли Возрождения. Или – до встречи с доброй рачительницей, несущей последнее знание.
Частный случай растворения: на бумаге, растворенной в пробелах форм, забытых на том краю ночи и найденных – на другом. Послания, непрозрачные мне – ранним временным отчуждением букв и дальнейшим особенным обхождением: мимо меня, но – к возлюбленному наставнику в искусствах химии: свойства, расщепления, предсказание реакций, превращения и подмены… к прекрасной ликом горбоносой иудеянке, за которую служил по чужим городам – семь лет, и еще семь – по недородам дорог, и не дослужил… спросив за службу – молодильные яблоки воспоминаний, они же – камни вдоль чернотропа. Или упущены мной – в общих воззваниях, знаках и приветах от явленного. И подарены мне адресатом – пред новой чредой исчезновений, а может, взяты мной в дар – после. На новом солнце, где чернила разводящей ночи – сухие стебли. Не растворить ли их заново – меж взлетающими платками уменьшающейся и меркнущей самарянки?
Здравствуйте, моя дорогая. Наконец встал назначенный Вами октябрь, все ждет Вас, шампанское охлаждается, но… но не было сказано, в октябре какого года?
Уже третью неделю я здесь. Пока стажируемся, будем начальниками смен. Живем в общежитии, комнаты ни мне, ни товарищу достать не удалось. Грязновато, далековато… Да и скучно…
Здравствуйте, моя дорогая. О моем приезде сейчас, конечно, не может быть и речи. Если и вырвусь, то для срочной Москвы. Вот бы возможность для Вашего появления – надеюсь, надеюсь… Пока знакомлюсь с производством, начнем после праздников. Цех красителей – и самый сложный на заводе, и самый интересный. Народ как будто неплохой, мастер тоже толковый. Грязновато, но это ерунда. После капитального ремонта лишнее выброшено, возможное облицовано плиткой. И, не поверите, преобладающий цвет – фиолетовый.
Одно неважно – быт. Мне таки поднадоело перебиваться по общежитиям и жить Бог знает как и где. Ведь я болтаюсь по белому свету уже с 1941 года. Правда, я бродяга – и страстный, но согласитесь: после вояжей и трудов приятно возвратиться в свой дом, да и пора уже иметь его. Мне к тридцати добирается.
Вы говорите о седых волосах? Не смейте больше. Запомните, для меня Вы молоды, мы с Вами ровесники.
О скончании студенчества я пока не жалею, еще свежо. Пишите побольше о себе. Какие курсы Вы сейчас читаете?
Я уже организовал группу, здесь – знаменитые пещеры. Для начала новых странствий пойдут…
Здравствуйте, моя дорогая. Очень провинился перед Вами длиннейшим молчанием. Не знаю, могу ли быть прощен. С ноября работаю самостоятельно, завод забирает – 14–16 часов в сутки. Утром имеешь существенные планы, а возвращаешься к этим огнеприпасам – уже разбитым. И действия недоступны, кроме – спать, спать… на железной койке. С тем и мелькнул этот месяц. Я очень люблю большие нагрузки – но пока неверно распределяю силы и время. Очередные большие перемены… А вообще, я доволен такой жизнью. С утра работа приманивает… Идешь за своим желанием.
Первое время были трения с рабочими, отказы от работы. С иными пришлось ругаться, прогонять. Сейчас слушаются. Зовут по отчеству – постепенно привыкаю. Народ у меня хороший. Из 4-х смен в цехе мои люди – лучшие…
А вот после работы – тяжелая скука. Чувствуешь себя в ссылке. Радио нет. Повезет достать газету – с жадностью читаешь от корки до корки. С жильем – безнадежно. Строят еле-еле – и временем, и качеством. Вчерашнее несчастье: рядом с нами сгорел дом – и, конечно, принадлежал заводу. Девять жизней. Я как раз был в окне…
Единственная радость – Ваши письма. Но хочется получать от Вас частые письма, все о Вас знать. Вы же больше отчитываетесь – кафедральным. Пожалуйста, пишите мне все и еще длиннее. Написанное же неплохо и отправлять. Моя дорогая! Как хорошо иметь такого чудесного друга, как Вы.
Кто приедет со студентами к нам на практику? Может быть, Вы? Передайте X., что он – крупная свинья, до сих пор от него ни слуху ни духу.
Привет Вашей маме и всем знакомым. Пишите.
Эти порошковые травы усыпали половину конвертов – истекшим городом в арьергарде ночи, ощутившим, как все его силуэты растлились на черном подбое, на штормящей жестикуляции безгласых дерев: нагар долготелого… и бросился сквозь горящие обручи окон – в сны. Или – принял новое очковое имя: из пламенных – то ли политический гангстер, то ли битый одёр с молотом головы. Так и въелись в меня три ударных слога – молодцеватый город меж собою прошлым – и нарастающим, сомкнутый краями тьмы. Парады-алле паровоза – его громоздких, выстуженных мерзостей… Одетый в лиловые дымы хор – на картах пятидесятых, галечник мерзлых, гремучих следов. Будь сей город на расстоянии проницаемого дня – все бы… Но, возможно, вокзально-сизые оттенки, и одевший всех шерстью дым, и провальные ожидания – случайный ингредиент. Оказывается, эту голову – ослиный пробойник – вырезали из черных бумажных тарелок, когда мне исполнилось четыре. Так что на одном почти реальном перекрестке он был ожидаем мной – еще до четырех… сторожевых колотушек, криков петуха. Для новых надежд – просьба к корифею и хоревтам не разбредаться по развалинам.
Здравствуйте, моя дорогая! Беру на себя смелость писать только Ваше имя – не сердитесь за отставшее отчество? Хватит ли этой храбрости – при встрече? Я у Вас в неоплатном долгу, надеюсь найти прощение лишь благодаря Вашему доброму сердцу.
А выспаться мне тогда так и не удалось – работал за товарища. Не везет нам с Вами. Оба раза можно было остаться – и вот… Меня смущают Ваши ночные эксперименты. Берегите себя, не переборщите… Помните о своем здоровье. Очень прошу держать меня в курсе дела. Почему Вы все берете на себя? Ведь хоть какое-нибудь, а все-таки я имею отношение к происшедшему. Будем расхлебывать вместе. Согласен с Вами, пусть мама пока ничего не знает. Уповаю на время. Оно – наш даритель.
Распределение квартир в новом доме принесло – ничего. Директор в Москве, вернется – пойдем ругаться. Что это даст? Думаю – то же. Снова работаю ночью. Следующая неделя будет разрушенной. Можно было бы вырваться на утро к Вам, но в кармане – 15 рублей. Жду Ваши письма. Как здесь сейчас скучно! Как пусто…
Здравствуйте, моя дорогая. Совершенно потерял Вас из виду. Пишу домой. Вы, конечно, сейчас должны быть дома. Ведь уже конец… Поздравляю Вас (с кем – не знаю?!). Скоро отпуск – обязательно буду. Жду Ваши письма. Привет маме и всем. Посылаю Вам деньги. Всегда Ваш. 17 октября 1953 г.
Полувопрошание старой дамы, обладательницы сандалет-скороходов, принесшей мне весть – через сто времен, или полусмятенная радость – пред собратом юности, отставшим в толпе у воскресного стадиона, на прорыве сквозь болеющих, и сквозь стражей в белых гимнастерках, полных ветром до крыл, и окаменевших бегунов – мрамор, гипс, известь? – и догнавшим ее в странном облике: – Вы знаете, что вы на него очень похожи?
С тех пор как я одержима собственным существованием – проверкой на примерах, разбивших следами – число… на лете, поглощенном дымовыми шашками одуванчиков и просвечивающем – окнами и крылами печатающих полет, или астигматичными, гипнотическими зрачками их печатей и валторнами над горизонтом… да, во всех примерах я была – образованием гомогенных сил: фантазией легкой, как благодать, обожаемой мной горбоносой иудеянки, или обузой и восторгом маленькой старухи из тех же земель, не менее горбоносой и сгорбленной, исключение – племянницей восьми или трех (по мере развеяния) полуплешивых дядей с полными женщин сердцами и вышедших на меня – также по женским связям.
И вдруг кто-то объявляет, что видел меня – за чертой, куда брошены вторые половины тел: тени первых или дополненные новшествами. Мое лицо – знак: некто истинный муж был здесь и внятен той и этой половине (система взаимного надзора). Смотрел мертвые петли солнца и решил: мы пребываем среди одного и того же, не насытится око зрением… и захвачен сносящим течением неба. Что давно прочли – все, посвященные в сообщении старой дамы – в легион. Вокруг меня было множество знающих – о мне и моей миссии. Не в пример мне.
Как в том фарсе, где компания переодетых тащится за сумасшедшим старцем, полагающим, что он – король, но не ведающим, что эти поминутно бранящиеся с бесами оборванцы – его придворные, и убежден, что шуткует втихомолку, а колпачники хоть и видят, что он творит, так не ведают – кто, и не тычут паклю его акций меж тем, что было, и что он еще натворит, посему протекающее им непрозрачно. Я не сравниваю себя, – ни с ненастной свитой, ни с лирическим старцем. Скорее – с дочерью, которую он отверг, не выдарив – ни полкорзины земли от своего королевства, лишь колос дождя в зернах слез.
Возможно, я охочусь за лунами и гуляла по той стороне – во сне. Проскользнувшее в снах и обмерило мне лицо. Но обращено ко мне изнанкой, и некто, видимый всем, для меня – опять…
И когда молчание, наконец, потерялось – в ларцах высоких крылец, и в кульках желчных трав, и в недужных очках со стоялыми, заиндевелыми линзами – и, смешав стрелы колес и сломанные спицы зонтов, смешалось – с зардевшейся декой дальней гряды и дробящим полет к ней снегом… вдруг – фотографии: на расстоянии полуоборота, перевернутой страницы, собственно – четверть века… всегда! Никто и не скрывал их. Но тот, кого я столь высматривала в брешах улицы Розы, кто ссудил мне жизнь или только лицо, был мною не узнан. Ибо сущность его – Невидимый. Не исключено, что мой Создатель стоял во всех разломах мира…
Поздравляю праздником желаю счастья здоровья очень виноват…
Моя дорогая. Я, как всегда, подвел. Приехать не смог. Не отпустили. Оборудую себе лабораторию, чудовищно занят, и все же я бы вырвался. Но в пылу перемещений хотят переместить и меня. Главный инженер предложил мне быть начальником цеха. Я, конечно, отказался. Он настоял, что спор не закончен. Послал тебе телеграмму, чтоб не ожидали. Ругаешься? А что ты думаешь об этом? Как у тебя дела? Где сейчас странствуешь? Пишу на Ригу. Целую. Всегда твой.
Моя дорогая. Сегодня – приказ по заводу: я назначен начальником цеха. Отпуск мой пресекли, так что я в этом году – никуда. На Юлин день попробую вырваться к вам. Но, кажется, это не воскресенье. Тогда – в ближайшее. Постарайся к этому времени быть в С. Я прекрасно понимаю, каково – без денег. Я провел в Москве пять таких месяцев. А сейчас у меня положение еще хуже. С удовольствием помог бы тебе, но… Бывают дни, я совсем не ем, т. к. невозможно одолжить – все сидят без денег. Особенно пошатнул мою финансовую сторону прошлый приезд. Пиши о себе. Как дела, как погода? Кончились ли дожди? Целую. Всегда твой. 6 сентября 1955 г.
Моя дорогая, поздноватый ответ на твое последнее письмо. Приехать на праздники не смог. Откровенно не было денег. Мне тоже хотелось, я даже чуть не попросил – у тебя, но в последний момент устыдился.
Ваши просьбы об М. удивительны – вы могли подумать о паршивой дыре, из которой бежит любой смертный. Что ему могут предложить? Руководителя группы в центральной лаборатории, разве его устроит? А впрочем, не знаю. Здесь и квартирный вопрос тяжел. Я сейчас снова в Москве. Снова учусь, буду здесь до июля.
Моя дорогая! Я тебя потерял из виду. По последним письмам никак не могу понять, где ты. Мне очень хочется – к вам. Я бы сразу приехал после первого твоего сообщения о болезни Юли, но, к сожалению, – не получается. В цехе второй месяц большой сбой. У меня уже голова раскалывается. Как будто налаживалось, и я планировал быть у вас – числа 10-го, потом – 20-го… Но пока – беспросветно. Придется перенести дорогу на начало апреля. Очень рад, что с Юлей лучше. Надеюсь скоро ее увидеть. У меня – по-старому. Существую. С удовольствием поеду с тобой на теплоходе вокруг Европы. Расшибусь, а деньги достану. Хоть – одни долги. Если сможешь что-нибудь сделать – действуй! Согласен ехать хоть 1-м классом, хоть в трюме. Ведь мы с тобой давно об этом мечтали!
Поезжай одна…
Моя дорогая! Несколько задержался с ответом, поэтому – на Москву. Все твои бандероли получил, большое спасибо за беспокойства. Очень хочу приехать к вам седьмого октября, сделаю все возможное – и пока ничто не грозит дороге. Так что встречайте. Обязательно обе. У меня мелькнула мысль – почему бы тебе не поехать из Москвы с Ярославского вокзала? Все поезда с Ярославского идут через нас и стоят здесь минут 30–40. Телеграфируй, мы могли бы немного поболтать.
Дорогая! Какая отвратительная нелепость. Мне сказали на вокзале, что поезд прибывает 29-го. В этот день я и встречал тебя, но… В последний момент догадался спросить, когда поезд вышел из Москвы, тут все и объяснилось. Страшно жалею. Целуй Юлю, привет маме. Целую…
Октябрь, 1957. Дорогая! На праздники приехать не смог, был занят, да меня и не отпустили бы. Первый мой зам в отпуске, а второй, черт бы его забрал, болен вот уже третью неделю… Кручусь один. Здорово досталось в конце прошлого месяца, еле сделали план. Вот и все мои новости. А ты не болей, запрещаю. Всегда твой.
Всеведение и предуведомление держали слагаемые улицы Розы. Распутица превращений, перепад в ничто, и накануне – бессонницы, и на подушке гнус измороси. Насланный в мои пять лет ужас – гурманство объятой рябью рептилии, изумрудной на черном поле континента. И объяли меня крокодиловы воды до ничтожной души моей… Пасмурная интуиция: в один из дней ее порционным блюдом буду – я! И что за неимущие увещания: необязательность моего присутствия – в черном поле или вообще? Что, скорее всего, при сложившемся галсе сближение с указанной плоскостью проблематично… В плоскости человеков? Рептилия надругалась над моими свободами? А если меня пошлют пророчествовать? Из иных поступлений: от содомников, спаренных с многим знанием, – варианты: некто студент, обреченный трижды бодрствовать в конюшнях ночи, там и тут преисполненных очей… Рукою, не то свистящей, не то дребезжащей, чертя молниеотвод или круг, – если округлить себя до избранничества… перегруппировать себя в круг. Не поднять глаза, чтобы размножающаяся в ожиданиях смерть… не вызывай из кружковщины – ответный взгляд и не воплощай воззрившегося. Сколько упражнения – разговаривать с надстоящим, не возвышая век: не санкционируя его… обедать – вживание в рептилию – слившись с тарелкой… идти по улице безоглядно… реконструируя – по положительным пятнам вчерашнего. Обретаясь в выцветающем и что ни день – углубляя цвет. Какой соблазн новых оттенков!
Возможно, тот, кто стоял в разломах улицы Розы, тоже не поднял глаз. Кто-то из нас не жаждал – воплотить другого? Мы перепутали живые щиты времени?
Официально сей муж истекших пространств оставлен – в поросли двух из посеянных им зубов: новые прекрасные юноши, братья… для рифмы: поросль – порознь… Два взошли после меня и найдены им достойнейшими – и наделены королевством. Но, несмотря на общую луку наших вод, повторившую прочерк в моей метрике… в требуемых письменностью свидетельствах, что в сей произвольный день – я есть, хоть и произвольно – и не столь амбициозна, чтоб сдавать бумаге все мои вымыслы – Невидимого, преобразившегося – не так своим исчезновением, как – вымыслом: вымысел приведен в исполнение… да, ни на какой праздный вопрос я не отправляла прочерк с таким полетом: грузопоток ветра… кумир, проглотивший поклонницу (африканские мотивы)… сушняк оговорок, из которых мне пришлось собирать его – и в раннем, меркантильном периоде, и в таком же позднем… словом, двое достойнейших мне неизвестны, как и – где слежалась дорога в их королевство. Так что – во-первых… И только – в первых, а не в бессловесных. Ergo: поднатужась, как Зевс с малюткой-Афиной, я смогу явить его. И уже – только себе.
Дорогая! Пишу в Москву на авось, т. к. не знаю твоего адреса. Живу возле Батуми, в Зеленом Мысу. Такой зной, что даже море не утоляет. Через неделю убегу. Отвечай мне на Ялту. Что у тебя хорошего, как практика?
Вчера замечательно ехал на «России» в Ялту. Устроился и сразу помчался на почту. Очень рад твоему письму. Я еще никогда не был в Крыму, а всегда так хотел посмотреть. На Кавказе летал в Тбилиси. В Москву также думаю лететь. Привет К-вым, целую. 16 сентября 1957 г.
Некто, осознав себя в восемнадцать лет – страстным путешественником, попал в ураганное странствие трагика: в дуновениях ветра появляется металл, рельеф обретает все более причудливые формы – включая деперсонализацию… Где-то не верят, что путешественник пройдет много, и щедро ссыпают пред ним в дол города… а те, что не доберет никогда, пускают под нож… хотя он мечтал о полдне равновесия – и не достоин ли стереть из памяти искажение пейзажа? Те же, кто напрасно ждет его в своем дому, не посетили ад…
Дорогая! Ездил в Алупку, специально пошел к дому, где ты жила.
Целыми днями шляюсь по Крыму. Изъездил все побережье. Вчера был в Бахчисарае. Здесь такая масса людей, что отсюда не вырваться. Сегодня с трудом достал билет на автобус. В Москве буду третьего, в середине дня. Что у тебя хорошего? Привет К-вым. Целую. 25 сентября 1957…
Поздравляю всех женщин с Новым годом! Желаю счастья, целую. Всегда ваш.
Итак, привеченное мной за оригинальность мое лицо – лишь подражание… Неверному гостю? Он приходит с облаками… Разносчику уличных чудес? Или день за днем я обращала к обожаемым мной горбоносым иудеянкам – к той воскресной и легкой, как благодать, и к той серебряно-пятничной, гнутой спазматическим часовым колесом, – гримасу предательства? Предавая обеих – все оставшиеся им сроки?
За еще одно умолчание: тайный культ – другого, коему – все молитвы. «Милому мальчику въ память о 21 февраля 1919 г., о светлыхъ дняхъ счастья…»
До меня у них была – другая семья. Другой студент – тот завышенный, резной красавец с тонкими усиками, в шинели длиною – до патинного томского снега: «Глухой боръ. Снђгъ. Теплая компания. Стая вороновъ и проч… Пусть тђбя не удивить, если не увидишь стаи вороновъ – пока я ждалъ тђбя, они успели улететь…» Светлейший спутник на четверть века, взявшийся провести их самой безопасной дорогой, впрочем – тоже внезапно упершейся в войну. Но какая облученная счастьем – не прогулка, греза! Чем светлее, тем короче. И как он, все более неспешный, участив воспаленные глаза, все хуже различая беду, уже слившуюся с его собственным телом… как компаньон был мудр и весел, как пел, как петляли пальцы, волшебно перепутывая уклад клавиш! И разлуки – со щепотку почтовых карточек от пера пятничной, еще не серебряной – на изнанке собранного из видов Кавказа имени «ЗИНА»: Милая, дорогая моя детка Зиночка, не огорчайся, что ты отстала от группы по арифметике. Осенью наверстаешь, а сейчас поправляйся и набирай силы, чтобы в новом учебном году быть здоровой. Главное – будь послушной. Напиши мне, милая девочка, как здоровье папы и бабушки, меня это очень беспокоит, а все открыточки я буду присылать тебе. На снимке – гостиница, а рядом влево наша санатория. Мостик через реку Боржомку. Ужасный шум от этой горной речушки, когда просыпаешься ночью, то впечатление, что на улице проливной дождь… Крепко поцелуй за меня папочку и бабушку. Дорогая Зиночка, твои письма получила, я очень довольна, что тебе обещали достать все учебники. Как вы проводите с папочкой время? Пожалуйста, ухаживай за ним, а то он, бедный, устает порядком. Купила тебе и бабушке чувяки. Крепко тебя целую. Твоя мама…
Чужая телеграмма из конечного пункта: военной Москвы… Сторонящийся времени поезд в черном парусе дыма – туда и назад… Три дня переходящий от одной к другой – кубок с пеплом.
Впрочем, это – безвкусная страница моего раннего опуса, давно назначенного к сожжению и все ускользающего серы.
Их молчание. Их смятение – передо мной, неимущей.
Да облегчит им участь – мое волонтерство: извечное предпочтение чьим-то сомнительным воплощениям – их несомненного описания. Говорил псалмопевец: сыны человеческие – одна суета.
И, надеюсь, подражание невидимому – утрачивает видимость подражания.
И когда наконец сняли простывшие печати – то же, то же… Посланные с разными вестовыми – обложные, как зубная боль, орнаменты посеянных им в долине ада зубов… Боже! Сокруши зубы их в устах их. Разбей, Господи, челюсти львов. Контузия… полость каменного леса, дальний заступ весла, обкалывающего речное стекло… Возвращение. Гром небесный и хлебные крошки вдоль синевы: растаявшие авиаторы… Чудесная и ненастоящая улыбка… Студенчество – пиры и отрады, вино головокружения, медальоны-рюмочки с юными лицами склонившихся – в каждой… Вспорхнувшие круглые блики очков, опрокинув семисвечник синиц в окне. Но на фотографиях – нет… да и я не помню его очков! Как и – всего остального… Несколько обмороченных черт пониженной видимости. Добрейший, добрейший… Вы говорите? Что-то я не заметила… как и всего остального. Да исчезнут, как вода протекающая… прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее и обгоревшее да разнесет вихрь…
И нескончаемый, заискривший перекрестки – провинциальный бульвар: пирамиды листьев… вошедшие в пирамиды в царственном прахе или пухе – тополя… трапы трав, прорастая сквозь царства и слетаясь – в высокие арочные своды… И не то беспечальность осеняет прерываемую ветром зелень, эти воздушные воронки, и сквозь сладость эфира – домино, домино, нет счастливее нас в этом зале… Или окончательная прозрачность входит в тополя, обернувшиеся к лету – верховными реками, в чьих зазубренных и прозрачных складках запеклась еще старая зелень… обернувшиеся к прохожему – разрывами солнца: слившимися с конями пунцовыми всадниками в охлестах грив. Или – перевязанные лоскутьями истлевших мундиров заградительные отряды?
И новый дом его, наконец испрошенный у кого-нибудь… у случившихся поблизости богов, у замешкавшейся под ногами земли, был цел – да крив, как огонь, и вместо крыши – чернобыльник… В дом сей вошла с ним шедшая мимо жена, и летающие вокруг хвори облепили новых, достойных королевства невинных детей его… ибо положили любить – день сегодняшний, и времени больше не будет… любить – что положили рядом, а сторожевое – уже настораживает. Но хитрец дома сего водил свой день седьмой и лето отдохновения – кружа и не поднимая глаз на испрошенное. И однажды, так говорит повествователь – я, или чья-то старинная поверенная, он решил выбрать – лучшее в осточертевшем чертоге: дорогу… и опять бросить все – и пройти по ней в прошлое, где отчаянно ждали… точнее, ждал уже один человек – тоже я. Спасая ползущую драматургию.
Тот заверенный моей нынешней собеседницей договор, по которому он с утра разбросил пред собою дорогу, – о ее убранство… Тот причудившийся мне аромат – сосна, жимолость, резеда… густая панорама почти случившегося: и, обгоняя ступенчатые улицы другой истории, – светящиеся, обостренные контуры молодости.
Здесь – лейтмотив, главная тема: но что-то произошло – и… что-то, на чем кучевой интервал, область вычитаемого, непрозрачные связи… Далее – тем же вечером, в том же доме. И все прочее – разумеется… включая шатровую полынь. Лузга речных брызг, книжные грубости: глумления собачеев и свинарей.
Подробности от новой старой самарянки. Человек равен тому, что успели заметить – повторяемость вероятного: нынче ночью смерть собрала богатый урожай.
И мне уже не разобрать – в какой день и в какой архаической местности он впервые был выхвачен из тьмы и кто наставил на него свет. Как он взялся – в долине ада и что увидел на тех плантациях… проросшее во мне – раздражением и реактивностью. Как наспех и шумно был молодым и куда отправился дальше, и в день каких времен сии пределы его стеснили. Конечно, теперь уже не важно… и не существенно, удалось ли мне справиться с тем, что он есть – как ложка и концентрическое колесо с просроченной машины времени, остальное – ночь, затворничество луны, дымы, тушевка снега… Привычнее – сочинить. Правда и – столь же привычное. Как те крадущие друг у друга вестовые.
Место исчезновения? Город на том краю ночи, где он исчез – для меня. Хотя в соседнем, на расстоянии утра, он все еще есть – инспирировав доказательный дом и вписав во все реестры новых детей, и специально для маловеров – сомнительное, или особенность пересказа: томление студенчеством, инженерством, предводительством цеха…
Но объявлен город С., старовоинский госпиталь – в трех шагах от меня! Во второй и в последний раз – или тоже не в последний? – мой герой исчезает на театре моей жизни. По крайней мере, он наконец приехал. Безусловно, всеведение дало мне вычеркнуть часть влекущих участков, но подробно проведать – сей госпиталь, улучив в нем – моего последнего дядю. И разнюхать отсек, впитавший госпитальное все, – до извержения носа. Правда, меж прибывшим сюда Невидимым и мной – опять ощущение сквозящего интервала, посвященного консервации стен. Или – успевший меж нами некто, кому дано приблизиться, но не дано – вступить.