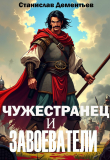Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
меланхолия. тема нераскрытого города
Как в забытьи бессвязный лепет сонный,
Как смутный рокот бури отдаленной,
В дворцах и храмах, освящавших блуд,
По переулкам, где толпился люд,
Во всем Коринфе гул стоял невнятный.
Джон Китс, «Ламия»(Пер. С. Сухарева)
– Вы могли бы поговорить со мной ни о чем? Простив мне имя, сроки, зачем я здесь и где-нибудь еще, и не надеясь, что мои пилигримы-слова аскетичны и не ходят самыми краткими затоптанными путями… что они – караван сладчайших деревьев в сердцевине сада, каждое – в нимбе солнца, или острейшие шипы на полигамной розе. И что моя речь – апология правды, скорее – апология розы и полигамии. Зато вам откроются скверночувствие, ратные прохлаждения, сны, подмороженные между собой – нисходящим взглядом сонливца, открывающего глаза лишь во утверждение невозможности – получить желаемое.
– И в вашем недобросовестном порядке никто не обнаружит, что вы видите себя не той, что есть…
– Если я вижу – следовательно, я… и так далее.
– Итак, я хотел бы еще раз – ни о чем поговорить…
– Презнаменитый художник рассказывал, как был приглашен на столпотворение, открывающее Галерею новой реалистической живописи. И кто-то поманил его к распространившемуся по всей стене полотну, звавшемуся «Сусанна и старцы». Чудо-дева размашисто выпрастывала на берег свое потаенное, собираясь еще и еще освежать его, а из заросли следили ее два старца, написанные самой мерзостью и исчахновением. И в одном старом мерзавце художник вдруг узнал – себя. А в соседствующем старом мерзавце – своего коллегу, так же известного и прогуливающегося вдоль густой реалистической живописи. Поручитесь ли вы пред авантажем стационарного реализма, что не эти двое похотливо выглядывают Сусанну?
– Так речь о признании?
– Я пока не решила, признать – что или признаться – в чем… В сквозном желании, чтоб такой-то… такая-то – не существовала, а я, кто ничтожней во всем – нашла ее место… В неприличных чувственных влечениях к допризывнику, приходящемуся мне… новые Ипполиты, что снимают с себя, как с куста, свои глупость и натиск. Или в распущенности вообще – четверть века творческой деятельности. Липкий восточный избыток разлившейся плоти.
– Вместо равнодушия к ближнему?
– Или в дьявольщине, заставляющей меня – красться за кем-нибудь по пятам, бесполезно пытаясь умилосердить всегда насущную между нами неизлечимую грань – или сломить ее… уже обладая – существованием в один и тот же с ним час, не ручаясь за следующий… уже возбудив параллельный наклон окон – к равноденствию цвета: июльский, фисташковый… вегетарианский… к желобам солнца, к смешению толченых листьев заката, и тончайшее изменение… условие: либо в тот же час, но на отвлеченных позициях, либо – в том же месте, но – не вовремя, безнадежно опоздав…
Этот город без ответа, обтекая свои бессчетные этажи, посадил нижние – в клетки, задавив их стоны и оры – напитанными эфиром дверьми, и вывел ввысь, на недоступные плавни вечера – полуобитаемые полусферы, растекающиеся в последних иллюзиях конусы, объятые звоном предупреждений, или пряничные кубы, иллюминаторы в терновых венцах цифр и смертоносных игл, продевающих сквозь ушко круг за кругом – набросанные в аврал и в крен кварталы, увозя в облака… И многоречное их перечисление перебито голодным зуммером металла, развозимым трамваями. И список их перетерт шипением красноглазых троллейбусов, где-то сорвавших – длинные бельевые хвосты с наволочками, плещущими – по фосфоресцирующим мостовым вечера. Стрельбы утонувшего в сумраке волейбола, перебрасывающего из улицы в улицу кожаную луну. Зависшие над городом мосты, маневрируя ужасом соединения – теплокровного с убывающим, гадательным… И прочий экспрессионизм, прикормив из всех щелей – стебли тоски. Ныне этот город захватывает меня своей тождественностью – моим растяжимым желаниям. Повелительной герметичностью – все жирующие на болванках его брусчатки события связуют меня и того, к кому мне столь страстно не удается приблизиться… призывом вступить – в те же улицы. Накипь черной бленды на объективах-фонарях: моментальные негативы – транспортные пробки, пожары, убийства, цены на квартиры или выборы мэра, сезонные вернисажи, ангажемент знаменитых актеров… что, впрочем, ничем не подтверждается: эти образования мгновенно погибают… захватывая меня – невозможностью консолидироваться с высшим и укорененностью в суетах.
Я катастрофически слепну от того, что пространство между нами всегда непрозрачно – если то или это элегическое сечение города раскрылось мне, значит – в улицах уже многого нет… недолет подробностей. Я парализована – невозможностью быть там, где я хочу быть, и быть – не той, кто я есть. Но меня окружает несколько особ, по чьим словам я догадываюсь, что им удалось больше.
Во мне теплится тайная истерика: в двух шагах – запутанная, острая, чувственная, стереоскопическая жизнь. Тут и там – радиация захватывающих и скользнувших мимо историй. И когда с кого-то из участников сбивается холодность – какие живые, тонкие, язвящие образы… какая теплая глубина!
Разве бредить желаемым – не сгущать непрозрачность, все более отдаляясь и затемняя мотивы?
– Однажды – абсурдное для меня, но почти правдивое сочинение – на телефонные отваги. Разумеется, мне откликнулся не тот голос – чужой, недееспособный, юный – скачущая скороговорка: сейчас нет, но очень скоро… Ремесло отчаяния и нетерпения. Исковерканные полчаса, кое-как – для следующего звонка. Тот же голос, за срок окислившийся и постаревший – апатично: пока нет. И еще полчаса, секрет составления времени утерян… Но составлена из прошлого чья-то фраза ко мне – с полусомнением, полупрезрением: – Ну, если в вас происходят такие мучительные процессы… – не помню, по какому поводу – и чья.
Опять телефон. И голос, снова юный, раздавленный ожиданием: нет, нет, нет… там тоже была полуистерика. Товарищ несчастья? Но ответчик, неузнанный отрок, посеян под тем счастливым номером, который я едва сумела набрать – чтобы утвердиться в своем поражении. И ничто не говорило, что он позволит кому-то пренебречь его замыслами.
– Возможно, я должна была начать – с той торжественной красоты моего случайного визави. С того солнцестояния! Это всегда меня захватывает, наконец избавляя от перегрузки собственного лица и призраков воли, выпустив из вещей – их сердобольный, прибыльный смысл… Мистерия разыграна – не там, где есть он, но, несомненно – где я слышу звенящий ствол дерева: подойник – под марсовы струи весны… где я вижу высокий куст – частые, как дождь, узкие серебряные стволы, обгоняющие друг друга, чтоб перехватить шатровый свод листьев… и где смотрю высокую, сухо стянутую отлетом фигуру, чей тайный остов – надземный град: готовальня шпилей… Где смотрю выбранную из тьмы рыбацкую сеть его волос, полных ячеями света или открытыми ртами зевак, эту грозовую тучу, стекающую на плечо или на крыло храма, и под радугой век – круглые, почти матовые глаза и еловые тени их на скулах… где вижу и обожаю – легкое, кипящее русло губ его, готовых так нежданно и ослепительно одарить, и запах снега и разверстого неба… И ощущение неумолимости – над-человеческого… Но ради минуты: экзальтации созерцания – кромсающий тело анфиладный огонь, пронзивший горло шип, не дающий воздуха, золотой песок в глазах… ради жадного опустошения и наполнения божественным – все…
Но сколько сопутствует вздора: недопонятые усредненные фразы, вроде всплывшей – мучительно процессуальной… какая-то отвратительная рифма: изношенный угол письма из чужого кармана – и отбитый край чашки на подоконнике, налитой – голубоватой аурой страха… Вдруг – отвлекшая моего безбрежного собеседника старуха. Ее козырь – багровая, вздувшаяся рука в перевязи на желтом шифоне, сундучный шарф. Какая-то длинная литания с приложением виноватых взоров к руке, уже зацветшей листом алоэ. До меня не долетает ни звука сквозь разыгравшийся свет. Все, несомненно, исполнено в реалистическом ключе, таинственно и широко. Но я никак не могу приблизиться, что-нибудь преломить, присвоить какую-нибудь мелочь, обрести значение. Это просто-напросто… да, образ соблазна.
Я готова уверять вас, что тоска по жизни – акт более творческий, более созидательный, чем сама жизнь.
– По крайней мере, моя – сродни тому могильнику, каковой мне недавно вменили посетить. Но – редчайшее событие, мне был ниспослан – или навязан? – спутник, обычно никого не прельщают мои кривые, кружные пути, а спутник мой был явно причастен к реальности, недоступной мне. В часы же утра разделял со мной мелкую деятельность – в упрочение чьей-то большой, следовательно, сопровождал меня – за некоторую плату … Вообразите давно прошедший институт: паразитирующие друг на друге широкие параллели, отразив по крылатым флангам – одну на всех колоннаду и даже продлив себя, хоть и фрагментами – в стеклах припаркованных рядом машин… Возможна голограмма.
Ибо мы вступили в воспаленную тишину и почти тьму, разбереженную в центре – маленькой будкой-фонарем, где подгоревшее древнее существо вбирало в шершавый сон последние антропоморфные черты. Бесцельно плывущее, оплывающее себя в тусклом луче веретено на крупном плане превратилось – в чрезвычайно спертый турникет, зауженную возможность проникновения, впрочем, никто не спрашивал пропуск – и витала доступность. Безымянное предложение – пройти, накрутив на веретено – излишки и отрыжки плоти.
За плутовской проходной громоздились залежи мраморных ступеней в медвежьих объятиях перил и разгонялись коридоры, одни – курсом в пустыни, другие – в разрухи, унося в окрыленные колоннады или в их пробелы – висящие по стенам и осыпанные штукатуркой двубортные мундиры дверей, растлившиеся буквы, петушьи сердца и разрубленные узлы ножек и рожек – обжимки бушевавшего цикла. Я и мой принужденный спутник в попытках достичь отходчивого центра – или прирастить ударный финал – множили их инкубационный период, пересекая сомлевшие объемы и не встречая ни человечьей, ни зверской души, ни превращенных. На каком-то из этажей, перед срывом коридора – в окончательную лепру, вдруг стартовал ток документального, и в угловом кабинете-футляре обнаружился – местный белый карлик: подстрочный, но начальствующий, уставясь горящими каплями – в горящий компьютер над старинным сервизом траурных телефонов. Он выслушал нас, разбросил серию длиннейших безответных звонков и на сороковой минуте ответил отказом.
– Воздух густ и глубок – до незваных и непреднамеренных, проходящих по подошве царства теней, и усиливаются от врат заката к вратам пелены, и прибывают вдесятеро, выказывая крикливую многотелость. Как вплывшая во все каналы новостей многотелая и кратконосая жена, в чьем подъезде был взорван лифт, низложивший на дно двора – сорок семейств одним заездом, хотя что чему предшествует – взрыв опущению или наоборот… Но на расспросы репортеров об этом инциденте, небольшой, правда, мощности, несчастная тупо твердит: – Мне же готовить надо, а тут – взрыв! А мне пора готовить, сейчас муж придет голодный… – и, промокая меловую слезу неотъемлемым от плеча жены кухонным полотенцем: – Прямо я не знаю, мне же готовить надо… – ненасытный муж, сколько в него ни втапливай, помногу в день снова алчет, и сколько еще у него этих дней?
– Как склонивших податливое ухо – к ее усилившимся устам, или чуть меньше?
– Словом, в этот час ей надлежит готовить, метать ножи со скоростью сто километров в час, посему неважно, предстоит ли она котлу – или отброшена, и, возможно, все равно, чью-то печень, яд – или профанацию священного действа: тюрю из слов, готовое непонимание, почему часть ее имущества именно сейчас вдруг стала для кого-то проблемой и подписана к столь взрывному удалению, и почему – в комплекте с домашностью этих марьяжников, кем-то набранных под одну с ней крышу, и кстати – почему бесшансовый муж ее до сих пор не прибыл грузиться…
– Не со всех ли кругов земли, не слыша друг друга, точнее – не ожидая очереди, аккордно – все, имеющие речь, свидетельствуют видимое сейчас и здесь – и резервное, ютящееся в иных временах и показывающее себя – избранникам? То же и в неодухотворенном предмете, кликушествующем – во всю фактуру. Или сузимся до имеющих письмо и провожающих день – в репортажи, поэмы, песни, описи. И если чьи-то страницы еще в дебюте выглядят – гулливыми и уже траченными на иные нужды, так и самое великое – заранее известно, и значит – кое-кто из имеющих письмо опередил время.
– Но сегодня и завтра случится то же, несомненно – дабы реабилитировать стоимость.
– Почему бы мне не признаться в лжесвидетельстве: в наветах от случая к случаю и ежевечерних?
Регулярная тяжба с привлечением углубленного числа фигурантов – веселая газета, где что-то преудлиняют, роняют, разбивают – лица, репутации, чьи-нибудь активные жизненные позиции, и созидательные работы, и определенные наработки… где верстают мнимые взаимосвязи и куда за песенные гонорары – или за песни – пишу и я. Или не пишу, но не возмущаю процесса и даже – усугубляю вариантами: неприязненно поправляя стиль, отстав от собственного – с повышенной мутностью и цветностью. И сострадаю оклеветанным – выщелкиванием ошибок, сознавая остаток ночи – неунывающей типографией, где вовсю печатается таблоид: десять бестрепетных полос, чтобы утро вынесло – сенсации с обнаженной натурой. По крайней мере, издание всякий вечер – ритмично обнаруживается в моих общих представлениях и прибывает вдесятеро.
Коррупция в городском правительстве, в милиции, налоговой полиции, в паспортном столе, в конференц-зале… Табличка на входе: Тихо! Идет фракционная борьба… Интервью предводителя затененной, но многопрофильной организации: я советую вам решать проблемы с помощью не автоматов, но – плодотворных дискуссий. Дача мэра – памятник казнокрадству. Снимок дачи, чтоб впоследствии выйти – загородной гостиницей, чей вид читателем в центре упущен. Завышение цен, обвес, включение счетчика… Пышные аресты торговцев наркотиками, назавтра скучающих – на прежних явках. Сообщения источника, желающего раскрыться не сейчас, – о сотрудничестве с министром на близкой ноге. Заказные убийства… заказанные в редакциях – для первой полосы всей недели. В пользу благотворителей, сделавших пожертвования на ремонт филармонического органа, дан торжествующий обед – со съедением всех их жалких пожертвований. Раскрыт заговор оппозиции, снимавшей порнографические ролики – об инициативных аппаратных работниках. Меж праздничных могил найдены убиенные младенцы, паники: нашествие сатанистов. Посетивший город министр убыл к постоянному месту воровства. Портрет предводителя затененной организации с новыми инициативами: шефство-спасение школы от пошлостей учительской дидактики, постановка детей на крыло. Ночная бабочка: мы с обществом перестали быть единым организмом – дайте мне мои двести баксов за день, и я иду в ученицы швеи-мотористки.
И оперение желтой газеты – желтоклювые, неоперившиеся. Студенты с страстью к знанию: как вы формировали свой преступный умысел? С жаждой целого: картина должна быть комплексной, приложение – недоставшие типовые детали. Не просмотревшие сетку действительных событий, еще не вкусившие величавых трагедий и со вкусом раздувающие ничтожное – до катастрофы. Зарабатывая себе на учения и создавая всем – максимум проблем…
У них не меньше имен, чем надежд, что наладили именную прогрессию сами, раскрепощая накатавшего три сочинения – в три и пять писцов. И, упустив одноликость новообразованных, захламляют город – многофигурностью правды. Но порой подбираются – в одну полководческую фамилию, переходящий кубок – нарасхват и сверкает под самым скандальным творчеством. Как-то в картинах редакции мне мелькнул – вечерний разъяренный в поисках автора, опять что-нибудь опрокинувшего или залоснившего. И желтоперые, веселящиеся бросали на пальцах, кому сегодня принять кочующее имя – и нейтрализовать искателя.
– Ничто так не заслуживает фантазии, как попрание запрета. Жизнеутверждающий сюжет – камертон проникновенности. Опустим планомерные работы и броски против общества с разбрызгиванием статей – желчи, кровей, флегмы… Или неподдержание общих традиций – во славу дублирующей системы: прогулки в верхнем уровне, неуместные возрождения, неорганичные проходы сквозь и прочий отвлекающий и обволакивающий маневр. Но добрый романтически-демонический стиль – спустить себя на растерзание, склонить к остракизму… Тогда не одну вашу голову, но целиком вас перебросят – с правого фланга на левый, где гуляют брезгливость и ужас – эти свидетели, эти зрители!.. Для меня несомненно – мое беспринципное расхождение с природой. С тех пор, как я полагаю, что одиночество – это я, и с упоением терзаю образ изгоя. Но сейчас вокруг меня репетируют свободы – ничьих надзорных глаз, как это замутняет изгойство!
– Значит, не добродетельность, но – бюрократизм общественного порицания?
– Особенно я вожделею к царским герольдам, глашатаям, вестникам! Чтецы указов, карающие языки, клеймящие эпики. Дикторы государственной школы: фразировка, огневые ударения, метания в регистрах, распевы и бушевания, динамика зудящих шипящих, обвалы гадливости! У меня не хватило бы духу вопросить этих смачников – а кто вы есть, что оглашаете не свои, но чьи-то омерзительные приговоры – этим судейским голосом, гласом Саваофовым? Как вы прониклись такой глубиной в нуждах грозной Родины? И где вы поместили себя – внутри, за строкой устрашающих анонсов, точнее – денонсаций? Или снаружи?
– А если лукавство смирения – и длиннейшее наслаждение страданием?
– Страдание любит вас во всех версиях. Но – поживиться конформизмом? Недобросовестностью – и всем продажным, и гнилостным, что есть во мне, и не увидеть мир – преображенным? Гиперболой? Я, разумеется, уже увидела. Поскольку центральную часть жизни я, естественно, обнаруживаю – в воображении.
– И кое-что от преображенного вы хотите отпустить в слово?
– Скорее, в несколько букв. По примеру поправляющихся в высоком уровне – не орлов, но мелочных и манерных ласточек, вдруг отобравших для рекреации – две широкие буквы из банковских посулов на крыше, случайно – приятные мне инициалы… Как убывающий между очередями улиц квартал, возможно – стержневой в механическом вращении города. Запруда солнца, высмоленные гранатовым кирпичные стены, набежавшая на них с маниакальностью следопыта – вестовая полынь, сигналя оловянными листьями – сестрам забвения. Избыточно жадный куст – в сохранившей себя, невзирая на истекший состав, комнате в бельэтаже: бальзамированный объем, перелесок лучей, зашторивших – стоявшие здесь оконные виды. Все где-то рядом – во времени или по скончании квартала, где что ни миг, заново начинается забывшийся город летней субботы, обескровленный исходом – в сады, на дачи, в чувственные южные земли. Вопиющий – здесь что-то происходило, чему нет продолжения – для меня, зато реальность уже не представляется такой фантастической. В станковой версии я высматриваю из кустов полыни – прекрасный, как библейская дева, город, оттого что в его гранатовые или кирпичные стены втерто – вечное лето… И, похоже, вижу его – разоблаченным.
– И то, что вы пережили в воображении…
– В моей жизни…
– Случилось в летнем городе, сохранившем в забытьи – неподдающийся стереоскопический элемент. Или в вашем случае не спрашивают о временах года? Время размыто, истекает вслепую… точнее – недооформлено.
– Скорее, недооформлен цвет. Что обусловливает стереоскопическое присутствие и даже притоптанность зимы. Отнесенные огни – для сложений буквы ночных транспортов на мерзлых пергаментах дорог, конечно зачитанных до черноты… Хотя возможна зима, расщепленная на движенья божественных харит и преследующих их граверов, повторяющих, и продолжающих и множащих грации, все более обесцвечивая. И, надеюсь, в каждой отдельной форме зима продолжается до сих пор, для меня – уже полтора года, а потом, конечно, будет подавлена, как затертое лето. Но стоит лишь посчитать разлетевшиеся детали, обманные куклы сугробов, повязанных санным следом, тут же сбившись, но при всяком счете – заново объединяя все в целое…
– Значит, в эти не подлежащие сочтению дни…
– В полночь и заполночь. Я уже третий год бодрствую там, где меньше людей и больше расчеловеченной тьмы. Возможно, затемнение порядка, этот расход сроков при пособничестве луны и провоцирует – продвинуться еще. Во всяком случае – качественно представить.
– Меня преследовал кошмар: шествующая по городу процессия злых детей. Начало брожения образов – на тех желтеющих полосах, где я снимаю доход с ошибок и где ввергнутые в веселье газетные – и всегда, и в лето новой выгородки дольнего, в этапных рельефах города – кренили под играющим мэром землю, тесня от горнила, выгоняли нечистых животных, состязаясь в ловкости – ни однажды не узря, что гуляют дух свой по отвалам и испытывают на собаках, и выдарив оскверняемому – не хлебец, но камень. Ибо наказан к побиванию – богами-покровителями, слагающимися – из шелестов, шорохов, приторного мурлыканья смыкающихся дверей – и наказывающими из рокотов, гулов и выхлопов. Мое же воображение сообщало курируемому музой полуклевет – что-то изгнанническое, электризованный неотмщенным и безнадежным профиль… что, конечно, не отлагало от меня щипанья ошибок из опусов побивания, влачения и течения за колесницей – с позднейшим несложением… Поскольку отмщенье – не мне, но… и кто есть скучнее – затравленного кем-то радикально веселым и всех необходительных чиновных?
Пилотные сообщения: полуоболганный – со школой золотого резерва, с командой золотых малюток, чтобы по утрам, на разминку, обходили подъезды и выпускали отросшие в почтах за ночь листовки, где мэр монотонно и безыскусно прогрессировал в злодеяниях. Так что ввергнутые в веселье украшали газету – ангелочками, юными и продажными потрошителями почт, каковые, прошуршав поступления от мэра, плаченные – с килограмма листка, сдавали его секреты – соперничающим сторонам и газетчикам, а всех вместе – возможно, снова мэру …
Мэр настаивал на полярности летучего слова и витальной лжи, но что за разница, говорил ли кто-нибудь правду и есть ли она вообще?
Не все ли равно, привиделась мне процессия злых детей или в самом деле шествовали по городу? Дабы не убывал, но процвел – минимум знания, чадные начатки, и переливались из улицы в улицу слякоть, чувствительность и надрывы – или меткость и бесчувствие, облаченные в бейсбольные кепки, и в футболки с клубной славой, и в прочие укороченные одежды, добегающие до длинных – бахромой и мельканием. И несли хоры вибрирующих, мечущихся между регистрами голосов, между свистом и криком, и незавершимые услады для нарастающего тела – что-то вечно жующееся, вечно курящееся, и банки и пузыри с вечно шипящим. Но удерживали пройденное или прогулянное – рваным ритмом освобождения от расходованной слюны, и фрагментами покрова, и пломбами, сорванными с вечного. Но, конечно, и максимум знания: проносившие с собой почты, не дошедшие к адресатам сообщения и не ищущие адресатов те и эти вечные известия.
И в каком-то из вариантов – или в настоящем? – обходя слабеющие реалии, шла за отроками – Почти Победительница, и вкруг петляющих во тьме и пропущенных через траур ее волос настигала коптящий круг свой шляпка с широким, собравшим тьму полем – из плюша или из старой испанской пьесы, опаленным сторонним треугольником, венчавшим бескозырки уже прошедших юниоров и сходящим – за борт раскаленного утюга. И, замешкавшись на два шага, ее преследовала зажиточностью – ее молодость и владела музыкальной инициативой. И была стройна, как ружейный ствол, и под сурдинку браконьерствовала: подсекала и глушила кумачи стыда, занемевшие прямизны и радужные оболочки, длящиеся на предметах лета, и все пред ней никло и оставалось вполглаза, превращаясь в оруженосцев. Или – не молодость, но жадный, как предгорье к высоте, ординар вопрошания и презрение к ответу.
И Почти Победительница вырывала из шествия срочное признание, в каком звене присутствует тот отрок, чудный дикарь, что иногда дарил ее дружбой, иногда навещал ее, позволяя умягчить ему нос и пустить стороннюю руку вплавь – по темени, вдоль волос его… и между делом всегда ей кого-то напоминал. И почти умоляла отроков, и почти клялась им назревшим обменом с юным сознанием – бурей слов, поскольку у Почти Победительницы этих сокровищ – на бурю больше, и в засилье, в гегемонии непременно нашлось бы, почему они не существовали друг пред другом в том поле, где являются – составной пейзажа или свойством зрения, потому что в раме моих представлений это очевидно и ясно, наконец, солнечно, и нашлась бы, конечно, столь же прозрачная очевидность – что с ними случилось, откуда немедленно истекло бы, что искомому заблудившемуся надлежит опять посетить дом Почти Победительницы, показаться для переаттестации ее любви. В конце концов, вы не знаете всей совокупности обстоятельств! Ни даже розно! И Почти Победительница почти кричала свистящему и шипящему шествию – на вы: и разве вы хоть на лобную долю искушены во взрослой жизни?
Но процессия злых детей и не думала останавливаться. Вы обрушиваете на нас почти недискуссионные вопросы, на них можно выкрикнуть только нет! Притом – выкрикнуть на ходу!.. И из многих ртов процессии выдувались зимние пузыри нескончаемо жующегося и лопались от смеха, и призвание многих рук процессии было – отгонять растрепанную Почти Победительницу, расстановка же локтей называлась – кружащаяся порука. Вы излишне произвольно обошлись с этой небесполезной дружбой! И со многих ликов процессии падали на пружинках треугольники языка, и сбегались гримаски, ну, узнайте скорее, кто из нас – он, и во много рядов блистали зубки процессии, извергая липкие пунктиры фонтанчиков и глупости. У Бога нас много, а мы хотим быть – единственным, так пусть нам заменит на земле Бога – мамочка, и пусть любит нас на земле – безгранично, ибо должно почувствовать, что такое – всеохватная любовь к тебе и что такое центр мира, искупаться – в этом золотом сиянии, в этом замкнутом на тебе блаженстве, и чтоб с нас ничего не спросилось за эту любовь, да изольется – запросто и ровно: со всех сторон, ни с одной не истончаясь… И вдруг нам предлагает скудный оглодок любви – прекраснодушная, но посторонняя тетя, у которой есть родной сынок, а она, прекрасноликая, ищет чужого, чтоб ей даром кого-то напоминал… Не сказать, чтоб вы были такой всеохватной любительницей, доброй поручительницей неба…
Разве вы способны всеохватно учесть все связи, какие существуют между людьми и нелогично нагроможденными предметами? – покрикивала Почти Победительница. Разве вы опытны, например, в предмете – сострадание? Вместо мрачной военщины… Вам тоже, похоже, ни к чему – сфера имени вашего бывшего юного друга, где ловят разбежавшееся время, и процессия злых отроков извергала из толщи своей – прерывистые фонтаны и дымы. Надеетесь выклянчить у него прощение? Как бы не так, он все равно вас не простит. При чем тут ваши поступки, разве важно – что вы не виновны в чем-то, а может – ни в чем? Просто вы ему больше не интересны.
Но Почти Победительница упорствовала – и в походе своем за Отроками Зла по долгострою города, и в дискуссиях. Мало того, что и с замурованных в камень стен, и с холмов, держанных в незаживающей деревенской глине, на меня бросаются – скучающие вещички, искусственно облетая свою неброскую фортуну, перепихивая себя через все грани, говорила Почти Победительница, а теперь еще свеженарастающие копиисты зла… Это им, это вам я предлагала на ощупь облаченного в чудные кожи, в чудную лайку идола сострадания? Мои надрывающие сердце брат и сестра регулярно делают мне, одна из центра мира, другой из средоточия природы – распертые каменные отправления. Камень забот о сестре и племяннике. Правда, все, от них скатившееся, – примыкающее, все не выплеснет за радиус тела и всегда отчего-то подточено – блузоны, зашитые на виду, а вне вида затаившие – жирное пятно, или изнемогшие от существования пальто, и перетершиеся о чьи-то шеи и колотые кадыком шарфы плюс ступившие на ребро пространства и поправленные косоручкой-сапожником сапоги, но те и эти дружно лебезят, чтобы я нашла им новое место в жизни. Я молила – не хлопотать, я не стою стольких ваших хлопот, избавьте меня от регрессирующей материи… Неблагодарную – от ваших реликвий! Но что? Вчера – новый закатанный в ящик осколок горы, я едва довлекла его от почты – до себя. Чтоб ко мне бросилась еще парочка подгулявших туфель, еще один отгоревший плащ, надорван – так ведь не на фасаде, а на спине, вы уверены, что кто-то смотрит вам вслед? Меховая шляпа, забритая в плюш – в этот, что уже коптит на мне… жакет всего с одним мазком краски, как японский пейзаж… и, наконец, широчайшее неизвестно что, версии – юбка без корсажа, мешок без дна… Я подсчитала – благодаря их заботам вокруг нас двух хороводится двенадцать пальто – жаль, ни в одном не выйдешь, как это свойственно художникам, напрямую беседовать с Богом.
И пока процессия подающих несправедливости отроков беседовала с улицами – и дерзила им дерзкой вестью, и пока среди них был тот, кто не узнан, и претерпевал все больше перемен, Почти Победительнице, возможно, оставалась перебранка с временем. И, окатив его сдавленным неприятием, она следила под чем-то методично лазоревым и сквозь что-то враскачку, разворошенное жженьем и зноем – цеховщину зонтов в большом бордо, в приветах от вечно шипящего утоляющего: кока-колы, и за кем-то, полуоблаченным в белое, скорым на подачу, играющим на нескольких столешницах сразу – ледники и соты, полные сладостным и жгучим: копошение искр, игры с солнцем, и под бликами бордо – группы молодости, вкушающей, дерзящей городу и ветру в надкрылья ушей. И Почти Победительница полагалась на шумы веселья.
Бросив процессию уменьшаться, безуспешно отставшая спросила одно утоляющее – под сенью больших бордо, на обочине вкушающих, отвернувших к себе – фрагмент пейзажа, оставив ей поле, и между делом – недослушанием ответов времени, подтасовкой – тянула злонравную независимость и препирательства не с соседями по бордо, но – с жадной стаей минут. Из сумки, чреватой дарами и приманками, вышел бывший пирог: проржавевшая яблоками половина – от назначавшейся кому-то, не отпечатленному здесь. И забывшийся в пластмассовом голубом эфесе нож – юниоры не ведали среди многого, что невинные разнашивают в пазах и складках – ножи. Все уже выкладывалось напрямую и при том звенело, ржавое съедалось, остальное предлагалось птицам. Но пока Почти Победительница жевала свой уже дисперсный от пыли полуптичий полупродукт, в ее авральной работе, в этих быстрых и мелких суетах лица ее – даже под прогрессирующей молодостью – вдруг являло себя зарядившее, как дождь, время, и страх, и абсолютное одиночество.