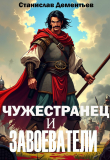Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Исчезающий рынок выбрасывал за собой последний балаган – огненный, счищающий подвохи и лукавства места, где подчеркнуто чьим-то ногтем – фабрить, химичить и околдовывать, и слизывал бренчащие пламенем инструменты флера и сокрушения, и со свистом обсасывал игральные кости – коробки, ограненные щепотками фруктово-ягодных шестерок и троек, и аналитические надрезы, надрывы и пробы, яблочные и арбузные… костные и жировые, экспертизы ДНК и прочий архив…
Огненный балаган уже терял остов и превращался в рваную стаю красноперых складок и перепонок и в миграцию птиц ночи и кружил над кавернами с забвением. Шел последний обмен стоустых забот – на прекрасную, почти голубую пряжу дыма, на парк новых спутников для Большой Мары, и с первого взгляда торовато дарили ей – едкий нос, и без разбора навешивали смеркающиеся носы – всем идущим… Над коей суетой нити улицы хозяйственно прибирали – заигравшиеся с мерными чашками и решетами парки…
– И тут мы проходим глазом сквозь пламя и выделяем бесплатный вход, – торжествующе говорила Веселая Жена. – А впритирку – стоялый контингент и печати виляющей дороги жизни… некуда ставить. Сопротивляются неправде, как я. Если это – не заброс бутылок с зажигательной смесью, то…
В самом деле, по ту сторону прозрачного балагана пламени после некоторых колебаний определялась дверь, и на перевалочном пункте – меж оборотами двери или на смотровой площадке – живое построение: уличные переминающиеся не первой сладости, но в едином цикле – с первой необходимостью: кошельками и ридикюлями, расходившимися – до рюкзака и баула, до куртины и кампанилы, в коих уступах и нишах искрили не так новинки, как рабочие посуды склонялись разъятым клювом – к сбору не звука, но, несомненно, манны. Возможны – бродячие музыканты с посудами музыки: колоколами, свирелями, окаринами, чьи оркестры на корпус отстали и вкладывались в прекрасный парк голубого цветения, но во всех глазах, в калачах музык, и на серебряных плавниках кларнетов тоже держали – дверь, правда, скорее замкнувшуюся, чем приоткрывшую – внутренний мир.
– И вступают голоса народа. Выдам им хвост и жало, какое имеют скорпионы, – говорила Большая Мара. – Хвост к посредникам между всеми и заинтересованными лицами. И ничего отверстого – кроме посуд и проблем. Параллели работают как часы, – говорила Мара. – Дом, встающий мне – на конце стрелы, и цель, сошедшаяся с дымом… Или – затворница-дверь, вздыхающая в затылок запретной комнате – о случайном соединении. Большой путь растрескался – на эпизодические кварталы, эффективность каждого неуловима… А мои и твои конфиденциальные проходы заступает – отталкивающий единый… сервирован сломанными ручками и перстнями замков. Ибо разумеющие войти в разные двери наверняка зацепят свои чаяния – в одной. Хотя собор и благовест, вероятно, ближе, чем строила я…
– Терпение, аутотренинг… И обещанное отверзнется! – смеялась Веселая Жена. – Еще не доказано, что намытые ими колокольцы звенят – по тебе или мне? Не войдем, так пустимся в плаванье по волнующему океану звуков.
Безоблачный гуляка где-то позади Мары, десять шагов тому, взывал к фартовой праздности или к кому-то идущему:
– Рассекретьтесь, прекрасная барышня, на какую мы ориентируемся звезду?
Мара отчасти сомневалась, что она прекрасна, и не оборачивалась.
– Рассекретить, растаможить… Вижу, у нас больше вопросов, чем ответов, – говорила Мара и на случай бросала через плечо: – Держим на посредников. Хотя звезды тоже отверсты…
Крайний в свите двери или муз, он же шаткий песнопевец, застоявшийся по скулы – в желтеющем спорадичном мху, глаза непроцежены, явно продрог на полосе затишья и на скрипах перелистываемой улицы и, завинчивая фальцет к штурмовой ноте, вполгубы распевался:
– Отво-ряй… потихо-оньку… калитку… – и, вскинув обомшелую голову, ожесточенно выкрикивал: – Открыть, не паскудничать! Я сказал! Дверку – нале-е-ву! – и, обнаружив, что сверкающая победа давно поменяла русло, бормотал: – Извиняюсь за выражение, б… – и вновь проваливался в свистящее молчание, но уже через миг начинал подготовку – если не к иерихонам, то к выплеску гармоний.
В тех же свитских стерегла вступление в общую песнь или дверь – старая Черноглазка в паре конфузных линз, левая – с рисовой пенкой, а правая погашена – черной бумагой. Кума сумы колокольного звона, или сова-полынь с черным бумажным глазом, чьи пальцы – пыльные птичьи крючочки – без конца цеплялись к карманам, и царапали борт, и блуждали по вислым пуговкам, заваливаясь в рваные петли. И, не ведая умолчания, плаксиво упрашивала и укатывала – то ли колышущиеся позиции, то ли тиранила души всех благотворителей и стипендиальные фонды:
– Примите, сердечные! Обратно не дотащить, силы прошли… – и, втянув в сипящие волынки своих легких – дым и ветер, канючила: – Уж смилуйтесь! Не дайте голодовать… Три улицы обрала, а кухонка пуста и пуста…
Пред тем же принципиальным пологом подпрыгивал и почти летал – самый полый старомнущийся, отбившийся от флейт, заголубевший от ветхости и наполовину вживленный в муравьиного льва – и горлопански повелевал:
– Дочка, песня моя, четыре возьмем! Внучка, напевная, пять, а? Много места не займут, как мои следы… – и воинственно зудел в насекомой тональности: – А не примем – владею хуками слева и справа! Я тебе посмотрю на Запад! – и сладко цокал, и вкрадчиво сулил: – Встречаем открытие – танцами и финтифантами…
Рядом под занавесом нянчил у сердца шампанскую штуку-фанфару – разгульный отец в нечистых концентричных кругах, поплывших от нижнего века, или – в невнятных полевых сукнах, с коих сдули погоны и прочий пафос. Сей отпавший – фанфарист или фанфарон – спесиво чеканил:
– Можете спать, не запирая двери! Потому что на рубеже нашей родины стою – я! И охраняю ваш покой! – и похлопывал своего сосунка, и подмигивал ему, и нашептывал почти колыбельное: – А торпеда – девушка капризная и не любит невнимания! Она еще вам покажет!
Дверь, перебиваемая огненным балаганом или блуждающими оттисками его полетов, не слишком шевелилась и пенилась, и отстаивала честь, или апатию, а может, изначально являла модуль – закрытая дверь… или семиглавую очередь задувало в форму Цербер… Но неизворотливый вход не размыкал ни щели, хотя развязно чревовещал из глубин:
– Уходим, уходим! Объект на консервации. Тары нет, кому говорю, не стойте! Куда я ваши канашки пристрою – к себе на грудь? – и скорбел на нежной дуге зевоты: – Заполоскали…
С дальних вех подтягивалась к событиям – проперченная ударница, поднявшая грибницу бородавок и вневременной атлас, метущийся с болотного на пасмурное, с травы на камень, как атлас мира. Проперченная низвергала к подножью осады – коробы мотоциклетного всхрапа, литавры и тамбурины, и притоптывала наблюдение – резиновой туфлей, и запахивалась то в заскорузлое предгорье, то в мятый подол океана.
– Вот спирохета, опять не открывает! – удручалась проперченная. – Подавить бандгруппу непринимающих! – и испытанной рукой сдвигала – немолчных детей муз, и кричала бунтовским голосом: – Лохотронка! Ты еще поманипулируй! А ну открывай, п… строевая!
– Наш доходный сим-сим! – смеялась Веселая Жена и не менее убедительно шла вперед. – А мы с пальмовыми ветвями! – объявляла Веселая Жена и приветствовала модуль саквояжем с наполнителем – тараном с бородкой звона – и шептала двери: – Родная, ау! Сгружаю за полцены – на пол-ящика. Может, расфлаконимся?
Большая Мара отступала и решала, наконец, оставить пространный приют веселья, украшенный – священным дружелюбием, и пряным глазом, и яблочной кожурой кудрей, пунцовый нарез, у корня аспид… Проститься – с плеядой музицирующих, забродивших в вакхической песни, и с неразорвавшимися снарядами и дымящимся выходом на посредника. Чем возбудить – многие длинные прощания и голодовки… и на скорой слезе и скользящем шаге органично влиться – в опустошение пункта Б, если по-прежнему обитель печали приписана к дороге, как и громоздкая черная машина непререкаемого сложения, – неважно, где и кем встречена…
– В начале – оцепление слов, сквозь которое не прорваться – ни к открытию, ни к мелькнувшим за ним дефектным предметам, – говорила Мара. – Veni, scripsi et non vixi. Так что я безболезненно изымаю соединение Я, и пусть слюнявит палец и листает теоретический материал… запивая приторные метафоры чем-то посолонее. Пусть верит, что не все описания гротескны и в разработке – здоровые изводы.
Мара Отступающая принимала последние молотки и погремушки и замечала в расползающейся меже, как легкие элементы трепетали и расцеплялись плющи и корни голубого, и щупальца щеколд и прочие заскоки. Солитеры замковых амбразур гасли, но в стене вдруг вспыхивал разлом, генеральный проход, и в нем – лицо могущественное, как солнце, а одежды культивировало – белые: не облако, но фартук снежный и ангельский, хотя подпавший под операции пунцового вина – или иной хирургии, а поддерживалось – ногами, жаркими, как огненные столпы. Маре Отступающей и веселым, еще на три шага понизившимся, дарили из храма – восклицание, громкое и острое, как меч и как рык льва:
– Значит, рвем мне нервы?! Не слышим, что у меня нет тары? Построили потребительские корзины, окопались и нудим?
Белофартучная фигура, из посредников, вонзала огненную ножку – в ребра подкатившего ящика и снимала его с пути и, уставив показательный перст в ближайшего обомшелого, с непроцеженными глазами, хохотала:
– Дядя, да тебя час назад уже облегчили – в обмет всей очереди, а мы, неуемный, все е…ником чмокаем? И свищем соседей, и кунаков-мудаков, и все районное корефанство-херованство?
– Повторение – мать учения! – парировал песнопевец с непроцеженными глазами. И кричал: – Не ври! Меньше, чем по трое, не собираться!
Белофартучная фигура философски произносила:
– Бездны, бездны можно найти на улице – и рубль, и судьбу, и разницу температур. Вас бросили на такое заповедное место: на улицу, где посеяна вся слава мира, о чем вам мечтать еще? Ищем, ищем! Не увиливаем, не кучимся, работаем реакцию… А если вы нашли, а у вас и не берут, значит, нашли не то, что желает вам счастья. И нечего сбагривать другим свои чаши с язвами.
На изломе сего подозрительного рассуждения Белофартучная фигура с лицом почти солнечным, из посредников, лениво впускала Веселую Жену в храм свой и вновь прикрывала стези успеха.
А Мара Большая, Отступающая, увлекшись разбегом, почти врывалась – в композицию «Таинства». В сердце ее наблюдался громадный джип с бульдожьим прикусом, поглотивший сияние ночи или подмявший передним колесом – младшую из ведущих в собор ступеней. Ночной колеснице сопутствовали четверо: пилотирующий, заявленный гангстером в скрипучей коже от кепи до штанов, компостирован блошками металла, потягивал из бутылки пиво. Скучающая красавица сиреневых локонов, подруга джипа, болтала по мобильному телефону. Третий был – священник, размахом в полторы натуры, но энтузиазмом еще величественнее. Пилотская дверь зияла, на сиденье потело ведерко с водой, несомненно святой, а священник фланировал вкруг джипа и азартно опрыскивал круп – то ли кропилом, то ли малярной кистью. На капоте расположилась масляная четвертая: русалка – из зеленых, из нудисток.
– Боже, какое богатство присвоили мои глаза, – сказала Большая Мара.
IV
ТРИ ПОЛУНОЧНИКА НА УЛИЦЕ НЕСКОНЧАЕМОЙ
Кто это замер, пораженный ненадежностью места?
Прохожий с захваченной воронами головой —
или город, чья первая и последняя река, подсушенная двойничеством,
не очень верна ему, по крайней мере – всегда бежит,
оставляя, как иные – улыбку, то ветрогоншу-волну,
надорвавшую собачьи хвосты, то сизую штопку зыби,
разбросанную по голубям, и звуковую дорожку,
прорезанную в общеуличном мелосе – старым шуршаньем шифонов,
или – поплавки узелков на зимних деревьях, хотя неизвестно,
кем завязаны: узелковым посланием, распорядителем времен года,
продавцом вуалей, листьями – не забыть возвратиться,
или рекой – вспомнить отражения вернувшихся, кто ни есть…
Город, чьи блудные лодыри-дожди полгода живут чечетками
в дальних краях, посаженных – на серебряную нить, на дробь и озон,
но как весть о себе держат в тучах рассаду:
пробивающиеся стебли света,
этот город вдруг сотрясен – настоящим грохотом водопада!
Возможно, несущий вороньи головы не узнал
театральный вход, и лестницу мрамора в глубине,
и гуляющую по предпоследней ступени маленькую франтиху
или Франтишку, Франческу, что так похоже на ликованье Весны,
упустил затекающие друг в друга новобрачные аркады берез
и длинно числил на кровлях спальные колпаки снега,
карнизы-козлобороды, для других уже промелькнувшие,
и ледяные пипетки с глазными каплями «Зима». А когда опомнился,
все пробелы его видений с готовностью вылились в гулкие воды…
Не исключено, что никто, кроме оглушенного,
не слышал этой оркестровки, содранной с артобстрела.
Или у него в котелке бились пики клювов и трещали крылья.
Nota-bene, тема реки, как и сама река, вскрывается без чужой помощи.
Как ладонь тети Шмоти,
которая суше реки объявляет у лотка с мороженым:
– Хочу что-то купить птицам… – и властно протягивает руку
к любителям эскимо, сгребшим было сдачу.
Из записей, проносящихся в чьей-то суме
Час Славы города – перекресток апреля,
над которым начинают смотр легкие лодки сумерек,
вспотевшие от синевы, и уже раскрываются книги огней,
и круг событий подобран прохладцей куриной слепоты.
Перемена солнца – как финал высокосердой любовной истории,
цвет прощания с домом, уменьшающимся вместо Алисы,
с лучшим платьем, с лопнувшими в пламени юности тарелками,
и кажется – это небо никогда больше не повторится.
Щедрость мимоидущего, кто решительно разделяет вещи —
на те, что не жаль бросить в костер,
и те, которые… и швыряет в пламя – устья улиц,
но готов поставить им отблески или горны —
на тающем в ласточках и бессонницах склоне.
Вечный образ: траурная против сходящего света башня,
в чьем аттике заточили Минуту Прекрасную.
Ее всегда молодое лицо прильнуло к стеклянной грелке,
наполненной солнцем, позднее – золой,
к грошовым арабским подвескам – бусам цифр,
или к надоевшему венку ноющих поцелуев,
хотя, пожалуй, – к неизвестным песочным буквам.
И в Час Перекрестка
стрелки – или любознательность ручных фонарей,
стеклограф, забытые зонты – несомненно,
прикасаются – к первым каплям счастливых имен.
Чтобы определить время, кто-то прохожий ищет,
в какую сторону падает башня или заношенный тубус с ее тенью,
но только и обнаруживает – куда тянутся отражения в лужах:
кажется, к наблюдателю.
Оттуда же
Время После Весны, и кто-то отчаянно спешит.
Например, быстроногая Мара – к ученику, с липкой компанией лишних людей.
К артисту бритвы и ножниц, отточенным инструментам которого еле представилась. К именинному столу, что вот-вот сложится. К диетологу. К Фонтану Юности, препоясанному контрабандной струей…
Наконец, к нисходящей славе, чей недогляд, пожалуй, мертвит, к Мусагету места – диагностировать собственный дар и прибрать эстафету… на ходу помечая, что всякий графоман – шантажист, чуть приголубь кованый уголок куплета, и волочит на Парнас искусственного насыпания – все, что накудахчет и намяучит Муза… Но речь о подлинных графоманах, а налицо – не самая подлинная Мара. И почему не разбросить во мраке листовки с будоражащим? Скормить пространству имена вновь пришедших, подкогтить на букву его хорошо законспирированные провинции? Внести созвучия… не принятые вздорщиком-мэтром, не принимающим никого, кроме своих старых приятелей – Паркинсона с Альцгеймером, и лучше было обойти пост огородами.
На двух последних дорогах при Маре – гнетущая сума, которой никто не должен заметить.
Университеты, органы – печатные и не очень, облака распродаж, добычливый привратник на узком выходе в сад, и что-то, защемленное строгим, – то ли оборки сада, то ли борение ангела… В конце концов не так важно, в каком расчете выставлены крепости, и пусть сочинитель их, представляя свою забывчивость, раскрепостил и смешал фасады… главное – путепровод, какое-то время показанный – несгораемым.
Как ветряки крыльев, перемалывающие птиц – в песчинку. И две оторвавшиеся – над улицей, в столь сыгранных траекториях, будто пернатая – одна, но в близнецах с ней летит – не узнанный снизу осколок зеркала, или обе формы – лишь отражения.
Или круглые, как сторожки стрелочников, кусты на разъездах дымов и сиреней, на разливах, принявшие на кроны и крыши – неводы красных флажков.
Как старинная лужа, подкатившая к канунам травы и спрямившая воды – в малахит.
Как долговязый разносчик вечерних лампад, тоже с предложением быстроногой шествующей – горячих листовок по всему столбовому телу… в его бессловесном случае на месте сплоченных в рифму строк – сбежавшиеся в поцелуй губки, под которыми – вереницы телефонных числ.
Или жиличка мира, заступившая тонкой черной ногой – черту времени, насельница казенного капота, вправленного – в опушку-капут, в просоленный номер лазарета, откуда бежала – без бровей и ресниц, но с блестящими на семь окоемов глазками и пожарной щекой и, крадясь вдоль караула природы и пробрасывая ногу в почти футбольной гетре – далеко вперед, слышит пяткой волнение моря Галилейского, и с заступницей цацкаются не обманутые ею караульщики, что стряслись рядом, отпрыски Флоры, – и протягивают ей стойкие лапы, прошелушенные в боярышни, и серые, короедские, шелестящие многопалостью, и подсунут броню трансформаторной будки.
Отметим, что полусолнце с клубной стены играет в одно окно и с каждым шагом быстроногой Мары заходит в половину луны, позволяя усматривать влияние М. на ход светил… Но хоть Мара и движется из светильников После Весны (А) – навстречу тьме (Б), послевесенные декорации ночи не торопятся смешаться – да и непрозрачных глотателей улиц все меньше.
Стружки огня в вертикалях ночного веселья морочат и ввинчивают в клуб – узкую лестницу без площадных выдохов, столь укачивающую, что полнит быстроногих – немедленным плеском сожалений. Однако Мара перегружала с плеча на плечо свою почтальонскую сумку, растянувшуюся на ремне – за бедро, и удлиняла шаг.
Но опять тут как тут – кто-то неуместный, нецеремонный, и с ним – разбухшие атрибуты: дремотная скорость отчуждения и хворосты пустого движения, а также шум как расходящаяся и усиливающаяся проблема. Чье-то почти восторженное:
– Не верь глазам своим, сама быстроногая Мара! – и нестойкие ретирады: – Разумеется, если я прилепился к заблуждению, то могу провалиться…
– Имя сладостно, как разлитое миро, но привязать его не к кому. Или занято – не вашей мечтой. Так провалитесь, – рекомендовала Мара и продолжала путь, и в пути восхваляла твердость подряженной дороги, надежной в истинах и простой в уходе, и отказывала средствам ее создания – камню, песку, курсу и отпустившему их государству – в тайном любительстве пройтись колесом.
Назовем неуместного – страж дороги, и раз уже составитель скомпрометировал иерархию уличных видов, не стеснить ли и данника из ореола сада – в другие устойчивые радуги: припущенные меандром низки винных ягод, авансирующие уличный торг, и протяжные удивления, и притертые к ним рога изобилия и козлиные дудки, вписавшиеся в луку. Или лук Амура – и все натянутое чувство прекрасного, что обычно – не отпускает… Аркады берез, текучие, как циферблаты Дали. Коромысла кошачьих на гребне искр, рогатки ушей и гнутые струи усов… В акватории аптечных окон вьют девичьи грезы о дурной крови – пиявки. Наконец, традиция выставляет всем в изголовье – серебряный серп, он же – несгоняемая усмешка Талии, что ни месяц – округляющаяся до хохота… что разницы, в какие верхи и низы провисла арка? В общем, кто-то мостит улицу коллекцией поворотных моментов, а дальше – обложные хомуты и предметы последней необходимости… возможны – гимны и марши, репетиция коллективной поступи, победных кличей и спаянных восклицаний…
Так что не сводят к разовым услады уст, а стремятся к развернутости: Ма-ра, Мара, Мара… Лохматая тенденция, определяла быстроногая Мара, хотя заикаются не со ступени, завинченной в клуб – до звездных террас, а больше – из вспомогательных служб: пристройки, подсобки, каптерки. Возможно, на каждом новом витке находят себя все ближе – расчищая проход, сошвыривая генеральские папахи ведер в курчавой плесени, и ржавые чайники с проваленным шнобелем, и шинельные привидения мешков – и заступая их место, что вынуждает изъясняться на языке старых газет и гуляющих от метлы свистунов, завернутых – кадуцеями, или скипетрами, в общем, приближение речи тружеников свистка и жезла – и наследующее инструменту голоса или пункту…
– Ма-ра, Мара… – и, заплетаясь в рычащих, театрально возглашают как продолжение романа: – И наконец мы сошлись втроем! Я, быстроногая Мара – и быстротекущее блаженство нашей встречи!
– Рык хриплый, низовой, диссонирует с высоким строем спешащей мимо души, – на ходу комментировала быстроногая Мара и продолжала путь. – Не желает пьяно сойти на пьяно, но растет и ширится.
– Вечный зов, и сегодня мобилизуют семейство Мара! – говорила спешащая. – Надеюсь, польщенное откликнется. Увы, и оно – не без патологических молчунов, невидимок… вместо продажи души довольных – продажей слуха…
Но пока не исполнится переход быстроногой Мары через великий надел После Весны, собственно – поручение: сдружить тот и этот час величия, никто не сведет свершения… novi circulos meos, отпусти мои круги и тереби свои… не скатит к нулю ни круга, как, впрочем, и после. Ни культ экзальтированной речи, ни развязность, с коей на Мару надвигается и почти наседает пункт Б, пользуя – неотвратимое… Ни разбросанность После Весны – по всем отделам магистрали, воплощенным соглядатаями до автоматизма – или навощенным до белены, до цветения… отчего бы не усомниться маловерным – в кварталах, насандаленных прибоем подошв, и в отлакированных тенями стенах, гуляя по зыби отражений? По зеркалам в кабинете смеха… Ни искушение: кто жаловавший кому-то блаженство, в нашем случае – Мара, сомнет разлет свой, чтоб принять на себя влажный взор – с признательностью, что вы у нас есть… или – мы у вас… Чтобы выпустить из затемнения – троллейбусный причал просеянной сборки: вместо компактуса с покрытием и язычковых желаний, и размокающих тел – экономная скамейка без спинки, а на ней – затылком к прибывающим электроходам и аверсом к редким путникам ночи (музыкальное оформление – Фрэнк Синатра, Strangers in the night) – блаженствующего… волнующегося – меж несходством с молодым оленем и нетождественностью орлу, хотя не ближе и сановитому льву… чтобы Маре пришлось опознать – брата своего в отрицаниях или в поучительных контрапунктах, кого не искала, обходя город, ни по площадям, ни по бульварам, и совершенно не расположена приближать губы – к имени, отягченному седоком позорной скамьи, к навеянному какофонией дороги Сильвестру. Но готова, не успокоив хода, бросить сравнение:
– Как на откидном стуле на театре… отрыгнутом в проход.
Или – другое ходовое:
– Как на колеснице, запряженной козлом…
Заметим также, что антипод зверя брат Сильвестр заявлен – в неожиданно обеляющей ипостаси: в снежном кителе на золотой шпале, и один из представленных наверняка срезан вихрем или иным пластическим направлением – с неутомимой шатии, наряд или носитель неожиданности, так же неуместен… Вернее, его антропометрические показатели в целом, конечно, невысоки, однако упущена причастность к благородному – мимо быстроногой Мары, предавшейся торопливости и в стопе, и в дефиниции. Сострадание другому, проникновенность… Возможно, брат так вчувствовался в субтильного бородача, везунчика колесницы, что душевно слился с ним кое-какими подробностями – или самобичевание, самообольщение… Но если отвлечься от бездоказательных одежд, наблюдаемые действия брата – бесславны: бесславно спит. Что подтверждает, например, отсутствие характерной детали очки, как будто не отвечающей за четкость случая и утратившей влиятельность… или не входит в костюм капитана… И то ли во сне, то ли между снами брат раздраженно срывает с лица что-нибудь невидимое – и подносит к глазам и въедливо отсматривает.
– Верите ли, Мара, – кричал обращенный к имени Сильвестр и к блаженствам, выбрасываемым улицей. – Что-то назойливое подсказывает, что у меня на лице – паутина. Серебряная, несущая нас с вами – в дрожащий пленэр. Я заботливо обметаю черты, а спустя минуту – у меня вновь ощущение… Вперитесь, Мара, ужели мой лик так возлюблен старой змеей, не вычесанной от мушек?
– И? – нетерпеливо вопрошала на ходу быстроногая Мара. – Анекдот. Сейчас мама оставит большак и тоже прыгнет сметать с вас паутины и ощущения! С прихваченного не одной мухой, но целой свистопляской… Снимать плющ, обирать шпалы и шишки? Продернуть ваше дыхание в свирели? По крайней мере, ему есть чем заняться и дноуглубительные работы не успокоились, – бормотала Мара.
И тут обнаруживала над собой – неувядающее: дом, данный то в пять, то в семь этажей, а в нем – окно, поплывшее – меж ночниками умиротворенности, меж бакенами покоя, и Аполлон обнаженный – или инкуб, собравшись в дразнящие края любовников и сновидящих. И, играя рельефами, неспешно застилал ложе, и в руках его порхали кроткие флаги почти непорочной линейности… как над киркой слопавшего брегет искателя – кошмы и фланели снега, и муслиновые покровы весны, и перинки одуванчиков, а с ними – ржавые наконечники и огрызки… и что еще бросали на антресоли – нижние этажи?
– Мечта родила сына мечты. Никаких творческих находок, – констатировала Мара. – Гоняет по торсу бронзовый мускул, как поэт – золотого жука по переизданиям. Но жатва снов может не задаться, – и Мара уводила глаз к противоядию – Сильвестру, лавочнику. – Полагаю, меня не удивляет мертвая связь кричащего ни с группой – сатиры и менады, ни со слепящим и подхрустывающим одеянием, хотя среда, где немолчный мелькал до сих пор, не замахивалась на ледяной китель и даже на филин-френч… Но что за прихоть, – говорила между шагом быстроногая Мара, – высмотреть самоотверженно спешащую! Когда голуби ваших глаз, они же изъятые из линзы хлюпики – пустые слизняки, и разнять веки – что кромки тины в расхлябанную реку. Что развести мост монолитного иссечения. Да и великое После Весны выгнано – ночным полушарием!
Свистящие фистулы и призовые рога, не поспевшие за гурьбой с прискоком, уже вскипали каскадами листьев и кисточек, разрешались огненными игрушками – оплавлены конусами сияния, вставшими по бордюру и пробующими идущих – в соляном столпе, присаливая сверху – из взрывпакета ночных мотылей.
– И листья великого – в траурной желтой кайме, – добавляла на вздохе спешащая.
Далее: дорога – как фронт огня; быстроногая Мара, ее сомнения и прозрения. Время движется в глазах новообращенного к радости – короткими перебежками… или в глазах трассы, каковая поражена чудесами, за извечные – чудеса скорости, пожирает сама себя. Все смешалось в доме дороги! Преддверие пионерского парка опасно приблизилось – к обету парка троллейбусов, и врата в сад почти сошлись – с подразумеваемой аркой причала, разошедшейся – до сцены луны. Скамьи при том и этом входе играют в игры близнецов, подменяя одна другую. Составляющий дань тот привратник и брат Сильвестр вынуждены вообразить себя – одним лицом… судя по тому, как последний взыскует с Мары сначала – взоров и лоханей слуха, а не успеешь опомниться – и закажет самое святое, что у нее есть… В общем, брат Сильвестр, он же – спящий на цоколе лунного света, балансирует на меже, с коей видимы и одномоментны – и парк, и сад… успевает на две семьи и в обеих готовится рухнуть. И, раздувая богатство двойной экспозиции, следует предположить, что неуместный волнуем – не только снами о дурных дружбах, но мятным ветерком – из тех врат… возможен одной ногой – в другой тарантелле. А Мара должна вцепиться в ледяной рукав, схватиться за соломину галуна, за пучки паутин и иное активное начало – и удержать эти отрады в сне о парке, в danse macabre изобильных и сердцем, и животом.
Припоминание горстки простодушных, кто пялятся на жизнь паутинного как на фарт… кто вкладывает чувство – во все произведения, в том числе – и в работу Сильвестр, а обнаружив лакуны, пожнет землю… Кто-то минималист вдохнет слезоточивый газ, бросит тело свое на меч – или подло спихнет со скалы… и Мара не снижала шага, но мысленно сличала спящего с просветом в священной роще – и между рощами, измеряла пирамидами снеди – и пирамидами ординарными, гримасой рыбы – и гримасой гипса, и тороватой рекой, в коей обмывают и тело и наряды, и дарят ей свои облегчения, и зачерпывают волну – на чай и суп… Свистать искусственное дыхание, переливание, массаж… эротический массаж… И угощение всем, кто потянется. Правда, в одеждах Мары, перебитых спешкой, не угнездились средства немедленного снесения: телефон, рация, ни даже – грубиян-мегафон… и карта с джокером таксофонным, и сам – тоже на деликатном отстоянии, тогда как плечевой пояс Мары посвящен – Эвтерпе, то есть суме с рифмами… съедающей маневренность почти тумбочке.
Мара смотрела в поздние звезды и с досадой возвращала шатающемуся в па от дурного сна – веселейшие сцены.
Дом-левиафан, околочен излишествами стереометрии – фантазией в камне, парировав круглый блеск платформы отбытия, нимб абсолюта, опускал лунный мост, предлагал арку, в которой – в яблоке двора – неполнолетние кавалер и дама покидали родительское парадное, расплескивая вокруг – время осмеяния, и перекатывали от уст к устам взрослую тубу с игристым, и на миг замирали – пред порошенной завитками глянцев куртиной, почти галлюцинацией. Но отважный юный кавалер подавал даме сердца руку, и оба торжественно шествовали – по клумбе, как через тронный зал – меж склонивших головы и присевших в поклоне придворных. Или, встав в первую пару, возглавляли павану, куранту, балет ночи…
– Восхитительное ощущение молодости… – говорила быстроногая Мара. – С вызовом проходящей мимо, пыля соцветьями, частью блекшими перед ней, но больше – потоптанными.
Если намерены войти соблазны и затруднить мир, горе и той запертой на гнутый гвоздь плоти, сквозь которую протеснился к нам соблазн, – и лучше бы не усиливалась… Так говорила быстроногая Мара и решала продолжить путь, и возмутительную накладку: последний зов соблазненного – к ней, печать с ее именем на устах его – желала оставить в прошлом, читаем – за собой. Кто полуночник-прохожий отвлечется в свидетели? Просеян из тысяч дневных – недюжинной цельностью? Отобран жирными сочнями ужина – за тягу к себе, и горящими инкрустацией пиццами – за художнический диалог с материалом, за почтение к тяжким шлейфам провожаемых соусов! К кому обязались спуститься на связанных скатертях и простынях посланцы любви домочадцы – и обложить обожанием! Наконец, кого оттянул – мелькнувший в улице мировой бумажник, закрепленный за владельцем – халтурно до звона, до набата? Истинный же прогульщик естественно прогуляет, что Мара – та Вечная Женственность, к кому, заплетаясь в позывах, тяготеет окозлившийся белый китель. Но если довлечется к утру – до высохшего русла своего образа, хорошиста буден? И сам объявит Мару – шедшей мимо? Он отвратителен, бормотала Мара, и в положительного уже не вернется, во всяком случае – не для Мары, кто готова ответить – но не за то, что бросила шатуна – в паутинах, а за прежнюю свою слепоту…