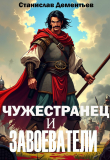Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Узрев на пути аптеку, брат Сильвестр сошел со стези, и кто скрепится – не утолить терзания и афронты, и не сомкнуть свои раны и все зудящее – ничтожной штукой и халатным глотком? Соблазнятся и великий и малый… В коих двух ипостасях сразу предшествовал входу – помраченный, защелкнув бомбу безумия – в недоросля, и поражал бурливым пальто, почти нескончаемым в складках, и в расщепах и отворотах, и солнечным козырьком без днища, с этим соперничал – его далеко зашедший двукратный подбородок… Приаптечный мерно раскачивался – пред взошедшей в витрине красоткой в обнимку с доктором Момом, тело-мом – плечистая бутыль, и на губах то и дело вскипало что-то нечленимое и негодное к заслушиванию. Лицо – блесна маятника, помечал Сильвестр, а пальто и то, что в нем, – тень на земле.
Но слабость водит возмездие: брат Сильвестр отстал от дороги, никогда не встававшей, даже если кто-то справедливо считает: дорога протянута на почве его шагистики, от раздувшей ее идеи – до двери, по которой все пройденное – дым или скромное ничто. Всякий же брат Сильвестр, чуждый данным ракурсам, упускает вечно идущую, притом навсегда, пусть даже между ним и фармацевт-девицей за кассой поместилась недолгая дерматиновая старуха, скорее – воробей, хоть каждая черта не проста, но почти дидактична, и во всех ее изнурительных фразах шелестит учительское служение, как ровный свист, распределенный над беглой водой. Старуха тщательно диктовала фармацевт-девице просьбу – не обрушивать на нее панацеи в крупном пакете «Избавление», слепленном – необходимостью ей всегда и тем паче сегодня, лучше и шестьдесят капсул – расплести и отсудить только два серебряных стручка, в каждом по десять волшебных бобов, итого… И молила об акте символическом и почти нематерьяльном: пресуществлении мелочи – в целого спасителя. Или, продолжал про себя брат Сильвестр, помахать ее сердцу лекарством – издали, вдруг излечит светлым видом своим… Ничего мы не распаковываем, не меньше достойно отражала старуху фармацевт-девица. Или берете все, или уходим от кассы… Иными словами, ухожу ни с чем? – безнадежно уточняла в диктанте старуха-воробей. А еще какими словами? – дивилась фармацевт-девица и не простаивала пред кассовыми отделами, но венчавшим перст синим лепестком разделяла щелкуны-полтинники – налево, рубли – направо, колобки-пять – прямо. А с чего бы мне ради вас портить упаковку?.. И ее глаза обращали вопрос – уже к Сильвестру. Но при многом желании она не вольна купить – все, разумеется, пока, признавалась не мама-Рома, но мама-воробей, и поучала географии и ее тропам: в трех шагах от города – пятница, практически анаграмма – пенсии, и не далее страстного света пенсии воробей торовато выкупит остаток… А у меня еще вторник, и пятницы мне отсюда не видать! – парировала фармацевт-девица. Здесь был другой провизор, верно, я попадала не в вашу смену, и старуха-воробей сообщала: здесь была миловидная женщина средних лет, чуть прихрамывала, знаменита – поощрением торговли щепотками. И подозревала, что воробьям держали одно распакованное лекарство, может быть, вы поищете его и найдете? Вы знаете, что провизор с латыни – провидец? Но на случай бездарного розыска спешила продиктовать, что посещает аптеку – регулярно, как интеллигентные люди – театр, вы тоже наверняка дождетесь – одну из ваших ревностных покупательниц, которой необходимо вкусить лекарство сегодня… Вот пусть средняя и дает, не дрогнув отвечала фармацевт-девица, а я не собираюсь ради неизвестно кого преступать инструкции.
Тем более я не соберусь поджидать вас, так почти усиливал ее речь брат Сильвестр. Тема ожидания хороша, но подана скудно. Деве же прилично ждать – поклонников, лучше – со средством передвижения… в крайнем случае – скейтбордистов, и общипывать тему любви или друзей темы, на худой конец у нас всегда желанные гости – условные единицы. То же и в пятницу – ждать не вашу пенсию, а ночную дискотеку, и субботний шейпинг, и воскресный бассейн… Но к чему увиливать в голове недели, если можно ждать телефоны с мужской лестью, зовы в ресторан и на долби-кино и другую динамику. И уже с утра близить смачную тусовку или экскурсии по волчьим бутикам – и назначать себе стрелку в окрученных кондиционерами зеркалах и в завышенном от-кутюре! А не вышагнуть в этой добыче в жизнь – сегодня, можно отложить на завтра… на зори тренировочных полетов. Хоть и не получишь ни грязи, кто мешает наслаждаться ожиданием? Вы просите обрубить вашу боль, продолжал Сильвестр. Отплести напасть? Затушевать ваше противостояние с лихом? А как это вами выстрадано?
Наконец он получил из-под острых синих лепестков – ягоды забвения, попускающие уязвленному желудку забыть, что он есть, стирающие всю подпорченную фамилию внутренних органов и упрочивающие в землепроходцах, – и возвращался к поприщу, брошенному у аптечной ступени. И успел к отливной волне: наставница воробьев, так и не снискав снадобья, ни чудесного промелька, теперь подхватила под руку качавшего крыльцо или бурливое пальто помраченного – и утягивала его от витринной подруги доктора М. И кляузное сходство вдруг соединило двуликого безумца и старуху-воробей, продавая Сильвестру, что этот плод снят – с тела ея, поздняя отрада – за служение многому знанию. Строившись в пару, большой безумец в пустом козырьке и праведница-маленькая в пустых просьбах поплелись по улице прочь.
Молодой прохожий со сгоревшей половиной лица, доложенной пером серой цапли или белой подушки, медленно спрашивал у брата Сильвестра или у собственной тени – магазин «Все для сна». Сильвестр счел вопрос – розыгрышем, но пернатый ликом брезгливо отступал от смеющегося брата и возобновлял свой тягучий, снотворный интерес, то ли ожидая к последнему слогу – другого провожатого, то ли посреди его сна все желаемое сбывалось само – и в заказанном месте.
Пирамидальные тополя Старой Победы, еще разоблаченные, демонстрировали поджарый лом длинных, взвинченных в высь ветвей, подколотых тысячей мелких, как иглы, и в густом голубом воздухе превращались на контражуре – почти в кипарисы.
На раскормленном теле троллейбуса от кормы к носу проходила серебряная надпись: «Правильный выбор».
Был в близости от Сильвестра и некий идущий – в чем-то трехмесячной моды: в тулупе, крой – початок, фактура – кочки меха, или в шкуре немейского льва, плюс собственные меха – чернобурка под веко, на темени же дремал малахай и откладывал хвост на плечо прогреваемого… или львиная голова – пожалована первым владельцем на защитный шлем… Встречный стеклянно смотрел пред собой глухоманским оком – возможно, в чистоту снегов, откуда внезапно исчез, как кукурузник из радаров.
И опять брат Сильвестр не удержался на пути, и на сей раз тянулся – к забавам, состриженным с ветви, к щеголям отличной тропической подготовки, и уже угождал сладчайшими – сестре и кому-то, объявленному чрезвычайным… И опять отводила и обирала время старуха перед лотком. Эту седую подпушку обмишурила белая паутинка – легкомысленна и привязчива, а бреши дождливой экипировки тоже выдували из старухи подозрительный снег. Еще мах – и ее наряд вошел бы в свадебный, но посадить его – ветром или собственным недосмотром – на руины… Брат Сильвестр зажмурился, отпуская паутины лететь дальше, но опять возвращался к ужасной невесте, наверняка старейшей в роли. Старобрачная открыла лоточнице свою ладонь чуть суше детской коробки с карандашами – возможно, на провалившийся шестой, и демонстрировала секретик: два неравных жетона – белый пятирублевый и желтогубый полтинник, и за оба железных мечтала получить яблоко. Пасынки рая спускались на весы, не яблоки, но надувшиеся клещи, и уступали – битому среднему, из самых тенелюбивых, но и те и это были – недоступное старухе богатство. Голос позади Сильвестра нетерпеливо кричал: да отдайте ей, я доплачу!.. Но старуха-невеста вдруг замкнула карандашный кулак и, не оглядываясь, постыдно рванула с места действия, тоже так ничего и не обретя…
Картина «Завтрак на траве» украшала подхваченную дорогу: три тинейджера – простерты на скамейке или на последнем дыхании, и прощальные капли пива и части тел стекали на первые травы, где теснились бутыли – изрумрудным именем «Хольстен», в повторении заходящим за реальность.
Новый квартал открывали помятые столовские кастрюли: охапки гвоздик – молоко и пурпур, и утомленные собственной свежестью нарциссы и, прибившись к кастрюлям, одинокая ваза – пустышка с певчим горлом ангинной ноты, а также две банки в белых чепцах, отстаивая сентиментальное варенье в давно прошедшем лете. При столовских седлала детский стульчик полнотелая блондинка в спортивной куртке от общества «Динамо», а на веслах рук ее с чуть слышным плеском плыл сквозь сны годовалый младенец. Блондинка укачивала его и не очень кухарничала с покупателями, но влюбленно смотрела на спящее дитя, лилию долин, и натянуто улыбалась невидимым подземным толчкам и правила на спящем пловце то изобильный берет, то полы кукольного пальтишка.
С колокольни над площадью размеренно низвергался колокол, разбивая чугунным наскоком – коробку площади. Толпа прихожан, встав на длинной соборной лестнице, застыла в сполохах механических шумов и хорового молчания, и лица были обращены к одной на всех тени.
Дальше шел парк или сад…
II
Дорога – не более алиби для заблудшего. Для брата Сильвестра, кто выдвинут из пункта А в пункт Б, но отчего-то не добрался до чрезвычайного предстояния по скончании срока и сада и не узнал, чем отличилась бы его участь в доме словесных находок. Но когда любопытные начнут докучать вышеизбранному брату, почему он не смог опознать дорогу и был ли где-нибудь в минуты беседы, ему придется отчитываться – центральными нитями, сшивающими потоки слов, а также – убедительными степенями пути, крепежным крюком пейзажа, златокудрой аркой в солнечный двор или заунывной погудкой. Наконец, начислить асимметричные и запоминающиеся лица. То, что не получается округлить, досочинить изломами и торцами… как и весь путь – от первого и до последнего шага, хотя мера шаг, пожалуй, даст солипсический намек, что дорога протянута – лишь через ощущения шагающего…
В самом деле, неужели дороги построены – не на словах, что и есть – собственно камни, но из каких-то иных материалов?
Можно ли подтвердить, что дорога, очерченная кем-то прошедшим, упокоившаяся – на брусчатке его слов с тьмой-тьмущей выбоин, и вправду была? Ведь любая трасса ветрена – присягает каждому мигу и с каждым меняется, и только тяжелые конфигурации, с виду стационарные: роза ветров, линии иносказаний и гарнитуры шагов на эспланаде, обветшалые куртины и панорамный задник – война не мышей и лягушек, но звезд и облаков, только этот закольцевавшийся театр играет незыблемый вид. Ускользает не так проворно – и не так наклоняет к казни, и пока в грандиозной общей сцене обыденного подменяют мелочи, пока насаживают на глазок следующую перемену, с обстрелянной успевают сродниться – и вхолодную верят, будто все заявленное на месте… И наконец – да, высоковатый прилив, и на нем – пакетбот… Взрыв, творческий подъем по тревоге – и кто-то вдруг прозревает перед собой больше вопросов, чем ответов, и место внятно – лишь по образцам, каковые прибились к истокам предприятия – и так примелькались, что удаляются безболезненно. И сей глазастый находится черт знает где, но скорее – не там, где себя полагал.
Допустим, ординар горних рек и костров, и брошенные по серозеленым кровлям кличи банков, и выжатые в междометие инструменты бытовых вожделений, и там же – небесный куб, зажженный втертыми в грани радиостанциями, или забрызган телеканалами, и там же – вылизанные ветром тарелки: часть сервиза охотится за перелетными зрелищами, а другая – за скоростью охоты, и рассаженные по медным лозам над улицей окрыленные твари – и порознь, и в числах, и весь остов пространства – бесцеремонно повторяются. Но главное их противление – случайность, стихийность, вот что определяет: скоропортящийся первый план и размытые суетой движенцы. Холодность дороги проясняют – молочная цистерна, развязно поставив переднее колесо – на бровку, существуя наискось и заставив округу томиться под градусом, и голубое молоко, выгнавшее ручьи в воздушные ямы, оставленные головами идущих, и в самолетные оттиски. Небесная лебедь – в озере сияния над продуваемым именем «Ив Делорм». Высокие университетские окна с отблеском голубых долин. Два белых автомобиля у обочины и черный франт «БМВ», вдохнув трепет в узкие ноздри и украсив себя бело-голубыми анютиными глазками – по всем петлицам. Белотелые березы – многожильный Большой балет, и саркастичен и мелок – курчавый серебряный дух над руном старой листвы. Синий ящик бумажных почт и не менее синие – для мусора, рассрочив длину квартала. Настроение уточняют – почти синяя птица над коринфской капителью, сбрасывая завиток крыла на завиток каменного листка. Железные конвульсии транспаранта, глашатая выборов, и картонные выхлопы флажковой зелени – в честь торжественного открытия кондитерского отдела в супермаркете… Аквариумы на фонарных столбах, где бьют плавником голубые буквы: «Народные окна». Сбор мышиных и пепельных облачений идущих. Безумная парочка на скамейке – сейчас из пира: молодой Геракл, могучий горлом и лазурным свечением из-под века, и белое облачко – его вековая бабушка. То и дело молодой сгребает старую под крыло и кричит: – А что, блондинка, споем? – и оба языка берут зычную песнь: «Кру-тит-ся, вер-тится шар голубой…» – но у застарелой блондинки вдруг соскальзывает с ритма чреда зубов, и песнь падает. Бабушка-облачко мастерски заправляет зубки за губу, и оба снова горланят: «Крутится, вертится на-а-ад голо-вой…» Портфельный прохожий в теснейшей норковой шапке, из-под которой натекают кувшинные щеки, покрыв амплитудой – мех, и лицо проходящего не ведает ни вмятин, ни впадин и складок, но украшено: подковки над глазом и под носом – тоже из влажной от блеска норки… Мечущиеся по улице красотки в бирюзовых колпаках сигаретной компании, заговариваясь со всех углов – тугим призывом, заходящим в мольбы. Наконец, выпученные над рекой машин циклопические голубые очки: «Только в наших очках увидишь счастье…»
Но миг – и дорога преобразилась: иные цвета и градусы, омоложение лиц и шум новейших идей, и сменились модели машин и масти собак… Зимние рябины, сбросив лист, бесстыдно увешены мешочками ледяных рубинов или простывших гранатов и заливают округу пунцовым звоном, и не ясно: где перестали рябины и начат портал ювелирных лавок. Зван трамвай – золотой от тучных, рисованных медом сот и облеплен бочонками пчел в медных обручах… Тут как тут, ведя в поводу, в веревке, старуху в колокольном пальто, – четырехстопная тварь с собачьей головой, дрожа от ужаса – оттого, что сама древнее охры, но не забыта бордовой попоной, а чтоб не ползла в чужие руки, вкруговую привязалась к твари пользованным бинтом и прибилась к спине ея – выводком синих букв: «Welcome».
Или женщина с узким трагическим лицом, почти бегущая по улице, прижимая к себе золотоволосых детей: маленького в пышной блузе и мальчика-гимназиста, и преследующие их старинная овальная ночь и не город, но дальний лес.
Возможно, спасаясь растущей антропогенной нагрузки, дорога устилает себя белизной и пухом, в котором растает всякий след, и носящимся в воздухе снежком покрывает число дальних прошедших… Надо ли поминать, что проступившая на месте сопревшей дороги – другая преходящая ведет уже не туда…
Какую-нибудь из дорог отворял зимний бражник – припущен снегом и помрачен жаждой, и карманы его тоже пересохли и смежили клювы. Он с великим трудом держал на плечах ступу времени, что бледна, как газ, и тяжела, как воз. И гулял то влево, то вправо под ношей своей или под стеклянной Стеной Яств, из которой обещались ему и пыжились дородные короба и корзины, садки и сачки – и иные прорвы с потеющим провиантом, и ловил на язык пролетавших белых пчел зимы, а время крошилось и становилось все больше и мельче… Внутри бражника, накренив кудлатый край его запазухи, скучал сухолюбивый кот мастью – исход зимы, и голубые глаза кота были пустынны и безмятежны, а когти строго держались за кору бражниковых одежд. Эй, симпампуля, купи котяру, а? – кричал зимний бражник одному прохожему и другому. Иду на уступки – мятый трюльник за сиамского близнеца! Отдаю дешевле кучи репьев – потому что он сросся с ночью, дальше тьмы не видит… И взывал сквозь хмель: – На черта ты потащился за курицей-жмуриком, если я отдаю живого кота? Всего три рубля! Как это, уже нет таких денег? И куда ты скачешь от счастья, попрыгун? От кота в белых сапогах?! Ну так что ж, что кошак слепой? Можешь гладить его против шерсти, пока не видит. Или захобачь ему трепака, он опять не увидит… Куда ускользаешь, ужак?! И ругался вдогонку: – Вот найди не синюю куру, а ее благоверного – красного петуха… Выпить хочется, во мне же все чувства спеклись! – взывал бражник. Ну хоть ты купи, тетка с косой!.. А не самый чистый зверь не видел, что его продают, потому и не продавался, но скучал в кудлатом палисаде бражниковой запазухи и, прижмурив глаза из аквамарина, музицировал, вытягивая саксофонное ма-ау, и отирал чумазое ухо о съеденную сухостью грудь продавца своего.
Кто-то наблюдатель прошел мимо и забрал и кота, и бражника – бесплатно и навсегда.
«Дорога в тысячу ли начинается с одного…»
И короткая дорога может быть столь длинна, что в ключах ее, уже слепых, не урна – но бурный вымысел, и дорога изливается прямо с листа – и под хорошей ногой хорошо играет… если никто не путает дорогу с лодочными мелодиями улицы, потому что это одно и то же… итого: жерло дороги – белый лист, в крайнем случае – клочья белизны: носящийся рой и, пронзая их, зимние сумерки – хрусткая, посахаренная фиалкой высь над куполом и крестом в белой крошке и в сквозных длинных окнах барабана под куполом, а далее – согласно влекущемуся чем-то неясным, но великим, постному руслу дороги – прибывает важное лицо из южных земель, и его привечает раздражительная стужа, коей, любезно известит радио, старожилы не помнят с позапрошлого века… И, согласно назначенным провинции русла настоящим событиям, дальше строятся воды и парады, и коробки бравых воинственных в проливном хаки, со съехавшей набок, к фланговому, зверской гримасой, залитой слезами, определяют надраенный сапог в лужу и дружно кропят с головы до, ног принаряженных дам… И вскипают футбольные матчи на траве, проданной – лесу вод и болоту, и подмочены открытые небу концерты и народные гуляния… А после растекаются будни, и в них полощутся солнце и зной, и требуется свести их к нулю на службе.
А далее большую дорогу, ее стылый конструктивизм и летние завихрения барокко берет на себя Большая Мара и между делом небрежно сталкивает дневное кафе – в ночной клуб. Из окон его на дорогу падает пляшущий ритм, нарастает покатость в обе стороны, и смешались безвидное – и лихорадка электричества, куражась над тетушкой тьмой и над дядюшкой мраком… Водяные краски момента – и веер старых дорожных карт, из коих машут рукой засаленные путники. Скребущие днищем наземные и воздушные, и никому не должные самоходки… Аптека – распузырена чудотворным… Плюс блуждающие на ходулях меж фруктами рынок и его золотые улыбки: бивни-бананы на стойке весов, заедая шкалу… а выстави эту ерунду на край великой дороги – и расстроит пульс. В устье же собственного похода Мара назначает достойный шага венец, меняющий – весь строй дороги. Но жаждет подчеркнуть, что не всякий приступивший к решению, то есть к шествию, уверен, что оно существует – единственное, или спонтанное, или художественное… Даже если мы знаем близкую, то есть примерную дорогу и уверены в собственной воле. Или в гарантии неприкосновенности. Или в отмене естественных преград…
О, сколько раз у меня бывали планы: упрятать белизну трех страниц – в комбинации слов, классически выставив на вид. Затем сместиться к общественным проектам, и к назначенной встрече, и к сеансу последнего дня… чему незатейливому так легко воплотиться, как машине – войти в ствол и в стену. И, случившись с утра в нужном месте, хотя с размаху сдвинув время, я отдавалась победным этапам. Но Старшая Подруга уже задумчиво стояла в дверях, продолжая с ночи дивиться: зачем в ее гардеробе скучает дивный блузон, голубой зуек, если можно пустить узника – в мои объятия?!.. Ко мне настойчиво притирался пакет с пыльным ватным плечом – и примкнувшие плач и стон: оказывается, СП до первой зари катала статью, обязанную сегодня же провалиться сквозь почтовый ящик-компьютер – в Москву, но творящая так спешила, что домашний компьютер включить не успела – труд связан из теплых ручных букв, и что спасет, если не мои быстролетающие персты численностью – не меньше десятка? В таком раскладе не сочувствуют чмоканьем и чваканьем, но облачаются в голубое – и забывают себя. Опус, конечно, многостраничен, плюс нечленимые приписки – на полях, и отсылки на оборот, и вклейки, требующие себя отогнуть… и планы «Утро» – сокрушены. Быстролетающие разгребают кучу клавишей на запредельной надежде – на пропускающем максимуме. Но телефон: междугородний, de profundis, а счастье соединения с этой глубинкой дважды не ходит. И молящим о том, кто сейчас был здесь – но уже кружит, славный ответ – бежать по следу, а разочтя весь этаж, припасть к наушнику и кротко записывать – стозевное, облое, лающее… еще страницу к срочной статье. Но пока милостивы – планы «Вечер»! И глушит радостью типография: кропотливый том, сын полка и отдела, хрустящий, рассыпчатый, испечен – и ждет нежных рук авторов! И нежные, и вьючные рядовые – кто близок, спускаются к Гутенбергу и поносят на себе весь тираж. Плюс еще шестьсот сорок покушений – мимо геройского команданте Ф. и вмазавшихся в меня…
Помню, помню, в детстве, где все дороги трижды длиннее, едва собьешь старших – на воскресное приключение, на центр – города или приключений, тут как тут престарелая Ванда Рачковская в ушанке из заступившей зайца веснушчатой кожи, связка шапочных шнурков и морщин на подбородке, и в неохватном зимнем пальто с шантрапой разных пуговиц, бывшем беж, далее буром, заяц на плечах столь же безволос, и в серьезной котомке, скромничающей – за спиной. Одноклассница бабушки – гимназия памяти Белостока, если Польша – правда, или правда – что выпускницы, столько лет поспешая друг от друга по разным дорогам, в самой дальней их точке сошлись. И, не раздеваясь, но шелестя одышкой, гостья сразу вступает в кухню – утвердиться у главного стола. Это пришествие – не запростецкий нос соседки, но вытягивается из пригорода, и всегда – без анонса, но по зову совести, и из уважения к длиннопятым походам… А что за беседами с Вандой Рачковской подойдут магазинные перерывы, усадка народных одежд, проданные билеты, эпидемия чумы и чумологов и так далее, никак не ее проблемы.
В золотом веке Ванда Рачковская стояла замужем за профессором, сборщиком известных даров от таких же наук, и жила сверкающей жизнью, которая и в огне пламенеет, и с волны не скользит, но профессор вдруг сгинул и забыл ссудить драгоценной Вафочке – милых деток, или моральные обязательства, или могилу, славу и деньги… Так что дальше Ванда Рачковская жила маловыразительно, и когда она думала обновить наряды, освежала заплаты. Тут уже носок ботинки – до тех блеклых кухонь, где нечем кормить сестрицу-наперсницу Кур-Кури, черноперую кошачью голубку, в фамильярном подходе – Куряшку, несмотря на возраст – полвека, или семьдесят, как и Ванде, или сто. Но когда у Кур-Кури сужались хорошие обеды – хотя подозревали, что в этом вопросе обе старушки не беспорочны, и только ли в нем? – Ванда Рачковская считала долгом отправляться в город на промыслы, то есть делать визиты и из всех знакомых изымать остатки обедов и мини-трапез – для заморенной властями Куряшки, она же – пухлобрюшечка, шелковая нить, и перевести из хозяйских кастрюль в свой желтый бидон, и в свой китайский термос, и в банки, прописанные в ее котомке, и не смущалась, пуская одно меню – в другое, если в бидоне и термосе еще теплилось место. Воцарившись не в гостиных, но в кухне, где обозрение выше, Ванда Рачковская стягивала с затылка лысеющий треух, бросив остывать на загорбке, стряхивала пыльные сельские рукавицы и, оставшись в грязных митенках, расстегивала бывшее беж, далее бурое зимнее пальто, представив под ним – ряды рваных шалей, даривших жаркие объятия – ее некобеднишному телу, и, уже никуда не спеша, выкладывала ехидные новости и толки и все злоречия, но не забывала зорко просматривать, какие щели в пространстве заткнуты мяском, конопачены картошкой, а какие прорехи замазаны кашкой и хлебушком. А это что на окне в кастрюле? – спрашивала Ванда Рачковская меж слухом и сплетней и уже тянулась и расталкивала крышку. Вчерашние щи, вызревающие в позавчерашние. Плесень, чистая отрава! Как раз для Куряшки, чертовой прорвы, – и Ванда Рачковская возвышала кастрюлю к глазам и обводила скулящим носом и, не вставая, нащупывала ближайшую ложку, запускала в жидкие капусты и брезгливо брала на язык. Лук совсем разнюнился, говорила Ванда Рачковская. Но Куряшке может понравиться, кто ее знает, шалаву! – и, увлекшись в пробах, стремглав расхлебывала супчик. Мы с Куряшкой – одно целое, сообщенные судочки, подмигивала престарелая Ванда Рачковская, каждая форма бьется за выживание и размножение, – и выставляла опустевшую тару в раковину, но с ложкой расстаться не спешила и купала в ней блеск своих железных перстней. А там что? – и Ванда указывала погнутым пальцем с кошачьим когтем на кастрюльку помельче, задремавшую на грани плиты и небытия. Там уже подпортилось, пора выбросить… Вот еще – выбросить, кошке вся дрянь на постном масле сгодится! Неувядаемый желудок! – и старушенция запускала ложку. Comme ci, сотте са. Комм си, комм са… Тьфу, и холодно нынче, облизываясь, зябко вздыхала Ванда Рачковская, как бы поглубже нырнуть в шубу… Дорогая Вандочка, вы же и так в шубе! – говорили ей. Правда? Не заметила! – посмеивалась Ванда Рачковская. В общем, если старушенция и довозила обеды до черной голубки, голодающая наперсница, полношелковый бочок, то беднейшие: стрижено с последнего в визитах стола и в саму Ванду уже опоздало… если в дальнем пути не сзывала и это яство. А когда через несколько лет Ванда Рачковская вдруг купила себе и наперснице двухкомнатную городскую квартиру, никто особо не удивился, но продолжали спасать бессмертную кощейку Куряшку.
III
Если каждый сочиняет себе дорогу сам, данная полоса препятствий тоже отписана одной из участвующих сторон, порхавшей пером над магистралью и делавшей грубую расстановку: Большую Мару, захваченную гонкой посреди ключевого события – разъединения пункта А и пункта Б, притом – вечного… хотя мнимого, как и все вокруг – мнимое.
Пункт Б, неумолимый, иначе – каменный, вот что прозревала Мара сквозь вечернюю даль и сад, зовущий себя пионерским. Пункт Б разгрызали железнозубые ящики, проглатывали вещмешки-губошлепы и шамкающие коробки, деталям навязывали свои патлатые путы веревки, а пропущенные бойко сбрасывали величину и слитность. Неумолимый, иначе – Дом прощания, морочил разъездами, смывом не то семи мостов, не то двенадцати желаний, и положил рассыпаться на камни – и успеть в перешедших дом гостей.
Итого: Большая Мара навстречу камнепаду – с ранением души и с неотыгранным мотивом прощальных поцелуев или запретной комнаты, самой дальней в осыпающемся доме, куда до сих пор не удавалось пустить глаз. Но – время комедии: когда гости, разведя комнаты и собравшись обрушить свод их, наконец узрят – манящую запертую, ее уже смешают с остальными и вместе – с пустошью. А все тусклое и оплошное, что освящали прикрытием, останется в пришельцах – монашкой-дверью. Если в дальней глухонемой и не было ничего приличного, так лучше свидетельствовать – а не комкать коллизию по беспросветности.
Но вечерняя дорога под тяжестью главной темы – спешки – пускается колобродить. Неучтенные пешеходы выносят не обочинные картошку и огурцы, но – популярные происшествия в концертном исполнении: потери кошелька со всеми мечтами или аппетита – плюс реестры недополученного, нелегалку, особые брани за отечество или внезапно пробудившуюся в ком-то музыку…
Откуда ни возьмись – чуть очевидная в толпе проходящих (в прошлом времени – проходимцев) и в толпе дней – веселая жена от народной слободки Святая Простота, а обмороченный муж – из дружб Большой Мары, но подхвачен странностями и отнесен на простор. Что не мешает Веселой Жене быть в теплом духе – и предложить Маре слой житейских вопрошаний и хлебосольный анализ посылок и недосылок.
Или кто-то – гонец и имеет весть издалека, бесценную реляцию, то есть – миссию, или свою болезненную зависимость от дороги, жанр размыт, но хватился, что путь его горит, уцелела лишь хвостовая часть, и тот мослак вот-вот сгложет ночь, а он отвлекался и отзывался, искал общий язык с многими проявлениями жизни – и до назначенного ему не добраться, и Большая Мара – его последняя надежда.
И хотя Большая Мара ни на что предложенное не претендует, собственные ее намерения отчего-то кукожатся.
В эскизах дороги возможны меловые блоки севера, а на переходе сквозь перекресток вечер весны влетает в магнетические игры юга, распространенные зеленщиками и доброхотами с огнем, и нарастающей диагональю песка и воды, чьи капли мечены свернутой резьбой, и ночь все беднее щеколдами и защелками, и покровы ее – все короче, а слепота зорче, как все меньше на идущих – одежд… Как все ниже возможности – спастись на подножке плывущего мимо большого транспорта, низложенного – на поля возвращения.
Из длинных редакций, взятых в покровительство одной крышей, выходили и обгоняли Мару два породистых светских льва, перезрелые повесы, розны отраженными в очках тесниной стен – и мостовым туманом, и ржаной метелкой из-под вельветовой кепочки набок – и коской под скособоченной кожаной, и роящимися вкруг породы карманами в клепке, и особенно розны – цветом теннисных ракеток, пустивших из кейсов хвост. Не участвующие в формах жизни, опасных для жизни, но представленные в событии – в двери черного хода, всегда приоткрытой. Услуги: подхватим на перо. Жизнеописание, комментарий, побивание мячами. Водим – к умножению валового продукта или поголовья рогатых. Даем общественный резонанс. И, полны вечерним остранением или загодя вышедшие к утренним анекдотам, оттачивали личную фельетонную канву.
– Какие тутти-фрутти! – говорил идущий с желтохвостой ракеткой идущему с белохвостой. – В дому жена привечает усатого маляра. Дачу штурмует огород – бьет несаженой картошкой и торпедирует почти саженными кабачками. У старшей дорогой дочки открылся необаятельный фраер. У дорогой младшей – сессия. Кричит: где мне заниматься, если все затянуто вашим ремонтом?.. Жена любезно объясняет: а занимаются – целый семестр, разве я не говорила?.. И лишь меня никто не спросит, как долго я мечтал – одной рукой белить, другой – сеять, третьей – откапывать долбоёба, что матросит дорогую старшую, четвертой – отстегивать экзамены для дорогой младшей, все равно ни хрена не знает – и отводит светлую юность в темном ночном клубе.