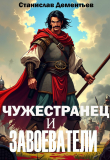Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
О некотором двоящемся. Где-то в давних уроках, поднырнув под второклассную математику, к Эрне впервые приплыло послание любви – однозвездочное, на выдохе тетрадной клетки, вернее – классическое, в три слова, без подписи, но адресанта выдало напряжение, штрихующее последнюю парту. На практике нежная дева предпочла бы – иного автора, но решила сберечь пилотное сообщение, открывающее – признания и признания, а пока не поступили, пришлось разворачивать на сон – второклассное. Чьи буквы на стольких перечтениях надломились, износились, и тогда практичная Эрна срисовала репродукцию – тот же буквенный крен, на котором старательно скомкались девять копий, и та же бедная шотландка, чтобы далее медитировать – над этой правдой жизни, и проглядывать неэкономно – небрежно… Но второе пока-единственное отчего-то ни разу не захватило Эрну магией слова…
Дева нищая, обходя унаследованное царство, застывает – пред сплюснутым до черной гордости рыцарем, водящим у ботфорта – почти пса, и оба явно уже встречались с ней и не вполне свежи, а то, как перелетные птицы, выходят веером – разносить заветы природы, и приветствовать себя – в правоверных и бомжеватых, переходящих местность, и вдувать в них самые представительные замыслы. А новая реальность требует нового обсуждения и иллюминации.
– Пространства неблагонадежны и больше блазнятся, – дева назидает тому в вороных, кто с виду моложе и краше. – Зато гордец вы и прелестная я повязаны – единодушным мгновением, как клятвой, на волшебной, скворчащей реке! На нервозной и вечно волнующейся… как бы нас повкуснее слизнуть. Но мы ненадолго спаслись, случайно вцепившись в одну на вас и меня обломщицу-жердь… Ну хорошо, нас принял челнок «Сейчас»: несомненно, украшен цветами и романтической музой прибрежной рощи – Клара и Роберт Шуманы играют в четыре ветви, и столь тесен, что вам придется принимать пищу с моей ладони… собака вылизала – и руки мыть незачем… Пусть мы любуемся разными берегами, и кто знает, как далеко вы успели… и вообще между нами – еще цепенящая прорва лодочных, только и знают простосердечно пихаться. Так выпьем за нашу удачу!
Эрна призывает из-под локтя гусиную птицу: тега, тега, Шабо, Шабо, и свинчивает с нее скальп и присматривает мелкоплодную чашу – что-то во встречных амфорах, гидриях, потирах, годятся шлем триумфатора и кровавая каска рядового баштанного, бронзовая горсть, наконец – перламутровые: раковины, знаменитый чем-нибудь череп, чернильница… увы, растранжирены в прошлых или обещаются в наступающих променадах. Но очередной багет показывается деве – и странен, кто-то в пейзаже свистнул атас – и ни той ни этой любимицы, лишь нездешний, неопределяющийся, слепой город – один на свете, сгрудившись у фонтана, с опаской нащупывая длинной тростью или выбившейся блестящей струей – мраморную чашу, а в ней – надежду, впрочем, и в чаше – лишь два валуна, на которых – брошенные посуды: кувшины, бутыли, чашки, ложки – и из всех изливается вода…
– Надеюсь, мы ничто не пронесем мимо рта… – вздыхает нежная дева и отхлебывает – напрямую из гусьей головы. – Так о вечно бегущей – и застоявшихся. В нашей власти подарить узницам кухонных и ванных гидрантов – блаженство движения, рулады, танец, развратный самотек. И увидят великий марафон звезд. По крайней мере – хоть что-то уже потечет… А то не чувствуешь, как тебя потрошат и сдувают до трудовых морщин.
Слизнув предпрощальную каплю по прозванью Шабо, ползущую горлом гусака по прозванью Шабо, Эрна громко объявляет – не обязательно для себя и голеадоров, но всем затерянным в пещерах, и на расселинах, и в ложах:
– А сейчас мы поведаем непритязательную историю о зажиточном, как пажити года, чужестранце и милаше его, малоимущей старушке Гонобобель, от которой безумцы разбегались.
Скука, сплин, мерехлюндия, отстой… Никто не врывается к предложенной повести, и томящаяся дева со стоном рушится – на брошенную под стеной подводу, воткнув под висок чье-то мягкое плюшевое тело со спиральной полосой. Бронзовая цыпа, неуемная, спускается, лавируя и виясь, с вершин, занося над лежащей блюдо, и на случай Эрна откатывается к краю… Откатывается – к прибыли! На ковре травы, на траве ковра – заветное: притаившиеся под кругом жуки – не дюжина, но десятка переговорного устройства! Потянувшись, положась на импровизацию, нежная дева подхватывает трубку.
Ах, не Эрна – та ось, вкруг которой запущены голубиные долы дома, но иные… Кто-то в глубине, в кружевнице-беседке, присмотрел телефон раньше Эрны, так что вместо зуммера полон болтовней, и растягивают стенание:
– Так выгляжу, будто на меня каждый день наскакивает стихия.
Слушающие, пожалуй, не Эрна, но имеющие голос соседской Пастушки, недомогающей, бодро спрашивают:
– Именно стихия, не путаешь? – и пережевывают сообщение, хоть явно не только его или крошечную просвирку на грешный полный желудок, скорее – завтрак туриста: священные кушанья, припасенные для чужестранца. И, заглотив, находят силы возопить: – Ну какая чушь! Успокойся – что бы у тебя ни случилось, бывает тяжелее, зато – у других! – и опять неприкрыто потрескивают щекой и шепеляво зубрят: – Подгулявший ветрище содрал черепицу, погнался за проходящей матроной – и мутузил ее прямо на ходу…
– Он говорит, капусту-картошку народил – и живи припеваючи, что еще?
Кто-то в слушающих вполголоса спохватывается:
– Тьфу, забыла картошку купить…
И вновь спешат отчикнуть – лакомый кусок чужестранца, и простывающий багровый глинтвейн его, и презренные глаголы – застукать, отнять. Наконец, прикрикивают:
– А ты не расслабляйся! Твоя задача – разбудить у него желание быть культурным. Вообще-то все дело – в вашей погоде. Осадков – за поросячий хвост! Вот приезжай – в наше лето, отмякнешь, атакуем театры…
– Ну какая культура, он же уже совершенно лысый! А ноги и смолоду буквой ха…
Здесь внезапная пауза, изумление:
– Ты смотри, все утро царит видный деятель солнце, и уже хлещет и прудит! Тебе слышно? Погоди-ка, я подойду к окну, станет громче…
– Мне кажется, там бродячий оркестр, – вмешивается в разговор Эрна. – Кошка – мандолина, собака – искусанный английский рожок, ворона на треугольнике и сорока на инструменте работы Калашникова. Судя по разводке погоды, мы балакаем с дальними селитьбами. Может, с полушарием наших антиподов – с бабушкой Австралией. А разговорчик, конечно, впишут в мой счет. Но приходится жить в предложенных условиях.
Часы Любящая Пастушка: ходики, щелкающие неунывающими зрачками, пасущими право и лево. Вместо цифр – купидоны на горшках, на курчавых семейных подоконниках, разнесшихся от зернышка до деревьев лавины, от утери до свадьбы, пропускающих в зеленокрылые – кошачьих и песьих, но Любящая не мирволит заселенным в шерсть и сторожит стадо – в казенных прохладах. Вечная бухгалтерия: юкки, растопырившиеся монстеры, фикусы и огрызающиеся – карапузы-кактусы, и сюсюкалки-фиалки в бархатных распашонках. Войдя в должность, Любящая крепит очки и обследует влажность дневных ваз, сверяя со смутными вчерашними, и велит повторить реестр поливаемых всякий день – и когда луна тоньше ухмылки лиса, но зреет в горный перевал… Проходя под арсеналами, с чьих вершин тоже реют плющеватые, не знающая высоты выбрасывает стрелу руки – и проверяет жаждущих этих на ощупь. Рука ее сплетена из приподнятых жестов: и завсегдатай эфира – голос, и красная карточка, и пучок молний… И что ж, что не изливается на цветущее крюшонами вод, зато щелкнет – и не томятся, хоть напоены – менее значимыми. И всегда пересадит с судна на судно, и средства на полдневные чай и сахар обратит в свежерасписанные шамоты и в кратеры не с серой шейкой, но с фазаньей, – мы не пьяницы, чтобы угощать Флору из захватанной бутыли! И велит расстелить на чьем-то столе бумаги – и трясет купидона, чей низ непристоен – расщеплен в нечистые корешки и отростки, и опрокидывает только что заправленную струей его кашку… Тут, задумавшись, велит снарядиться в магазин и примчать пакет с удобрением – для сносившей зеленку диффенбахии, и гостинец – для колумнеи и традесканции, ну ливень – и что? Жизнь остолбенела? И охотно перечисляет ближайшие торговли: пройдешь булочную и двадцать вторую поликлинику и повернешь на… Гонец в робкой оторопи, но кто-то спасает: между булочной и больничкой – казино и книжный… И третий спас, и еще туча магазинов! Обувь «Монарх», балтийский трикотаж, французский парфюм и боулинг, шелест – тот самый, и Любящая Пастушка пылает – сдать свою почтенность за два кулька навоза! Так что следующий указанный ею путь составят косметический салон, фитнес-клуб и театральные кассы. Посыльному же можно не спеша зачерпнуть ногой монаршью туфлю, просунуть нос в Люксембургский сад и вкатить шар досады в балясы дождя – та, чей стол не скрылся в сырой холм, давно захвачена третьим и пятым. А вообще, подберите свои тычинки, что за дичь… Мы оживотворили проем – и Пастушка у всех ассоциируется с большими цветениями. Когда умолкнет песня роз, наверно, прахом мир пойдет…
Любящая вяжет хоровод светлых дружб, компанию неугомонных. Потому просит отнести сверточек – только не шелушить! Любить, как стеклянный! – по адресу Почти-рядом-с-вами, ну так пропустите единицу сыщицкой телекатавасии, или это – изъятие из вашего тела органов на продажу? – но войдете в чудный дом и понравитесь и сроднитесь! Беда реки в том, что схватила на истоке волну и несется с истошной манией, а могла б разок отклониться… переступить хороший порог, попотчевать рыбкой… Умоляет: звякните-ка… мне, к несчастью – или к вашей радости? – недосуг, и поздравьте, пожалуйста, затравеневшую чету. А вдруг захотите шефствовать и звониться с каждым праздником? Нельзя, нельзя терять связи с людьми. Посему то и дело вызванивает приятеля со «скорой помощи», да поддержит ее колесами – на нелегком выходе из супермаркета, но подует упреком: сердечнейшее мерси за ваш четырежды круглый пустяк, разве я спрашиваю к тачанке всю бригаду?!.. И, разгрызая вяленый плавничок от соседа… или утаенного от Эрны угодника Скорого: трепещет! Умасливает мой язык, на котором неспокойно одной побочной барышне… хотя, как в этой давно умершей рыбе, соль и кости – и сверху не нажуешь.
Подлинная взволнованность жизнью, бурление… утишаемы длинной снедью, смилуйтесь – не полпластинки полборща, есть простейшие порции, что не половинятся, кроме – на свою цельность и на меня, и не делайте застенчивые глаза, а накладывайте с припуском – с фартуком! Анкор!.. Неприличнее – только опоздать на чужие торжества, безыскусная, теплая человечинка, у которой Пастушка непременно – премьерша. Но болеет, как скорей насыпать на ложечки едунам – нашумевшее, творчески небесспорное, плюс вечернее полистывание классики, и нельзя рассрочить – ведь следующие уши кому-то собеседнику не придутся, и на пике в самом деле слизнет все услады. А когда отставший гость подтянется – к опрокинутым кубкам и скорлупам, к лужам вина и масла и к увядшим жирандолям и берцовкам, уже заросшим пастушьей сумкой, Любящая встретит десерты. Будет чистить – и заскальзывающее в бархате и в шелке, персики или сливы, и на нашем лихорадочно фи загнившему Голливуду – протянется к… ах, остатки-сладки! Уж если женщина умеет выходить замуж, так пойдет и пойдет по падении мужей – без запинки – и в любых распознает нового каркуна, то есть кропотливая оперативная работа не для нее… О чем это мы? А-а-а, томик Пушкина под подушкой, пока жевала ваш чуингам, вдруг посеяла!
Но у Дня Любящей Пастушки – вкус Непреходящей Юности: хозяйка украсит стол дня сего – не ветераном с пузом медалей, шнапсом, но шпаной Чебурашек, пивом и примкнувшим веселеньким – чипсы, соленые орешки, сухарики, возвращаемся к крохам – к часам, крошащим мгновения.
Шершавые полевые встречи: Пастушка – в неожиданной для августа и для Эрны кожаной куртке, взбучена кошелями карманов, колками и кнопками, в которых колобродят металлические зигзаги, в руках – книга, и меж особенно чтимых страниц – заклад, солнечные очки или молитвенно сплетенные их тараканьи лапки, и – нежная дева Эрна, на плече – оплошавшее насекомое, не то голубянка, не то голубой трутень, под локтем – разиня-гусь со свинченной головой.
Недомогающая обеспокоена лохматой стаей звука, место регистрации не определяется – сносится и с тем и с этим истоком, обвалы, клокотанье, рык – часть выразительных средств, возможно, отслоена от судорожного здешнего воздуха, или бродит фланер, свистун – сбитый с раскаленного чайника нос, а может, гуляют, не чинясь, чьи-нибудь мясопустные пастушеские упреки…
Вопрос к Эрне:
– Зая моя, вам не кажется, что где-то льется вода?
Эрна в мечтательном настроении.
– А вдруг это вино? Пенно-багряное божоле? Вообще-то, кислятина… – и с сожалением разводит руками. – Нет, мне кажется, что не кажется.
– Но почему? – Пастушка изумлена, и представленные глухота и непробиваемость столь сквозящи, что пора непринужденно запахнуть на груди перепонные кожи зверя и зверобоя – и проскрипеть басовым рукавом… – Растут куча расфуфыренных струй, слышных даже в другом городе, а вам не кажется?!
Однако увлеченность Пастушки брыкливыми струями не менее скоротечна, что – в полноводности звуковой палитры где-то за переборками, за торцами улицы и недели, но картина, уже состоявшаяся и освоившая – худшие подозрения: пришлую деву Эрну – над извергнутым из черного дерева ящиком, где дичатся наволочки, стыдливо прикрыв розовеющее ин-кварто желтой ромашкой… ну и карамба! Ну и клумба!
– Вы что-то потеряли, зая? – кровожадно спрашивает Пастушка, изучая взором подробности – извергнутое, поруганное.
Дева-серна дарит болящую неослабным участием – и почти восторгом:
– Какая на вас выпуклая кожаная модель! А когда вы пришли, я ее совершенно не заметила! – и, высадив гусака Шабо на расцветшие в ящике ромашки, с интересом ощупывает обильную кожаную полу и подкладку, и впускает пальцы в карман с брыжами, и бесцеремонно бренчит осевшей там денежной ерундой. – Но если действительно льется, значит, не кажется! Кругом постоянно мурлычут ручьи, и длиннотелые, мускулистые реки неудержимо перетекают из постаревшего дня – в молодой. То и дело проливается страсть или мысль, шелестят фальсификации, струятся облака и воспоминания – из пустого в хрустальное. По лесопильням бежит тиховейный опил, чтобы оплодотворить землю – тайгой… – говорит Эрна. – Не хотите пролить в себя жаркую гусиную кровушку?
– Жаль, что мы что-то произносим, отчаянно информируем, проповедуем – и так редко услышаны. Никакой отдачи! – изрекает недомогающая, и высказывание можно полить горечью и назиданием и пересыпать растрепанной жестикуляцией, меж которой – отбить карман и надменно защелкнуть.
– Просто классная косуха! Хотя не вполне симметрична. Старшей дочи или младшей? Или мамы-сан? – интересуется Эрна. – Хорошо бы сюда какую-то броскую деталь… наган, шлем.
– Так, ничего не заволокичивая, я сообщила, что мне в определенном смысле не по себе, и потому я здесь, – повышает голос Пастушка. – Меня, несомненно, знобит.
– Я потеряла газету с самым важным: что сегодня дают в музеях и что – в зоопарке, привлекательном живом уголке, – смиренно поясняет Эрна.
– Не совсем то, что необходимо хранить в разобранном виде, в масле, в чехле, в сейфе, лучше на разных полках, – скептически определяет недомогающая.
– Но технически это возможно, – возражает дева-серна.
– Газета не полезет на глубину подземных руд, для нее это – политическое самоубийство! – заявляет Пастушка. – Только казначейские неожиданности или оберегаемый документ – в глупом интервале между самообманом и крушением перед завтрашней тайной.
– Знаете, что где лежит? И чего никогда не загонят в этот ящик? – радуется Эрна. И поправляется: – Я ищу телескоп или подзорную трубу. В конце концов, лучше маленький бинокль, чем большое поражение. А можно мне тоже примерить вашу кожу? У вас ведь не вирусное страдание?
Но пастухи не дорожатся отвлечением – шкурными примерками, а держат лидерство в резонных вопросах. Например:
– Когда ищешь то, чего нет, не все ли равно, где искать? Почему не на открытых поверхностях – не подпиливая засовы и не сбивая заповеди?
– Раз высокие зрелища нам недоступны, пошарим в ближайших окнах – напрасно засекреченное. А не покажется, значит, ублажимся простецкими часиками. Затем из комнаты на той стороне я высмотрю окно увлекательнее, – обещает нежная дева. – Если не дано быть – с Лучшим, и нам течет не вино, а вода, не все ли равно – в каком доме и с кем, и в чьих одеждах… Или я чего-то не вижу – тем более нужно перехватить у вас несколько глаз. И прозреть, и умилиться…
– А чем плохи часы, закрепленные за вами? – недоумевает Пастушка. – Или те, что встречаются в гостиной и в кухне?
– В сравнении с преследующим вас кипением струй – мертвечина, на них тень воронья! – говорит Эрна. – Не часы, а безглазые маски – не различают клиентов, всем показывают одно и то же! На потолках, парапетах, телефонах и зеркалах, на эфесах дверей, на компасах и кофейной гуще лежит – сейчас, сейчас, сейчас…
– Кроме книг, – вставляет Пастушка.
– В книги мы сами надышим родное сейчас.
– Почему они должны показывать вам особое время? – запальчиво любопытствует Пастушка. – Почему – вам, а не мне?
– А как вы относитесь к тайному недоброжелательству? – спрашивает Эрна. – Однажды моя подруга, которую я подозреваю в этом грешке, пригласила меня в кино. На черную комедию. И на выходе я вдруг обнаруживаю, что мои бриджи безнадежно испорчены какой-то черной краской… В другой раз у нее же случился лишний билетик на «Любовь к трем апельсинам»… А к ночи – у меня сыпь, неутешная аллергия на цитрусовые!
ИСТОРИЯ О ЗАЖИТОЧНОМ ЧУЖЕСТРАНЦЕ, МАЛОИМУЩЕЙ СТАРУШКЕ ГОНОБОБЕЛЬ И ЕЕ БЕЗУМЦАХ
Эрна – и надтреснутый вид на нижнюю улицу, угол, ножницы: идущие на закат зеленые в краснеющих отворотах – и притирающиеся красками юга, бродячий дуэт – старое, манерное дерево и старая флейтистка под деревом.
– Если мне не блазнится бушевание вод, так остро кажется, эта пастушка нас отсюда не выпустит, – роняет нежная дева-серна. – Ни из сырного дома, ни из прутьев дня.
Гуляющее окно с лопнувшим капилляром, трещиной в запекшемся солнце, приветствует на губной гармонике шпингалетов и скатов – скатившихся в бродячие музыканты: клен и старуху в панамном конусе с оловянными бубенцами локонов, над светлой половиной старухи парит сучок флейты-пикколо, и вдоль деревянной свищут цыплячьи лапки. На локте дамы – бестактная клеенчатая трапеция с ржавой защелкой. А над пиком панамного конуса – задуваемые вкривь и внакладку флейты клена, по которым скачут листы – и тоже треснули в птичьи или в чьи-то еще, и щекочут лоскутную рапсодию, а может, старуха ловит в дыхальца своего сучка и в сумку – раскачавшиеся на тесемках кисти крылаток, крылатки аккордов.
– Старая, двурогая муза улицы. Тоже наверняка на часах, – бормочет Эрна. – Подает сигналы с мест. Высота намекает наши деяния.
– Значит, строите планы о множестве персон, не существующих в чистом виде? – уточняет чужестранец. – Кстати, эта чудо-флейтистка – моя старинная знакомица с соседней тысячи верст. Ее точное отражение – в левых половинах вещей здешнего лета. Она обожает тех, кто никогда не уйдут, и играет им приветствие.
– Ах да! Кто-то в самом деле ушел. Были одни похороны, хотя не представляю, кто, с чего и когда, – спохватывается дева-серна. – В такой же златолиственной, как сейчас, сердцевине дня, на переломе. Долго ждали нашего патрона и все тянули процедуру скорби. Наконец он явился – в черном костюме и в снежном вороте. И как будто в бабочке с бриллиантом. Я еще удивлялась: он так красив на этих похоронах, как жених, и явно затмил покойника, так что зря ревновал к нему.
– Живописать на похоронах галстук-бабочку?
– Вероятно, прорвался – из какого-то любительского спектакля и не успел переодеться. Из идеального Уайльда. А может, не галстук, а настоящая бабочка присела к нему на ворот?
– А после спикировала к вам на плечико.
– Сейчас – тот же полдень, и мы его так же ждем… Значит, бабочка еще не долетела до патрона. До его отражения – рядом с вашей старушкой.
Невесомая приходящая – узловата, как ягодный куст голубика, возлюбившая горбиться в кабинете ее визитов, навсегда отобранном – в смутной редакции, возможно, попрыгунья, и нарост на спине – не из разлагающихся, гниющих событий, но снасть для соскока с ангельского крыла, и окутана той же взвинченной смутностью, и дымится не потому, что внемлющий – окуривает ее, а сама – дым.
Начинают старуху неуверенный шаг в коридоре, дребезжание и иные мелизмы протертого горла, благовещение нештатных и невременных. Предложение – рвануть к рассыпанным по укреплению дверям, войти в стены, стремительно запахнуться, наш главный союзник – сквозняк. Продолжают – сдавленные вопросы и ответы. Что случилось? Опять тащится… Особо опасная старушка Гну-Гну?.. Слава богу, она меня не видела. Пусть идет к голубым глазам единственного слушателя. Только он, с его пышным душевным теплом… Разве вы не усилили свои караулы? Не украсили дорогу к себе – двухглавыми собаками, каракуртами-птицеедами, не протянули – ров со сломанным мостом?
Что приносит старуха? Свистящий, как флейта, час. В ее доме – ни благодатного уха, ни даже сладколюбивого рта. Почему не препираться со скатертью, заплетая ей за беседой – восточные косы? Впрочем, уже украшена диадемой – подавленным блюдечком в золотом обруче. Чем чревато спорить с поставцом в кавалерском снаряжении – в полном звоне, вменять – ветреницам-шторам и девушке-кушетке?
О чем старуха шумит? Необходимо вслушиваться? Пф… Ничего о будущем? Ни представления, я пробиваюсь – на другие представления. Это не гадко? Не гаже собственных забот! К тому же не умеет сделать эффектную коду.
Есть ли в ней что-то неумолимое? В ней и во всех, кто струится, журчит, рокочет и веет, не прекращаясь, расправляя мне уши, разворачивая к себе… Сладкие щипчики для сахара? Щипцы для пыток!
Нам ее не жаль? Не больше, чем ей – нас?
Одинокий слушатель, принимавший и окуривавший старушку Гонобобель, он же – игрок по прозванию Хвастун Шестьдесят Второй, ныне под солнцем чужой гостиной говорит к Эрне.
– Ида Валерьяновна, рой голубых ягод, исполняющих желания. Ей на вид восемьдесят семь лет… поверх никому не интересных документов. Соседи зовут ее – Идочка, снисходительны к непорочным, к мишуге, но я думаю, сердце их медленно, и не видят постройки, вставшие на крыше горы, и прощают их высокие имена. Если она кого-то полюбит, то уж будет верна всю жизнь. Она и ее забористое жилище. Укромность просмолила саквояжи, баулы, зимники, летники, пыльники… ни одной агоры. Знаете бегунов за уходящими, сматывающимися, как беспричинно вцепляются в полу? Как бегут вослед ретирующейся мебели, простираясь к дверцам ее и хватаясь за откачнувшийся ящик? Который, как все коробки, папки, спичечницы, пронумерован. Берегутся в них кохиноры: пряжа переставших времен и выбывшего населения. Если она прознает, что ее любимцы болеют какой-то темой, пустится преданно собирать все, что к ней привязано. Ни дня прохлады! Вырезки газетные и журнальные, и собственноручные выписки, и что-то непременно срисовано, а противящееся оттиску Идочка затвердит наизусть… – и подхвачена дальняя реплика, перебродившая в смех: – Некто возлюбил город двенадцатого часа… ибо город, как деревянная кукла, вмещает в себя двадцать четыре несхожих города, так отныне все, что коснулось его, принадлежит не двенадцати, а… – и вверх всплывает мизинец в перстне. – Раньше она получала кипы газет и альманахов, но последний ее кошелек похудел, и приблудили крикуньи-радиостанции. Она запомнила, какие звезды и маки земных огней, какие закатные перекрестки сложились в орнамент моя родина, и отныне я постоянно принимаю все эфиры, каблограммы, граммофоны и домофоны моих пенатов. Сверхнадежный ретранслятор «Идочка». А если ей надо совлечь с потолка крепышку-корзину, поменять местами седьмую дарохранительницу с пятнадцатой, она не обратится к случайно приблизившимся – лишь к тем, кто любим. Неделю будет бороться с соблазном, потом позвонит и робко спросит: «Голубчик, не зайдете ли на чай, не поможете ли?» Так что следующие двадцать дней я горячо собираюсь, но сотни дел не столь стыдливы и бросаются наперерез. Впрочем, совесть двадцать первого дня… как город двадцать пятого часа… И наша светлость жалует – перетасовать разноперые чемоданы, перетряхнуть Идочкины божницы, перекопать ее конопляник – и прибавить тридцать-сорок добрых дел впрок, но извините, голубчик, ей больше ничего не надо! И тогда садимся за порошенный коринкой чай и за обстоятельный толк. Сначала я креплюсь, но на третьей чашке не выдерживаю и умоляю: «Ида Валерьяновна, позвольте грешить – раскурить одну трубку, а черный хохол обязуется убраться в форточку!» «Господь с вами, – Идочка плещет ручками, – к чему снадобье – в форточку, останьтесь за столом и выкуривайте, пожалуйста, из моих цветов вредоносных жучков…» Вам кажется, она зануда? Вам кажутся сумасшедшие миры, эхо третьего дня. Помните, что вы читали в трамвае, пересекающем третий день? – спрашивает у Эрны чужестранец.
– Тот случай, когда глотаешь чуть не семь страниц скуки, а лица и место действия и само действие стерлись, – говорит нежная Эрна. – Некий господин прощания собирается ехать – собирается, собирается… хотя кто-то уже распечатал ворота и даже мою мечту: исчезнуть – в миг, когда публика зазевается, отвернется – на безукоризненную секунду, и улетучиться бесследно, я – и все мое зло и добро в рундуках и коробах… Пусть останется – чистое поле для юности, и никому не возиться с хламом, ибо – ни подозрения, что миг назад здесь кто-то был и что-то происходило. Но все уставились и слишком ждут.
ЧТЕНИЕ В ТРАМВАЕ ТРЕТЬЕГО ДНЯ
Esse homo, о ком мне шепнули, что он скоро уедет. Так небрежны его планы – исчезнуть на ровном месте, не то со дня на день, не то после грозы, прохлады, календы, не все ж катить камень этого города, листать докучные заморозки и оттепели… И точные сроки вот-вот проступят.
Но пока у него остались еще пять-семь незаконченных улиц и кривляющийся за примеркой моноклей и пенсне дождь или кривляющаяся в линзах дождя рассеянная аллея, нежданный прогал посреди эстакады, он вдруг звонит молодой особе, которую наставлял когда-то в искусствах и направит еще чуть-чуть, – звонит мне и приглашает на знаменитую между народами фотобьеннале. О, с ним – это не низовой дорогой, где изумруды, чуть приблизишься, уже – простецкие кочаны мха, где при стертой до слепоты цветочнице слепились в продажный круг кукольные ведра с нищенскими букетиками: скверные астры – и так неразличны меж собой, что не выбрать… С ним – значит пройти по горной нити, и балансировать на круче, и задыхаться. Но воля другого сценариуса циничнее и сгрузила в мой день – трудовые повинности, нанизала на промельк тюрьмы из вчерашнего автобуса или на фасоль с луком и дырявую песенку. Мы прощаемся, но я трепещу и негодую: видимость все хуже, и как мне хочется – догнать верховода, и пристроиться, и поднимать глаза к его лицу… пожалуй, из лучших, в коем определении – бессмертному! Хорошо, что наше событие – бьеннале, и не замедлит отложить копию, сыграет дубль – разрезание сросшейся ленточки, подфартит те же залы и толпу двойников – и, несомненно, повторный телефон и его приглашение – слово в слово… Не позже второй белой тропы.
Тут я спохватываюсь: как принципиальны линии? Как редко звезды сбегаются в скверные астры? Ведь пригласивший – господин прощания, он не дарил мне это свое имя, зато шепнули – знающие наверняка, кто ловят дальний раскат и отмечают перебои в кольчуге набережной, горящее зловоние автомобильных покрышек, сползающие флаги… И в этом его мелеющем присутствии, в березняке верхней дороги, схлынувшем до компрессов, до пробелов, до столбцов испарения, мои обозы – сурепка, гам, правда, несовместная с жизнью. Как несовместна с правдой – коллекция его приглашений. Вспомни я вовремя, что он готов к отъезду, и можно было словчить, рискнуть, уронить вызов – или перчатки, екатерининский сервиз, новейшие обеты, тоже фатальные. Но почему в разговоре с ним все время надлежит помнить что-то – сверх?.. Чтить винтовую заповедь: не увлекись! Я-то предпочитаю – порхать и тенькать, сгущать, порицать, в общем – ронять янтарь и цедру, в чем легко преуспеваю – с другими. У меня хватает своего скарба, который должно хранить – хотя бы в памяти, а тут – чей-то…
К тому же в возможный поход подмешан страх: а если б лучший попутчик обманул меня? Я соглашаюсь отправиться с ним на фотобьеннале, назначена приподнятая ласточкина дорога, но в какой-нибудь ее трети, скажем, под литерой Т, он вдруг чувствует тяжесть, слышит сыплющийся щебень или отмечает зачернившие дерево аграфы ягод – уже застегнуто, и квартал впереди не то заострился, не то замаслился: часть гуляк смахивает на восковые фигуры… А мне – увеселять сотни глаз триумфального входа: кружить, толочь, волочиться и, смахивая с уха шумиху, то и дело вперяться соколом вдаль – и вскидываться, и приосаниваться! И, вспоминая анекдот о пижонке, притязавшей пойти на бал – с тем, кого нет… поразительная самонадеянность… никакого такта… разогреют мои прогулки в березняке колоннады – тем и этим гротескными поворотами. Напра-ву! Вокруг себя – шагом-мм …арш, как покрикивал удалой майор солдатам муштры. Что за ноги? Ногами надо играть!
Я наблюдаю, как сходят порядки желтой гаммы и в полосе гравия бродят две сороки, возглавляя пришествие кубовых, лиловых, забывчивых – с неприличной дырой белизны вместо брюшка, и внезапно складываются – в одну, но и эта – прерывиста, недописана, и, раздраженно взывая к ясновидению, чтоб узреть – полную сороку, я редактирую и подчищаю такой разговор.
– Вы как-то рассказывали мне веселый сюжет. Собственно – перечень несообразностей, которые расползутся, если некто однажды вдруг не вернется домой и в его жилище войдут чужие. Можно мне перехватить ваш перечень? Ведь вы им вряд ли воспользуетесь…
– Однако мои умышления – для слабонервных. Мелочь жанра, вместо каузальных сцеплений или захватывающей серии событий – незначительное одно. Как известно, и одно – практически непреодолимо!
Моя грабительская просьба развлекает его, будто я собираюсь продеть руки – в чьи-то сыпучие пожитки в непристойном реальном и донашивать, доедать, допивать…
Он ищет журнал, который, оказывается, тиснул статью – исключительно для меня, он перекладывает книги, надутые папки, файлы, и растревоженные завалы сплевывают к подножью черную крошку-коробочку, круглое дерево, красный всполох: дети, бегущие от грозы. Покатившаяся крышка тянет за собой богатства: бейджик какой-то французской конференции – с чужим тройным именем, из коих первое – мадам, три засохших каштана и старинный тюбик с лекарством, каких уже не бывает, какие уже ничего не лечат. Мне не нравятся его руки, в них не чувствуются хорошая ухватка и цепкость, у ладоней низкий борт, жидкое стечет, а сухое легко перехватят пробегающие. Мне не нравятся эти слезки в коробочке.