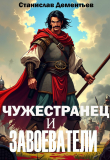Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
И прежде чем первый и второй исполнители разъехались – кто вдаль, кто ввысь, успели встать на ковровую дорожку меж бескрылыми ходоками и удальцами-всадниками, войти в рабатку, шпалеру, в сколотые радугами сальвии и петунии этого дня, и пускали дымок, и вели празднословие – под хором пернатым и высокопоставленным, но и в этом неразложимом пронеслось ноль порядочного.
Мелькали вопросы Эрны, на чьем плече, представленном поцелуям августа, взошла печать мимолетности – голубая бабочка:
– Так кто же наш подопечный дядя? Ревизор, инкогнито? Мастер кисти – на этюды?
Юноша Петр читал в глазах девы пониженное приятие реального, неучтивость с обстоятельствами, касание меланхолии и, желая перелистнуть страницу, гладил сердитую по макушке и путал пробор.
– Корреспондент центральной газеты. Собирается поучать притчами из заштатных нравов.
От ближнего магазинчика под вывеской «Каждый день – сладость» оттирали Четвертую Молодость, затрапезно идущую к прилавкам, согревая опавшую грудь – живым туеском с горячим сердцем, собакой шпиц, обсыпанной огненным мулине. Из двери пускали ванильные, коричные, карамельные ароматы и шоколадные лозунги:
– А ну-ка отнимите! Лапы! Дама, разжевываю: для собак мы не существуем!
Марафет на Четвертой Молодости нервно натягивался – и лопался в дряблый, потекший абрикос, дрожащие капли румянца и завитки сурьмы, но закаленная не сдавалась и бузила любезностью.
– Вы, судя по всему, забыли надеть очки? Это кошка! Жаль, что вы не увидите, кто разделил со мной путь. Я хочу купить сладости! – старательно проговаривала Четвертая Молодость. – Я желаю жить не кислее, чем вы! А что у моей кисули цистит, который надо задобрить сладеньким, им плевать…
Туесовая собака и ее морковный начес и косицы тоже не смели молчать – и шипели, коптили и стреляли в заслон визгливое вау.
– А то постановщик золотых снов? – спрашивала Эрна. – Славно быть постановщиком. Приходит в голову – какая-нибудь вещица, и не обременяешься поиском, просто оповести, что без нее – все посмешище, кликни мышкой, распрями пять указующих хвостиков – и работяги-помощники, на худой конец бутафоры, тут же сложат к ногам. Главное в жизни – получить то, что хочешь. Вот ее высший смысл!
– То есть на вас – кошка? – колко сверялась шоколадная дверь.
– Персидской породы, – твердо отвечала Четвертая Молодость и перестегивала на туесовой собаке объятия. – А если я не куплю ваш опасный для здоровья товар и проживу дольше, чем вы надеялись, так я запомнила ваше лицо! Для благодарственных выражений! – и изгнанница глушила собаку-пламя патетическим троекратным поцелуем. – Ну, кисонька, не взвинчивай себя, рано или поздно у кошкодавов просрочит ассортимент…
Юноша Петр продолжал между словом и дымом дело исчезновения, и оттопыривал на Эрне какой-то кармашек и заправлял туда пучок ключей.
– Будь любым создателем, только вскарабкайся на должность. А не волшебнее – быть легким пером? Брать вожделенное – не черствым предметом, но описанием. Золотым! Слово «получать» остается, – и Петр улыбался льющемуся на него беззаветному свету. – Остыньте, мамочка, вам бы всех пихнуть в артисты. А вдруг он – оппонент к диссертации дочки, а сама курирует смежные зоны и плетет узлы – там? Или запущенный сельский сродник, нет, закадычник деревенской родни, прибыл – то ли улечься в градский госпиталь на операцию, то ли – туда же, однако, на профилактику…
Мимо перекачивалась продолжительная семейка, чьи командиры уже вошли в непроглядное, пока нижайший арьергард боронил улицу танком на веревочке, ему сопутствовали двое заботников – упревший старец с игрушечным ружьем на плече, с самолетом под мышкой и с нерасклеенным мороженым – наизготовке, а также высохшая на рысях балерина – с кульком яблок и банкой клубники, старая рысь подавала нижайшему – наливное, и отвлекалась, пока катает во рту, и опять догоняла – с надкушенным, а параллельно цепляла ягодку за зеленый бант и методично проталкивала – между расщепленным яблоком.
– Вскармливают бандита и террориста и заранее подольщаются, – отметила Эрна. – Знаешь, в чем винт отношений с яблоком? Сразу покажи ему зубы и презрение к его пышной истории. Расправься с ним, пока белотелое и не прикрылось ржавчиной, и лишь тут насладись победой. Не то превратишься в железо. Но этот едок непроворен и неразборчив… Это знак – нам? – спрашивала Эрна. – Нам лучше подольститься к приехавшему?
Упругий, завинченный спешкой гражданин мечтал на бегу об автобусе, подвалившем к остановке вдали, и кричал мерцающему по краю очкарику:
– Одиннадцатый прямо идет или поворачивает?.. – и повышал голос и скорость слов: – Одиннадцатый… прямо… или налево?..
Очкарик вздрагивал и недоуменно смотрел на бегущего.
– Простите, вы что-то сказали? Мне?! – изумлялся очкарик, обходивший дебри нутра своего, бередя, напевая, разбойничая, – и вдруг насильственно выброшен на голый асфальт, высосан – шквалом улицы. И рассеянно оглядывался и задумчиво повторял: – Одиннадцатый? Ни больше ни меньше!
– Прямо или налево? – вопил бегущий, уже оглядываясь назад, и почти разрывался на неравные половины, чтоб младшая, урезанная до уха, заслушала очкового, а экспансивная крупная успела втереться в автобус.
– Одиннадцатый?.. – и очковый волынщик растерянно отирал притупившийся лоб. – Не помню… Вообще-то я никуда не езжу одиннадцатым маршрутом.
– Может, стоило сесть в одиннадцатый – и мир бы преобразился! – усмехнулась Эрна. – Ты встречал его со столичного поезда или с сельской электрички, забрызганной рогатыми ливнями и животными?
– С крыши товарняка!
Травы температурили и длинно откашливались на ветру сухим скрипом. Юноша Петр следил, как парашютировали в петунии две пчелы, и сравнивал с пикетом на кремовое пирожное, и мысленно переворачивал в славный гэг с летящим в физиономию тортом… хотя бы с десятком птифуров.
– Он мог вскочить в проходящий столичный – на неприметном полустанке. Стоянка – минута и сорок секунд у единственного перрона, обрывающегося под тамбуром второго вагона.
Нежная Эрна подтягивалась к самому уху Петра и спрашивала томным шепотом:
– Так он подобен научному работнику или деревенскому фофану?
– Зависит от твоих представлений о типажах, – смеялся юноша Петр. – От того, какие описания ты считаешь недурными.
Дева-серна досадовала.
– Если нам кого-нибудь поручают, могли бы уточнить – кого. Чтобы знать, как себя вести.
– Проверка на проницательность? – и Петр отделял от себя дымок и бросал в дальнюю урну, меняя ее на косматый увядшими стеблями баскетбольный венок. – Главное – чтобы угадать? Что ты знаешь в серьезном подходе к судьбе? Львица моего сердца ушла замуж за простого банкира, и теперь, если хочет купить диван, она твердо знает, как могучи его спина и бедра, где наколоты цветочки, а где – ее инициалы. И каждое утро обкладывается справочниками по дизайну и прайсами и прозванивает торговые точки, перечисляет желанное по всем подробностям и интересуется, нет ли – в тютельку, а если нет – когда?..
– Я все еще убеждена, что дело – диван. Хотя угадайка так себе, не будирует. Вот если бы в конце дня выяснилось, что он – сиротливый миллионер и присматривает себе хохотушку-вдову! Или вдруг – мой настоящий отец, а тот, кого я считала им до сих пор… Но завеса сброшена!
– Вижу, мамочка, для общего развития вы лопатили дамские романы с латинскими сериалами и хорошо подковались, – говорил юноша Петр. – Чтобы не провели, веди себя так, будто пред тобой – ряженный в нищего Сам. Удовольствуй, не жалей себя, стряпай ему котлетки! – и, сложив губы в ноль, выдувал прощание.
– А со всякой сковородой – как с живым существом… Главное, – поправляла Эрна юношу, уже вдогонку, – что тебе подсунули не прибой, а отбой, и время оцепенело и не притягивает события, но сносит – в марево. Как протиснуться меж пастью и пастью безжизненного? А после выканючить назад собственное утро – его мед, мирру и юное вино, и ликующий шум его площадей.
Женщина с черно-белым лицом, опершись на фонарный столб, всю себя отдавала вздохам и выдохам. Грудь ее всходила сосредоточенно высоко, живот раздувался, губы со всхлюпом заглатывали куски воздуха. В лице стояли дремучие, безразличные глаза. Возможно, и она была лишь видением пустыни.
Дева-невольница Эрна – на границе гостиной и коридора, светлой просеки, уводящей – к садам наслаждений, туда, где бушуют, попустительствуют, потакают и заговариваются… на камнях порога, с которого опасно сорваться, и чужестранец – в глубине обратного направления, где новое заложено и перезаложено в цепи букв, в переливы, а запьянцовские поденщики-пехотинцы уже собрали мостившие движение обеты и сложенные в подковы тени птиц, загладили колдобины и прикрыли колеи бородами дыма, и только – шелест терпения… Если вскоре Эрна загорится оповестить явившуюся из-за стены, что словарь той – узок и тесен, как горсть скупца, или слишком бесчестен грохотами, стремнинами и всем присборенным, запахнувшим в свою конституцию – мириады мелких мира сего, то недомогающая – несомненно, под гнетом журналистских кличей, а также помп и пипеток на ее внутренних реках – может фразировать, что попросту оперирует понятиями, собравшими славу, и, в отличие от Эрны, для нее не самое первое – принести живую копеечку… То есть бархатные петунии этого неповторимого дня, подчеркнет Эрна, сегодня – отчего-то особенно изнеженные и пурпурные, и лиловые сальвии, дети хорошей семьи Шафран, которая может их упустить, ведь растут не по дням, а по часам… Впрочем, и наше и ваше имена потерялись. Вероятно, здесь распоряжаются Неподготовленность и нищая соседка – Подозрительность, и сопутствуют чужестранцу, и свербят в его глазах пустой высью, и ничего не готовы уточнить, но желают нам проницательности. В конце концов все раскроется, грозно возгласит или не возгласит дева, и прослезимся над роковыми ошибками. И воцарятся уныние и хандра.
В гостиной тоже нет точности, стены отступают, теряются, а сердцевина – манеж пекла, колеблющиеся клети лучей и напирающий вещный ранг, и все наслаивается друг на друга и покрывает ход и бег. Мираж: не то поле подсолнухов, процветшее в скатерть-самобранку, не то действительный дастархан, обкусан по краям слепотой и покоит штиль, и на странной горизонтали смущают Эрну – составившие конфетницу нетвердые звери с улыбкой тумана – и похожи сразу на многих бестий: медвежьих и лисьих, и на зоологическое печенье, и на песочные куличи – подчеркнута готовность к съедению, хотя не ясно, кого и кем. А рядом – защипанный бликами цилиндр, но в этом пересыпается не время, а едкая стеклянная синева…
– Да будет с вами, – говорит Эрне чужестранец, – что шестьдесят второй год – это я. Тысяча девятьсот шестьдесят второй!..
Кроткая дева не против, конечно, оглушительное известие не откроет дорогу к радости и не успокоит песков, но, бесспорно, вычтет из пустыни щепотку пороха, к тому же что-то прокатывалось… Государство и дневное светило – снова я. Оспа, Гулливер и мадам Бовари – само собой. Леди Макбет, степной волк, хазарский словарь, отмщение…
– Я действительно был шестьдесят вторым годом! Увы, не дольше дня, – скромно признает чужестранец. – Зато самый первый день – шестьдесят второго! Самый полный и обнадеживающий. Я открыл год! Во Дворце пионеров две недели давали новогодние празднества, и наша театральная студия разыгрывалась и в чудесах, и в кознях. В финале на сцену опускалась на тросе картонная серебряная ракета – популярнейший реквизит, ведь накануне в космосе впервые взошел земной путник. Из ракеты являлся румяный школяр – Новый, 1962 год. Наш режиссер обернулся Дедом Морозом, а на роль шестьдесят второго года выбрал самого толстого студийца – меня. Кто обещал тучные, как я сам, нивы, приносящие из колоса – три противня пирожных: меренги, марципаны и сладчайшие, как яблоки моих щек, плоды, и кругом – тяжелое изобилие, и чтоб щедро поили землян виноградные лозы, и пели им птахи небесные, и чтоб нигде не нашлось печальных лиц…
Нежная дева рассеянна и отсылает взор блуждать по угловатым вкраплениям: грани престолов или загривки капителей – сомнительные приметы гостиной, и присматривать какой-нибудь колчан или пикнометры, чашки Петри с минутами или слезы Пьеро не мельче блюдца, чтоб случайно толкнуть гладь, расплескать в разбеги и прочерки. Тогда я, добавляет Эрна почти вслух, все возлюбленные великого Соблазнителя, поскольку душа моя сражена бессмертным навеки и преданно волочится – и за промельком его, и за музыкой бравады – и за отблеском часовой цепочки, за апогеем, и с готовностью вселяется то в одну избранницу, то в другую – по ширине прикосновенности… Или потому что пассии, как одна – красавицы, и в каждой я – все моложе. А войдя в глуховатое почетное эхо, встречу пейзаж, что размерен – кавалерственной высотой и гаммой, теплыми ложбинками, и протоптанным им атласом разлук, и щепотью его благовоний в воздухе – и врасту… Впрочем, Соблазнитель – тоже я.
Кстати о красавицах, и Эрна уводит взгляд в коридор, чтоб составить в обруче зеркала насекомую компанию, двенадцать насечек, и включает не то гусеницу-щетку, не то куколку, в которой почивают очки, и пыльную звезду морей, и шляпу пыли – мало различимы, и скрученную в свечу сеть – заслон моросящим белым шарам игры и снега, или четверку крупных: рваную суму, чью-то поддевку на крючке и… и досадует, что формирование перекашивает, слагаемые вылетают за край, циферблат хаотичен и облит земляничным сумраком… Да, о красавицах. В чьих-то недавних речах, вспоминает Эрна, пыжилась генеральша-дверь ростом – два храбреца, в створках – солнцеворот и куличи луны, с величавой скобой на десять прихватов, на двадцать четыре неспящих часа, и те не втащат свою обеспокоенность бытием и соплеменниками. А в другой исповеди колесила и цокала площадь по прозванью Пятиминутка – меньше чем за пять единиц не вытопчешь, потому что не срежешь ни мелочи, так беззаботны… Иногда попробуй-ка перейти неистощимые и несбыточные работы полдня, добраться до матовых прохлад, почему же целый шестьдесят второй, то есть вы – столь коротки?
– Потому что – о ужас! – лопнул трос, на котором снижался мой воздушный корабль, – говорит чужестранец. – И тогда нашли самый тощий шестьдесят второй год.
– А уж тощего растянули на полвека и еще на полцарствия… Жаль, шестьдесят второй для меня – не больше пятидесятого, – не вполне вежливо произносит Эрна. – Хотя не меньше восьмидесятого. До моего появления – ничего, земля безвидна и пуста, прогулки тьмы.
– Очевидно, вы так долго сомневались, кем явиться на представление: ударным исполнителем или интересным болельщиком, что заняли самый неудачный трон… Местечко зеваки, – добродушно замечает чужестранец. – Но придется признать – лучшего в сверхтяжелых зеваках.
Об искателях.
Разве не Эрна искала – кому сложит в дар свой день, что и сам уже сложился кострами – и шушукаются, и чем дальше, тем острее и скабрезнее языки… Кому поднесет – веру и правду, включающие салат «Цезарь» и бургундское фондю, или веру в печеную рыбу и дикий мед, или правду фанерных бутербродов и чая. Но забывала служение и искала увещательную телефонную речь к стороне и насущные посуды с лузгой минут и наконец соглашалась – на уличную мазню, графику корчей – устремление, нарастание… Ищущим да воздастся, если не в эту руку желаний, так в протянутую соседнюю… Мир работает с вашими исками – и пущен в автоматическом режиме. Чтите подступившее к вам вплотную – по глазкам и устам его выбоин, по шершавым граням или натекам, ссадинам и стигматам. Кто-то хочет узнать себя в сих творениях, а кому-то лень. Поклоняйтесь кумирам, что в шаге от вас – и ничуть не худшие тех, что вдали, самые близкие, плоть от плоти – первейшие! Вот чаемый корпус: часы «Чужестранец», с синим или с красным крылом, правда, тоже поражены покоем и держат – середину прошлого века, зато очень корпулентны в порфире заоконного солнца – не сдвинешь, не выплеснешь, и держат свербящий голубой блеск. Служите блеску сему.
– Словом, в нескончаемой от чудес долине дня я бываю всесилен, – заключает чужестранец. – Если ваше сегодня вдруг не затмило – другие великие сегодня, я с готовностью потру перстень и…
– Всесильны в пойме любого дня – или в первоянварской балке надежно заснеженного года?
– Каждого, каждого, что тучнее года.
– Знаете, что из зрелищ очень укачивает? – спрашивает Эрна. – Скольжение за рукой слепого, шляющейся по письменному столу, как по проспекту воскресенья, и, одолевая рельеф, тщится поймать важный ордер, но минутой прежде кто-то злоумышленник искал – свое, и сдвинул вещи, опознаваемые – по точке предсказания, и вчинил случайные… Чертова бумага трепещет от нетерпения – в двух буквах, на руке-путешественнице уже лег ее цвет, но все ловит и последовательно натыкается на кирпичи, в иных измерениях – сундучки мудрости книги, на взъерошенный блокнот, разбивающийся в ручей телефонных номеров, на будильник, чье надменное стекло не дает опознать ни круга, и превращен в автомобильную фару. Затем неловкая набредает на сноп гвоздей, развернувшихся в тернии, заодно украсится зернами граната, на открыточный календарь дней, приняв за отставшую от колоды карту, и ощупывает калейдоскоп с видами рая – как гильзу и груду осколков… Окунется в остаток пирога с отворенной рыбой и нащупает письма, смешав бесценные с флаерами, но на первых оставит рыбные пятна и затопчет углы, что несущественно, поскольку дальше непременно толкнет на них стопочку с красным вином, принятую за антиквариат – чернильницу, и заблудится в эпохах. А после угодит в урну и покроет окровавленный перст прахом, хотя ордер важности тут как тут. Да, кропотливая оперативная работа.
– Я уверен, что не вы – безмятежная наблюдательница за тяготением чьих-то рук, и нарисованное вами – могучий аллегорический сюжет, – говорит чужестранец. – Бросим кости и разыграем – кто из нас слепец?
– А что и вовсе равно жестокой морской болезни? – продолжает Эрна. – Однажды типовой слепой… кажется, тот же, и не аллегорический, но в амуниции топорного плотского! – пожелал быть препровожденным к какой-то меценатке, чтоб восстать посреди ее флагманских палуб и призвать шахматный турнир для полузрячих детей. Прозревающих не больше одной фигуры и клетки.
– Что же вас в этом не устраивало? – интересуется чужестранец.
– Уровень шума, – говорит Эрна. – Он лепил слова то из меда, то из воска, то из ледохода и кадрили копыт – и, конечно, без пауз, чтоб не вмещать возражения. В общем, прессинговал. Но не мог видеть, что творящая благо принимает его в халате, из которого выпадают части тела – для внутреннего употребления, видать, недостаток мужских рук, чтоб подхватили, а голову с вороньим гнездом заступили – ясли бигуди, и мадам не считает нужным преобразиться. Что со всех плоскостей дома сего – стены, двери, грудки шкафные – нас бомбят лучезарные лица ее сынка: бамбино листает букварь и пиликает на половинке несъедобной груши, он же – предводитель дворового футбола, тут брызжет привет из бассейна и щиплет пловчих, а там зачитался следами зверей в альпийских снегах и без конца повышается, уширяет плечо… И уже забирает стипендию имени… какое-то родственное имя. Хотя фаворит и правда был – очень недурен! Плюс финансовый потенциал… И пока прохлопавший виды декламировал, спонсорша внимала средним ухом и гуляла в толпе, составленной разновозрастным – путешествовала у сынка на закорках по временам: глаза ее катились по фотографиям – и увлажнялись, и больше ничем не возбуждались… Не смею категорически утверждать, что просителя провожала я…
– Манто, ведущая Тиресия, или отчаянная Антигона с Эдипом, – констатирует чужестранец. – А удался ли шахматный турнир?
– Кто знает, – говорит Эрна. – Разве сойдешься с людьми, чей любой жест утверждает в вас мизантропа? Пусть в самом деле останутся в басенных. Но я заглянула узнать, который час? У меня что-то с… – Эрна с досадой встряхивает запястье. – То есть… полюбопытствовать, вы нестерпимо предпочитаете чай – или кофе? Со сливками, с урожденной чернотой? Или – скорее на вернисаж? На утренник в театр? К сожалению, могу предложить вам только крупную передвижку – троллейбус, трамвай, переход в гневе стесненных и на круче народных мнений.
Где-то совсем рядом, вдруг – полуслышные вздохи, но кто мученик, или ржавый кран и недозавинченная дождем ветвь могут быть так жалобны? Эрна подозрительно смотрит на чужестранца, но безмятежность хранит его… Тогда дева-серна свершает внезапный отскок назад – отплющить чью-то ногу, на которой самоотверженно преодолевают немощь… И оступается – ниже шпионской туфли, на стоптанную просеку, коридорную пустоту – и вздохи роняет сам воздух.
– Кажется, трамвай непроходимо деперсонализует, – говорит Эрна. – Тот же на всех вид в окне… как один портрет – на мильон домов. Хотя возможны тополя вдоль отполированной зноем стены и бегущие тени – слева от обещанных впереди и справа от тех, что миновали, итого – втрое гуще реального строя. Как пассажиров-странников, которые непреложно вдавят в тебя – свою гадкую холодную или мокрую ношу, и кажется: в свертке – мясо заколотой твари и по твоим одеждам и коже стечет его кровь. А случись трамвай точно против ствола, ни дерево не равно отражению. Мы все зачем-то смотрим не под тем углом, под которым – небо…
– Отводим, отводим общие места, ибо вскармливают заблуждения и лень воображения, – произносит чужестранец. – И все попутчики как один помещают в окнах срединный пейзаж. А вдруг наше ведущее дерево – пальма? Сикоморы, пахиры с торсом, сплетенным из змей? Проставлены бугенвиллии в громадных соцветиях, и аккуратные елочки просят заметить, что здесь не растут, и впредь предпочли бы величаться араукариями.
Сосланная в дальний край, безотрадно бузящая и свистящая кухня внезапно сворачивает музыки. Вероятно, кто-то нетерпеливее Эрны – подозреваемый или неузнанный? – ссудил чайнику зуботычину и наконец сбил с него клюв и настроил шипение тишины…
– Выбрасываться с тоски из трамвая можно в другую сторону, – сообщает нежная дева. – Пристроиться к пассажиру с раскрытой страницей… попутно отгадать чтиво. Иногда легко – тщеславные герои щеголяют в знаменитых фамилиях и воспроизводят популярные действа. А то проглотишь главу, пока не прихлопнут ее муравьиные дорожки, и совершенно не понимаешь, где ты. Но можно запомнить фразу, а после набрать в каком-нибудь интернетском поиске – и ловите недочитанное трамвайное. Вы слышали, что наши лучшие подруги – книги? – осведомляется Эрна. – Свои и чужие, переходящие в свои. Только эти не предают… пока сам не пожелаешь предательски хлопнуть крышкой, раздавив шмуцтитул, чтоб перейти в титулованную другую.
– И какую строку вы запомнили сегодня? – интересуется чужестранец.
– Проклят человек, кто надеется на человека и плоть делает своею опорою. Глупый вереск в такой же бесплодной земле – и не увидит, когда придет доброе, – говорит Эрна. – Жаль, теперь большинство не вычесано от грамматических ошибок. Как тыквы, источенные червем. Я отношу ошибки на счет личных обид. Но многое открывается – и возле книги. Например, кто слушает сводку погоды, а кто – лишь собственное сердце. И в день внезапных перемен первые полнокровны, а вторые противостоят вьюге – в бандо и шазюбле. А может, в дне текущем – недобор, и зияние затыкают вчерашними безрукавниками.
– Болотистая почва не дает подобраться к огню, но пламя охотно идет к вам навстречу, – нараспев повторяет Эрна случайную газетную фразу, гарнитура брусковая, сучковатая, брошена на соловьиной лужайке кухни или пристраивалась на постаменты спален, но скорее – трепалась воздушным змеем по просеке, расхолаживающей лес стен. – Почва – болото, грязь, но огонь – не брезглив и спешит к вам сам… Если не горит время, так горит что-нибудь еще… – и с суровостью рапорта: – Никуда не исчезнет, но окружит верностью – дядя ваших зазноб-книг.
Полдень лета превращается в полдень окон, раскрытых на скошенные к багрянцу мольберты запада и на обильные процессии востока, скрипят над южными в позолотах заставами и рассыпаны на мглистые ожидания: все дороги и переправы протянуты из окна в окно – сквозь корзину дома, и полощут новые хлебы улиц: диагонали разноголосицы и оркестра, и трепещут в зефирах, бореях, нотах, шелестят и крутят решето вспышек…
Дева-Пламя в ватаге пронырливых перьев – петухи, горихвостки, сокровищные истории – высматривает, чем поживиться, и гуляет по толпящимся ей навстречу комнатам, по залам и бивуакам давно разбитой комедии, но неубедительны, нижутся на городьбу – и откупаются холощеными дубравами: раскатанные заревом стволы и склоны, и щиты с козьими мордами и с дульцами стад, с полировкой, отливающей колосящейся нивой, горчащие подзолы, черенки и Их Изящество червоточинки, дуновение ювелиров, медленные канты и выгнувшая позвоночник клепка на битюге-диване, и ковши с фриволите, брошки, бляшки, ягоды и орехи бус – разоренные суслик и белка, уже воплощенные в кого-то других.
Мелькают натюрморты – малые, выеденные, доставшие до корки и ряски.
Обнаружены мрачный мешок плаща, в котором застряли чьи-то формы, и половина груши – сберегает не память об утраченном верхе, но оттиск терзавших ее зубов.
Один из паркетов постранично усеян то ли атласом мира, то ли журналом мод: разъеденные кобальтом подолы или сбившееся в оборках море, шарф пурпура – или запекшийся горный кряж.
Дважды встречена бронзовая гурия – мостится по вершинам и шабашит, разнося на голове дважды блюдо.
Обнаружен сбор треснутых линз – или коллекция трещин, заботливо помещенных в дорогие оправы – попарно.
На полке засечен неприконченный глиняный гусь, письменно сообщающий, что он – арманьяк «Шабо», и Эрна принимает жирную птицу под локоть, чтоб размочила одинокий поход.
Встречен холмистый футляр и в концовке придушен, но где уверенность, что нагружен скрипкой, а не отбегавшими кедами?
Трижды замечены светильники ночи и зоосад созвездий, чаще рисован слева от незадутой тьмы, однажды – справа.
Подвертывались чугунные истуканы – рогатый гимнаст над веревочной грудой хвоста, надсадив нос – двумя пятипалыми мерами, а также горделивый идальго – слоится фалдами и клинками, и за оглашение черноты своей – и материал, и одежды, и мужество – награжден сверх предела, разительно – сходством с молодым голеадором, бессмертным.
Найдена кукла без глаза, в тунике, и впечатана в угол – за то, что подсматривает мир и небеспристрастна.
Последующие балаганы смутно напитаны радиацией поражения – пленки пыли, нарывающие уступы, линии змеятся.
Громадный картонный короб мнит себя – Птицей-Тройкой, запасшись надписью на боку и штампом.
– Кажется, нам подали новых саврасок-петрасок – вместо утратившихся, превращенных в речную зыбь, – говорит Эрна. – Наша цель – захват филармоний и цирков…
Попадались послания на стене, возможный смысл: и дам вам новое неведение, и станет – плотью… Или: regnavi, regno, regnabo. Шрифт – пляшущие человечки, запальчивый балет на осыпавшей стены фотографической экспозиции: две наследницы патрона перескакивают с листа на лист, отбивая друг у друга неувядающие па – старшая и младшая флиртуют с музами: рисуют, поют или, скрыв платочком полщеки, тибрят из рая – тонкокорые скрипочки, разинутые беззубой ямой… кто хранит свои уста – хранит душу, а кто широко разинет – тому беда. Золотое дитя и золотое дитя сбрасывают с подола девичьи глупости – усатое спицами вязанье или недовязанных меж усами кошачьих… Приглашают ирис парка и маттиолу парка – в свой венок… Фаворитки-гонительницы: выдворяют со двора – деревенские замашки, вошедшие в утицу с утятами, и отказывают низкопоклонству, рассыпанному по голубям, шпыняют мяч и волну и гонят пряные улыбки – стригунам голубых дорожек… Та и эта оттирают к себе за лопатку – глянцевые пьяццы, жардены, авеню. Эпизод с кардиганом и с кашемировым пальтецом, время стрейч-жакета и платья-поло… Фотосессии академические: модели экзаменуются на выборочное знание и уже снимают с ладони губернатора именной стипендиальный конвертик – и дающий и подаваемый упруг. Композиция Высшее общество, бал: норовистые балуют с черным жемчугом и с голубым, с оживленным жаккардом и с шифоном, и кромка коктейля посахарена бриллиантами – и фенечка вишенки, а смычки в расфранченном оркестре проблескивают нагайкой.
– Висим, скучаем, никого не видим… Сиротки! – и нежная Эрна с полным участием сдувает с ближней рамки пух.
Дева-серна настойчиво ищет среди гонимых – цифру, гонимую – как тщеславие, кто больше? Или отдуваемую – мясоедом, смерчем, опиумным видением… Но счастливцы семейства не наблюдают циферблатов, остриженных в провальный нуль – не в пример намоленным счетчикам пленных. То же и путешествующая по дому Эрна – нигде не замечает идущих часов, ни четверти гона, ни кривого намека! Ergo: счастье идет стеной, и только смерть разлучит с ним невольную деву! Посему показывает золотым чадам язык и язык, снисходительно надставляя два тождественных лика – третьим.
Но что-то отворяется искателям – в отражениях. Круг гонимых разогнут – в королевскую процессию, пигалицы, карлицы, усатые сотых, успевая поперек акватории… Гранд-табло – почти остров, правда, диктует час – с водянистого фото и кичится не тяжкой пехотой, а фартовым плывущим, показавшим скорость – на капле, но включившим ее – во вседневное свойство.
Шагает ли день, пока нежная Эрна шагает – от портрета к портрету, если с каждого снимает – одно лицо? Или два, но не склонны к разнообразию и слопаны – одним наблюдателем? Умножается ли существование, если жизнелюб пробуждается что ни утро под той же крышей и валяет позавчерашние вещи?
Принята еще гора дверей, ручки холеные, пожатия апатичны, на устойчивое веление Эрны – засыпаться и угаснуть, бесстыдствуют и плодятся, отступают в темные переходы, путая выходящую деву – с входящей, чтоб опять повториться ни с чем – с чем угодно, кроме пары костлявых путниц, загребающих стоптанным каблуком, низкая – Страсть, длинная сестрица – Чума, но в глазах чумичек – светило, предвечернее и предвечное.
Впрочем, если залы и развилки до сих пор перезагружались и выпадали на пройденные, значит – все-таки вертятся! Даже к лучшему, что не лепятся в шелковый путь и в карьерную лестницу, а случаются – как дожди или оговоры, значит – можно встретить вольное завтра не там, где предписано, а на любом перегоне.
А кто нашел декорации неразменными? В прежних кодеры были незрелы, и трехзначные мушки пробовали выводок серебряных чашек, а теперь подтверждают блюдца, и бывшие натюрморты проросли в склянки пилюль, и в траурную манжету с грушей резиновой, и в узелки с вихрем.