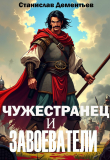Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Пегий горбатый голодранец, вынося из полузахлопнутого тома спины – долгие закладки рук, обходил в тылу сидящих – отринутые столешницы, тлеющие неубранными посудами. И, прижмурив пегие ресницы, чтоб исчезнуть из глаз соглядатаев, выбирал из посуд – золотые мешочки с чаем и укладывал в собственную кружку, намятую ему – самой жестью, и пускал в собственный мешок, отрыгнутый ему – самой рогожей.
Свидетельствующие и тех и этих часы на стене выбрасывали единственную карту с таинственным значением – 19.30. Но воспаленные предплечья девятки угасали, и на карте вдруг являлась пятерка, и время было уже – 15.30, и являлась тройка – 13.30, а после – снова… и все существовали сразу в трех временах, в каждом безнадежно повторяясь и не ведая продвижения и преображения.
– Я тоже в каком-то из вариантов наблюдала Почти Победительницу, впрочем, в те же минуты провожая компанию криводушных отроков. Мой нестройный маршрут, конечно, начертало желание отчитать юниорам – басню с моралью или апологи в пользу Добра и снисхождения к ближним: прощение, переходящее в увлечение и так далее… Разумеется, я скопила пороков больше, чем расчет отроков – и не менее убегающей воды, отравленной отражением Пасифаи и Федры, но готовить фразу … но – обойти их в карающем языке, в судейском гласе, предстать – не прохлопавшим смысл никем с почетной кухонной лентой через плечо, но – герольдом от царствующего закона… Впрочем, в те же минуты меня провожали животные тени – пес Подозрение и гусыня Надежда: а вдруг у отроков соберется что-то – и для меня? Невзирая на провинциальность – мою или их… Цинично распотрошить их почтовые души, и погнуть прутья, и найти на дне пустозвонства – какое-нибудь интересное мне сообщение, возможно – важнейшее послание. А они дожидались, когда я разведу обходительные речи и проговорюсь – равнодушием, чтоб зажечь мной – новое веселье. Чтоб сказать, что вряд ли, соблюдая себя – в чистоте и жизнеутверждающей атмосфере, как рекомендуем им я и кто-нибудь победительный, они могут облечь так запросто – то, что меня волнует, в провинциальные жанры, бросить на растерзание – челяди слов, войне всех со всеми… Но я избыточна не меньше, чем эти вечные копиисты, и обрушу на них – столько, что истинное проглотит цену. К тому же кто-то из них постоянно отвлекается, полагая: как только начинаешь присматриваться к действительному – оно ужасает. Возможно, Почти Победительница пыталась найти как раз отвлекшегося.
– В верховьях дома, служащего мне крепостью, обитает великолепное дитя – призванием пастушок. Куда бы мне ни взыграло направиться – он, вне сомнения, будет там. На завешивающих один аккорд качелях или – с подсекающей свист скакалкой, выпасая травы и расстреливая мячом – стены крепости моей, и у парадных, верховодя и проникая прыжком меловые асфальтовые кривоугольники. И проносит скворешню юной главы своей – сквозь бутафорию для фотопортретов: этапный рельеф из истории климата или истории платья, из истории времени и всеприсутствия. Или – всезнания: мне ведомо, откуда пошли вы – и зачем есть, и что произойдет с вами дальше. Посему, если юный пастырь мой вдруг отсутствует в близких приделах, я не слишком беспокоюсь о нем и себе. Поверну ли я направо или налево – из той глубины дитя и пойдет мне навстречу или сделает выезд на машине велосипед. И из всех сторон обратит ко мне утомительное повеление здравствовать. Хотя никогда не уточнит, как долго.
Вчера, возвращаясь домой, я думала – в каком эпизоде сей назидательной комедии еще не явился мне внимательный пастушок? Ужели о том, где пребуду я через пару шагов, знают все, кроме меня? Ответ нашелся при подходе к дому: дитя пока не было мне представлено – в отдохновении на широкошумном древе! Точнее, пекущимся – и о мне, и о пастве листвы.
Но когда у меня дурное настроение, а мое дурное настроение вполне ровно, я почти уверена, что дитя – чудовищно и вносит в мирные картины разлад. И оно, безусловно, – из той компании гуляющих по городу потрошителей.
Но, возможно, пастушок встречается мне столь часто – не более чем потому, что я подозреваю его во многом знании о мне?
ИНТЕРЛЮДИЯ. ВЕЛИКАЯ ПАНИКА, ИЛИ БИТВА ТИТАНОВ
– Некий человек, возвратясь слишком поздно от смутной, но ежедневной деятельности, вдруг прозрел на вспученном и побитом лице дома своего – Послание Домоуправа с назначением на завтра осмотра и открытости всех дверей по течению дня. Стиль, как свойственно художникам этой сферы, тираничен и неопрятен, над орфографией надругались. Объявлен ли смотр газовых плит или труб – и любопытство поделили слесарь, трубочист, трубадур… желанно счисление по головам, чтоб увериться в их уместности или преувеличенности, отсюда – неблагородстве… пытаются исследить детали Промысла, как-то – упомянутые головы или их упоминание в разных текстах? Вероятно, уже разлилось общественное мнение, расстановка сил… Но некий человек возвратился вместе с тьмой и далее – по течению обстоятельств или во веки веков – пребывал в изгойстве, и единственные обращенные к нему увещательные речи были – его монологи. Посему – описание паники: рельефно-точечный шрифт ночи, неопрятность вещей, стесненных со штатных мест, и вместо освободительного движения снов – ужасающие дефиниции к слову осмотр… плюс меркантильные планы на завтра – как не дробить себя надвое, но – удвоить, чтобы первый отправился длить как ни в чем не бывало смутную деятельность, а второй – прислужник при двери, открывая собой пространство осмотра – неизвестно чего и неясно, кому… Но поскольку двое, брошенные на информационной обочине, не умели поделить поприща, дом всю ночь переходил из рук в руки, и один брал на горло – нашествия, фабрики войны, бестрепетные мясорубки и сковородки, а другой мобилизовал – страстные длиннопалые мечты: не впускать к себе в дом никого – ни с какой миссией. Возможный финал: пока титаны отбивают вторжение извне, к ним из глубин дома выходит – пламя.
Это или другое приключение из жизни филистера, перетекающее – в мистическое предзнаменование.
– В предвестие того, что с вами происходило, или это – уже само происшествие?
– Когда запирают все двери по течению дня, а замочные скважины размываются, и все входы и выходы обкладывают хворостом ночи, обломками ночлежек, во мне все более возрастают нетерпение и нервозность – несомненно, перед каким-то неясным мне, но явно собирающимся осмотром. Пуржащее, многоугольное движение, нацеленное – на собственную чрезмерность… И однажды в звоне последнего часа из зачерненной сердцевины моего дома внезапно вышло осмотреть меня – чистейшее пламя.
Как-то, по обыкновению прозябая, я таранила путь от смутных дел – сквозь искривленный и убеленный неполнотой город полночи, меченный звездами снега или астронимами зимы, возможно обещавшими – нечто большее, и на этот раз мне опять удалось вырваться, прорваться сквозь обшарканные куски времени и вступить в свою затепленную натужным крепость. Мои искривленные холодом, но желающие услужить руки, столь же чрезмерные и без конца влетающие в штангу, переставили из зоны нерасчлененного, тусклого на огонь – чайник с провалившимся носом и вмурованную в толщу сажи сковороду – и, улестив маслом, целились уложить хлеб. Но масло вдруг выклюнуло к себе на круг из соседней ракушки – жемчужину искры, и внезапно – просеянный или отшелушенный от хлопьев тьмы золотой тайник… Точнее, передо мной был взвит горящий стог. Признаюсь, меня крайне смутила – столь неприкрытая откровенность любопытствующих мной и не назвавшихся сил. Между тем руки мои ухватились за длинный сук, на котором сидела сковорода, и сорвали ее с плиты. Восстав посреди кухни, я едва удерживала на весу – вошедшую в тяжесть холма и почти дивную плошку с пламенем. И оттого, что горело масло, стог был восхитительным – прозрачным и энергичным. Страх подбивал меня оступиться – отринуть, отшвырнуть от себя пламя – и уже разжимал мне пальцы. И, ощутив мою неуверенность, огонь возрос, гуляя маятником от волхва до агнца – или от всполохов голубиной стаи до втянутой небом их чечевицы. Он процвел в двух взмахах – от бельевой веревки, где забытая стирка сгруппировала под потолком скуки мелких одежд, и я прочла мысли пламени, уже видевшего себя объявшим – и эти детали, и весь мой гардероб – и даже соседский. Но кто-то, в тот миг неотпечатленный, задержал мою руку – и увел видение мимо… Пламя облизнулось на веревку и ушло с рейда… и чье-то золотое любопытство растаяло – столь же внезапно, как пролилось. Заметьте, я страстно боюсь стороннего любопытства как мерила несчастья! Я не устаю проверять, все ли высветленное затемнено, рассоединено или, напротив, замкнуто вмертвую. Не странно ли, с какой легкостью чей-то ясный и взыскующий взор вошел ко мне, обозначив эту фигуру моих действий – как преждевременную…
Но позже, согласно предзнаменованиям – астронимам зимы и воспылавшему любопытству, вернее – соуместно полночи, мою жизнь на некий срок озарил иной огонь. Я избегаю определить – кто столь случайно был мне открыт в глубине затворяющихся дней той зимы, сквозь кошачью песнь затворения… Но раз уж мои глаза проглотили – варварскую прямолинейность пришедшего, собственно – прошедшего, его напасть – выгнав из шеи струну, крикливо отбивать у всех бед – и ломкую старуху в шифоновых лентах прошлого, со вкусом вошедшую в образ калеки, и шаткий заулок с голубой чашкой души, выгородку ветра, в общем представлении – камни, и чем больше теряет камней, тем больше заходит вширь, в пресуществление моего филистерства… И раз уж сердце мое медлило – на холодность золотого света… как земля – в расстриженной на летящие вспышки белизне, возможно, оттого-то мне и привиделось царство снега, или одежды прошедшего были так белы и сиятельны?… – здесь, не повторяясь о природной моей склонности к лжесвидетельству, нашедшей щедрое поприще, признаюсь – в почти неестественной правде, от коей мне так же не по себе, как от всякого прикосновения зимы и земли – их недолета и перелета… от того, что зияющий зимний воздух, как гнутое прорывом тюремное окно, захвачен черными линиями скомканных чертежей, что когда-нибудь перевьются в деревья… Итак: прошедший был прям и неучтив, и он был – ангельской красоты! Черты его – ветви горнего сада и стоящее меж ними блаженство. Пламя же было просеяно – для остатка в слове, и все определяло перерождение некоторых тканей, о да – материй: возможно – напрасное, возможно – окаменение…
ПЕСНИ ДЛЯ ПРОЦЕССИИ ЗЛЫХ ДЕТЕЙ
Самое беспричинное – нарушенные ожидания.
Мы ожидаем за тем перекрестком —
полный зеленым шумом дом аптеки,
что обычно борется в дверях – со змеей,
сбивая чашей ее виток, распыляя наотмашь —
залоснившимся в битвах трафаретом,
но уже охромев, разбив плюсну ступеньки,
замывая раны и ссадины —
в пунцовых и синих волнах витражей,
потому что так в предуведомлении:
во вчерашнем городе.
А дальше по улице – мохноногий портик
на выходе из щербатых башен пыли,
взяв на грудь – позолоченные буквы.
И пропустив вперед – увлеченных окружностью
и почти всегда фонтанирующих лягушек —
новые стены, обгоняя друг друга
завиральными антенными блюдами
и взошедшими над городом именами компаний,
копьем-термометром и железными масками
страстотерпцев, и вздернутым над набережной
гигантом-единорогом – радиотелефоном,
потому что так в предуведомлении…
Но вместо дома-аптеки – осколочная площадь Осень,
сносясь с каркасом пейзажа – в одно касание:
полной пробелов имитацией вчерашнего,
уже разбитым огнивом,
накренив магические кварталы,
и гвалты камней, и панцири
подавившихся собственным прахом урн…
И нетленнотелая дива
меж ломаными крылами и бельведером
размахивает – не то рогоносицей-лирой,
не то головой архара, стострунной мышеловкой…
Площадь, запертая на восемь бронзовых
и каменных улиц, и над ней – ее содержанки,
двенадцать крылатых богинь почти Победы…
Но лопасти, скольжения, цитаты
в расписании поездов, сурки в красных сгущениях
подмороженного мрамора —
и стирающийся графит оград,
сортированные на вчера и сегодня,
вдруг начинают старинную меланхолию…
Нельзя попасть куда хочется, достичь места,
возместившего – назначение, цель…
Лишь – снестись в одно касание:
взглядом или… а между —
отсутствующие звенья,
выболевшие овалы времени,
провисание – надувание светом…
потому что книгу улиц, которую
мы листаем, пожирают змеи и жабы,
мы едва успеваем загнуть угол
и вырвать себе страницы…
Но эта меланхолия, о меланхолия…
С утра земля и вода высвечивают волшебными глазами – весь ранжир посвящений долу: расслоения, эрозии, надломы… Но меж взмахами в челночном существовании проперченной и чужеядной книги – слежавшиеся фиалки или перья судейского казакина, собрания анонимок, плеяды деноминированных физиономий – сбережения и улежания. Есть недокрашенные картинки: вот – дымчатая и беспросветная тварь, лавируя меж собакой и догарессой. Она нашла на нижней ступени гашенного дымом кота и скатила голову по склону дымящегося внимания. Вдруг сокращенный из праздношатавшихся – в брата по дыму, запрокидываясь к той, что над ним набрякла: к сатрапской и смачной в многоугольности голове, пузырится в своих разбродных клочьях, развивая гнилое «мяу» в наждачное шипение. Давайте разворошим эту низкую ораву клочьев, выпустим из них жуть до взрыва – ведь любопытство, как деньги, любит тишину … Или разгоним – интенсивную крупную, чтобы утвердилась в крупчатке. Разве мы шли, укушенные змеей, через царство теней? Но нас ловили и теснили оплесками красок, эти пачкуны скрасили нас в чудесных зверобоев. Ручная работа – быть скрашенным. А к вечеру липкие мостовые съедены до волчиц-подворотен, до обезьяньей стаи луж с длинными хвостами следов и просвечены победой над разбитыми в них ходоками, и опломбированы голубиным пометом.
ПЕСНЯ НЕВИННОСТИ ДЛЯ ОДНОГО ГОЛОСА
Вот постоялец улиц приговоренных, я – тот отрок, кого тщетно ищут глазами змей и жаб, кто-то прикормил меня презрением, занозил разболтанными колками своих душных интонаций. Я – часть вашего взгляда, застрявший на переходе слепец в шляпе-ультрамарин: балансиры, танец трости, меж тем как истинное его воплощение – уши, поджидая, когда умрет гул машин, упиваются вкрадчивым бархатом одарившей каждую раковину теплым объятием шляпы, не улавливая – поставленный фетру циником щедрый цвет.
Я – омраченное вашим вздохом стекло, не выпускающее – эпические предметы, набравшие массу мечты. А также поставленный на обочине грузовичок, чей монотонный кузов нахохлился скатками байковых одеял, цвет неусыпный – аргус, висящая сова, шипящий наждак. Правда, на каждый тюк их гонитель навлек бумагу, каковая на каждом же и – лопнула, чтоб ветер переигрывал ее мертвецкой капустой, задувая в летние неги – не то казармой и острогом, не то больницей и богадельней, и шурша в байковых торосах – бездомностью и последним, неубаюкиваемым сиротством.
Я – трамвайный сосед отвердевшего в полевой форме майора с удлиняющейся насечкой на скуле, с пороховым р, и, проглотив свою рокочущую примету и складывая билет в число, бросает кому-то: нет, на этот счет я особых надежд собой не питаю… а вставший рядом смущен: у командира – особых надежд, а у меня – никаких…
Я – зимнее кладбище вдоль расклеенного на мехи, сумбуры и прецеденты трамвая, откуда вы следите севшую костоеду-стену, и за ней – отчужденье сосен в коротких, сведенных в коросты телах, прикрывших развилки – комьями бинта и ваты, я – идущий сквозь контуры крестов и сосен снег, и окно трамвая, что выносит зажженные над вами светильники – в пробитую хлопьями глубину кладбища…
Я – часть истории, назначенной вами из десяти столь же битых. Одна – слезлива и бесконтрольна, в ней каждый день в какой-нибудь дом не возвращается муж. Хотя его ждет крепконогий стол, усеянный круглыми от полноты очами тарелок – с преданными взорами за губу: подержи, покатай яство, обработай его! Загрызи дыню… И, поджимая пищеблок, альтернативные предложения… Все равно, откуда не возвращаться – с войны или с близкой улицы, всегда заряженной вертикалью: строй стволов сквозь строй одноместных виселиц с пылающими головами, створы ветра – и, разбиваясь о старинные грани, длинноты стен или порталов и рам со складкой, пилястры, протяжные скрипы балконных цепей и эркеры, надорванные воздухами от бельэтажей до крыш, и грифы проглотивших струну водостоков… и все выше и изощренней уличные голоса… Но порочное сердце истории – дом с зеркальным парадным, из чьей опрокинутой в улицу глуби выходишь сам – открывать дверь себе, страннику… и, присмотревшись, узнаешь в серых хвостах осенней травы – бегущих крыс… Далее, по ассоциации, скрученный шнур, чурающийся четкости и донесения света. Пук наэлектризованных розеток: рекордное вышмыгивание из стен с пробросом гадкой паучьей фактуры. Сорочье гнездо кранов, прослабляющих дом хвостами пулеметных очередей, а в этом доме как раз нельзя о стрельбе… Или – об очереди? Наконец, раззмеившись с особой синью – изолента, коллекционируя попытки окна, искромсав ландшафт в овчинку, и бездарная в прищемлении многодуев форточка – и так далее: разработка летающей руки, крупноплодной, топорной, за все хватающейся, но вдруг – свернувшейся.
Хотя шестая история – собачатинка, мылкие грубости, и украшена именно очередью – мужи тщатся пролезть в чей-то суженный дом, в спрессованные двери, амбразуры, в прилегающее и неплотное, в общем – гульба прилепившихся тучников, и особенно ясен в них – тот необязательный порученец в полевой форме, в левом поле – блажь, риск, гуляющая насечка на скуле или вероломное р, покатившись из-под языка – не оболом, но драхмой, реалом, пиастром, талером… в правом поле – невольничество, зыбь и неотвратимость. Кстати, непревзойденно похож на того, кто бескорыстней догоняющих иссиний арапник ландшафтов и перепоручил мне – два этих поля, прослоивших друг друга: загроможденное плодооборотом, неуемностью – и резервное, абсолютное.
Внутренний же комизм ситуации – эта густая вертикаль, выуженность, пиломатериалы, крепящиеся – лишь на длинных взорах издали, из-за черты, а действительные богатые развороты и скольжения…
И во всех разворотах – сын послушания, или сын тени Телемаха, чтобы каждого, вновь забившего флагштоки дома – развесистой маскулинностью, почитал как отца своего. Есть ли дитя временами размыто оттого, что почитаемый идет – чредой, или смещения и колебания сторон неуловимы, поскольку все счастливые лица – одно? Как майорская звезда-альфа в скоплении надежд, она же – омега. Как перерождения в свежем имени – и обновления в ареале весны, иные процессы не назначены к заострению ввиду децентрализации. Рассеявшей в поле – несущих звезду или насечки, стигматы… и бесследны. Сын послушания, почему он не догадается – прикрикнуть на чреду почитаемых и, прохаживаясь по замершему строю, найти в них – главнейшего? Узнать – по теплому ветру, по мелководью глаз и особо невинному взору над его головой и выше… Но, мелькая в том и в этом чужом имени, равен каждому – художественным пастушеством: то луговым оком и оттепелью спектра: шалфей, ирисы, посев золотых ноготков, то северной пустотой и сиротством, то напусками ауспиций, гадая на полетах мяча и свистах скакалки… И, нося стороннее имя, замечен – и в той и в этой стороне… и, похоже, дитя-пастушок устремлению в высь предпочло – иной рост.
Героиня этой истории – или прогрессировавшей в восьмую, пока выпутывает длинный локон из траура, пока… и дает всему радость петь: колокол каблуков, шмель высокого голенища, травный гул душистых складок или краснотал шарфа, и басы целлофанов со сладостями – шершавые хождения даров, взятых на плечо, – город с каждым приливом несет ей не одну колготу рыцарей. Каков общий рисунок ее даров и что означает сей плоский символ? Правильное исполнение дороги… возможно, слишком мучной… обладание превосходством – лишь на этой дороге, почти победу? Наконец, случайное значение – повод обратиться к кому-то.
Она вздувает мой карман почти целейшей картонкой «Бонд» – непрошлепанная распутница во вчерашнем эфире их двора, в перелеске дымов, и за ней на скамье – это богатство, ведь и ты полупревращаешься в дым в твои полубрачные лета, я не права, чудный дикарь?
Вообрази, искатель кладов, и летит другой ее пересмешник, путешествую на службу и прозреваю четыреста сомлевших в пыли превосходных денег! А публика поспешает с ума и никак не подхватит лоскуты тысячи… без иных недосмотренных – вся! Я нашла, что дать ей здесь разложиться – бездарней, чем зачерпнуть. И материал учуял мое участие и потянулся ко мне… Не хочешь разделить со мной – и бесчестье и липкость пыли?..
В день третий: представь, поднимаюсь домой, а масса лестницы в нашем парадном – под массовой информацией: перелет газет. Допусти, что их выгнали из каких-нибудь ящиков – и взойдут еще сто вопросов: кто? К чему? Правдивы ли – не муляжи? Утомительное размножение ящиков… И в моих руках – последние слава и позор мира. Почему тебе не войти в курс разных событий, иногда исключающих друг друга?.. Войти в какое-нибудь одно – явно сгинуть. До чего бездарны ее сочинения, прилагаемые к дороге…
Творческий прием умножение веселья: уминание мелочного торга – несметностью. И на временной паузе в поступленье сокровищ, в узком месте – ничего, зануда-холодильник наверняка бережет для меня четырех цыплят… Речь – на болезненную сухость моих сусеков: – Вот тебе сосуд с подсолнечным маслом, чтоб не усомниться в моих еще семи, можешь даже поклясться, что вернешь когда-нибудь не сгоревшим – конечно, если разбогатеешь… Меня усахаривают: – Скорей засыпь все пазухи, я перехватила у этой струи пять кило, у меня вообще всегда сладко… Она щедрей, чем ее застольная поговорка: наполняйте, наполняйте… что-нибудь – чем-нибудь, какая разница, выбросьте эту проблему!.. Сопереживания, соучастия всем: соседка снимает с моря пенки, а я хожу прислуживать кошкам нашей наяды. Супруг не хочет вместо диссертации отслеживать их рацион… Но сколько кошек? Так же много?.. А что ты уже сосчитал? Кошка-мать и кошка-дочь – обе в годах, а котятами дарят параллельно… Они красивы, крупны и длинношерстны?.. Пожалуй, не так, как докторант. Пожалуй, мать, а позволяйка-дочь – в позволяйского папу Марта… И в день тринадцатый: что, рифмующий улицы, не трещат ли твои пяты? – и я расплющен глубинным острием вопроса. Мне пересыпают прическу. Да здравствует опрощение! Это знак, что сахарные птицы и покатые рыбы плывут сквозь тебя не так связно и усладительно, как мне хочется… что в тебе слишком окопались печали. Или знак, что мое равнодушие к тебе обманчиво!..
Ее телефонная связь с домом: – Скажи, прелестный пастушок, папа уже исчез? В каком пиджаке, в старом или в новом? А какой увязался галстук? Почему ж ты не обратил внимания? Наблюдательность – для художника… Он недоумевает, зачем я звоню? Думаю, чтоб поддержать тебя деятельной любовью и указаниями.
Набеги в дальние и незаходящие земли, и мы принесем оттуда в горстях и в желаниях – дорогому пастушку и всем, кто с нами, возьмем – крупой и в звездах, пусть радости сгрудятся в нашем доме, расцепят звенья углов и впустят еще больше. Возможно, мир раскрыт, пока раскрыт наш дом… Пока в утро, засеянное вкруговую семенами зимы – восхождением к чистилищу, уже исчерпана тьма, хотя в скульптурных торсах деревьев, в их отвлеченных за южное плечо люльках и тамбуринах – еще трепещет вдохновенный лист ночи, тяготясь пройти ветвящиеся сплетения… Пока с той же достоверностью по течению света движется отравленное облако времени и губит все живое… И достоверно решают вырядить елку – в первых петухах Рождества и Нового года, на прогоревшей окраине осени. Кто предал нашу ряженую, чудесную выскочку – фиглярству, сравнению – с кем-то, пожирающим празднующих, что некоторые могут недотерпеть до настоящего? Настоящее – там, где мы и наша радость. По слухам, нынче побеги из тюрем немодны, предвзяты, но кто-нибудь непременно дотянет до побега, нас много и все взаимозаменяемы!.. И тайные интересы посматривают на тех, кто вхожи к прекрасной позднеосенней елке, – кто терпелив? А кто пройдет до срока? Идут – и спрашивают бумаги у всех в полевой военной форме.
Попутное радио, тасуя свои рогатые ульи на той и этой высоте, выводит большой шум на горах: разлитое по камням ликование дикторов, зуборезный дребезг, транзитные композиции из огня и металла, мы интернировали три горы… или героические усилия гигантомании: низложены – сто тринадцать живых организмов, а наши потери – горчичное зерно… Но он – как раз в незаметных потерях? В узком поле неотвратимости не то порученец, не то пораженец с пороховым p и с насечкой праздной звезды… Он есть, он еще возможен – под горой, как зимнее солнце на первой окраине сумерек, в переулочных отступлениях, скрывая низость за домами, – но пока здесь, обнаруживаясь – золотыми околышами верхних стен… Недотерпевший герой, входящий в гору елочкой и сносящий вокруг себя – все, что длилось заученным трафаретным движением….
Фраза для пролога. Как быстро утешилась вдова… Еще не осыпалось с чьей-то хрустнувшей метрики или с серпантинов тьмы – серебро его имени, и пыль еще не выхолила ленты – бархатом, а уже распахнулось окно, преломив надвое улицу, и укачивает ее половины… и сращенная на вытоптанных ступенях вползает, виясь, в гору и возобновляет сюжет. Приплетен прозрачный киоск с царствами цветов: одни в белом бурном руне и другие – с твердым горбатым лепестком-клювом… и третьи, вращающие кровавое бычье око в прозеленевшей глазнице… и четвертые – в розовом пламени печали… И забрана узкошеяя часовня в золотом гребне, и в воздухе, обогнав фонтан, – можжевеловые кусты вод…
Как быстро утешилась вдова! Вот уже ловит в окна – забытый каприс и клейкую сиену чуть не ушедшей сирени, резьбу походок, фланерство… И выносящая из тоннеля дождя муравейники радуг – теснина автомобилей, как спины молящих аллаха… И чей-то голос в притертом к ушку большом телефонном жуке – грегор замза, но такой живой и так переменчив: дерзости, заморозки, и, втираясь на чудной иронии в оранжереи, – кажется музыкой, а чей-то лик уже наполовину смыт… Черствое заикание – как быстро, как быстро, быстро… Все повторяясь, этот типаж – средиземный смуглый тон, маки досад, еще маки, цвет солнца в день гнева… мучительное сокрытие любопытства в широком поле гневной шляпки, зацветшем – маками, зачерпнув – круг… Да, она уверена, что уже видела меня и, возможно, даже не была равнодушна… И я приглашен. Гермы, дымоходы, узкоколейки лифтов, трубы крылатых и прочий лес параллелей. Нескончаемый взгляд комнаты, вращающейся против часовой стрелы.
Несколько высоких голосов, разговоры за созиданием воскресного обеда: я не выношу людей, которые совершенно сознательно себя разрушают. Не для толпы и времен, а – ни ради чего… Я ненавижу, как он с утра до вечера пьет крепчайший кофе и без конца курит, как он успевает лечиться спиртом, как подставляет себя под рваные куски летающего железа… и ращу к нему чудовищную брезгливость… гниющий заживо, разложенец!.. И взгляд в окно, за дорогу. Сектор неолита. Рубило, резак, гарпун. Гигантская каменная рука, забытая Полифемом или самой угрозой. В каменном кубке – неостановимое пламя, давка языков. Инициативная группа в белом и в черном – торжественно, с подношениями огню, обсыпные цветы… Ты смотри, уже третья свадьба. Где они поднабрали таких клоповатых мужиков?.. Ничего, добытый в честном бою крепкий середняк…
Те же, воскресные.
Представь, мы тогда с ней были стреножены жизнью по ногам и рукам… хоть пиши завещание Маннергейма: похороните меня среди моих проблем… ну и вдруг – отчего нам не выбыть на пару дней в столицу и после не сшелушить ее – в заповедном университетском местечке? Та старая дорога стоила пять рублей. Позвонили друзьям в столицу, позвонили доктору, чтобы тут и там – гостиница. И на следующее утро уже были… Столичный люкс из трех комнат – мечта парторга. Два туалета в цветущей плитке – один в прихожей, другой – в спальне, мы аукались… Кабинет в руководящем ключе, гостиная – белый стол на цапельной ноге, яркие, радостные пятна хрусталя, чудеса ковроткачества, кресла-ландо…
Свели полдневный отдых сюзерена – и отплыли в ученые подворья… Являемся в университет, спрашиваем доктора, а нам низачем повествуют, как вчера работал городской пожар и губил гостиницу. И пока мы шли к его кафедре, все вокруг, путаясь в показаниях, волновали нас картинами пожара. Мы думаем: уж наш-то номер – не в сгоревшей гостинице, берут на пушку, доктор – объект интриг. Приходим – и первое, что сказал нам доктор: сгорела гостиница и унесла назначенный вам апартамент – в небо!.. Пришлось дать ночлег – в доме-коммуне, в конюшне на пять туш… Все-таки доктор – неприличный человек! На выгулке этот Парис поднес нам обеим по яблоку. И то и другое – краденое. Самое ужасное – он гордился, что украл для нас оба яблока!.. Реплика вниз: что тебе «дай»? Сначала вытряхни горшок, а потом приставай к взрослым… Слушай, опять я в субботу иду на похороны. Мне кажется, в крематории уже приметили мое общественное лицо…
Эй, думаю, я вспомнила, на кого ты похож. Хотя, по правде, ты решительно не тот… Память дорожает, как жизнь, – во всех интерпретациях. Каждую ночь мне снятся сны: вот еще кто-то не желает со мной разговаривать, и еще… Кому-то из нас надо помочь ремешком – восстановить память или сходство…
Во втором же окне – догорающий гороскоп крупнейшей в дымчатых собаки, помещенной в теннисный корт, помещенный – в высокие стены, переходящие в снежные сети. Темное место для толкования – чем столоваться, где размерзать и спать – ни собачьей палатки-одиночки, ни еды, ни крошек – но много снега, манежа – и манежащее собаку время.
Ты похож на старую сову в болотных очочках – с первого этажа, обычно полупьяную, иногда – пьяную, полущипанную, удержанное перо – вразнотык. Квартира без секретов – барачная раскрытость… барочные излишества: клокотанья от порога, надрывы, тяжкие вести гравитации. Однажды я видела, как двусмысленно она потрошила помойку – за чем-то конкретным и что попадется. Напряженная трудотерапия – поиск, смотр, отскребание черным ногтем, но принцип работ – максимальная прозрачность: в руках – пусто-пусто. Торчит при подъезде и жжет идущих преломившимся в линзах квадратным вопросом, будто сейчас ей объявят, где она находится, как это все называется и – чего ради?.. И еще – вниз: а что, твой горшок – в прежней точке замерзания, с той же начинкой? Ах, уже с новейшей…
Он совсем ушел или не совсем? Я позволю ему уйти и не накормлю мальчика приличным обедом?.. Слышала? Она говорит: в последнее время мои отношения с Богом окрепли. Я поняла, чего он от меня добивается…