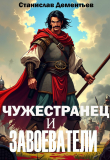Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
– Почему же вряд ли?
– Допустим, не успеете, – предполагаю я. – Вы мастерски разделаете этот сюжет – за горящей межой вашего отъезда. На селения, что кормятся дымом, я не покушаюсь, но с удовольствием оттянусь – здесь. Сделаем хулиганку: наслесарим на местном материале.
Чертово фарисейство! Сроки закрыла блажь, но с отъезда, кажется, сбиты печати? Да, до сих пор мы не прикасались к казусу исчезновение, но собеседующие вполне бесчестны и отнекиваются от очевидного. Их дружбы церемонны и неосторожно мешкают – возможно, я слеплю их с канатной трассой, подвесившей разновеликих друзей над пропастью, но ничего щемящего внизу, по крайней мере – по диктовке беседы. Неуклонные рекомендации – восславить сиюминутное. Ни расписания на будущее, ни веры в людей, кто в любой миг вправе бросить все и испариться. Печься ли о завтра, тянуть старые мотивы, привязывать день насущный – к завтрашнему, если вольный новый выпестует себя сам? Довольно каждому дню – своей отсебятины.
Существует один герметичный случай – вы и я, а ваш отъезд и мои психогении, бурьян в покосившийся человечий рост и прогноз погод: с каждым днем будет все холоднее – за тройным забором, в другом времени – и не с нами. Мы сошлись с непринужденностью, расположили к себе ближние сумерки и осыпали дальние – кисейными квадратами света и розы, хотя хмурый из двух подозревает под нами – большой ветер, и не хватит дна для падения, какой неприкосновенностью ни расцвечивай… Во множестве, к чему мы не прикасались, скорый отъезд – самый множественный.
Я довольна, блеснув перед ним вызывающим низложением и крутой катахрезой, надо показать наставлявшему, что увенчан в поучениях. Но не блещут ли – в полумертвых руинах, ведь со сменой ушей и мест половина соли просеялась, а разве успеет помнить мои удалые мотто – так долго, как заслужили, и цитировать многим?
Возвращаясь из путешествий, я боюсь ему позвонить. В мое отсутствие он мог наконец уехать, и просьба подозвать его к телефону примнится осиротевшим – бесстыдной. По той же причине я не смею черкнуть ему с пути письмецо. Он отрешен от токующих в паутине мировых приветов – только улики: бумага, буквы… ясно, надушены. Но вдруг его уже нет, и мои посвящения прочтут – его близкие? Меня не привлекают эти чтецы. Мне они не близки!
Однажды близ меня стояли мадам Четвертая Молодость, и ее голубые кусты по имени Девять Десятков Ягод, и ее тети кошелки, дяди сундуки и воспитанницы – тумбы четырех ног. Старая перепелица о всем поговаривала с неукротимым пафосом: я написала двадцать свидетельствующих дневников… Можете называть их – наши дети… Наши завоевания и резервы, наша величавая поступь!.. Кажется, она не догадывалась утешить конфеткой – сунувших голову в ее дом. Зато сохранила девичьи привычки: из фантиков удивительных конфет, которыми никого никогда не угощала, она целую жизнь вырезала маникюрными ножничками снежинки, и бросала в конверт, и кому-нибудь отправляла, не обязательно к Новому году, а то и к Международному дню трудящихся, поскольку любила дары волхвов. А после по адресам звонил не то ее муж, не то кузен и подробно объяснял, как поступить с этим чудом. Скорей сбегать за скотчем и прозрачнейшими, микроскопическими полосками приклеить снежинку на окно…
Но кто муж подскажет, в каком городе я живу – в многодневном, неразрывном и прибывающем, чьим дням служат проводниками дубы и кедры, и лавры и оливы, где цветут миндаль и мускатник, орел и голубь, и сестры – гиена и лань? Или – уже в разомкнутом, набран из подтасованных фактов, подлогов, подчищенных документов, где неровный край прерванного пейзажа наспех присыпан золотой пылью, и едва протяну к собеседнику руку – тут же взвоет сирена? Тот и этот двусмысленны, нестойки, взрывоопасны, и часы и календари – звезды с переменным сиянием и опровергают друг друга, заставляя томиться – всем, что встретишь! Грузные кусты, стриженные в купол, в митинг глобусов, так экстатичны – потому, что мой наставник, укрывшись за семью кругами города, как раз сейчас отъезжает – или сгрудились играть в пушбол? Привставший на коготки щиток, штендер у ресторанного входа предлагает банкет и яства-грезы – по случаю отъезда наставника, или – в честь того, что он передумал и остается? Кто поверит, что к шахматному турниру?! А собственноручная приписка шеф-повара: Тема шашлыка – бесконечна, неисчерпаема..? А нацарапанная шеф-ножом добавка: Как и блюда из фрагментов фарша..? Заслонившие рельсы ограждения, нарезки, фрагменты непереходимой черты знаменуют ремонт пути – или то, что этой дорогой проехал господин прощания и отныне она священна? Кем-то забытый, уже ничей синий мяч катится по аллее – сам собой, преисполнен внутренней силы? Или катит – потому, что стогны уже накренили? Но сомнительным лучше с кем-нибудь поделиться – с сапером, с цензором…
Я жажду свалить с захиревших дружб – прослоившие их призраки стародавнего поезда с липкой клеенкой переборок, с неповоротливыми от пыли занавесками на исполненных в саже ландшафтах, с лязгом и хрустом изнуренных скобок и с закуренным тамбуром, отрыгающим – ледяную хлорку зимы и барачную корпию чада. Соскрести нежизнеспособное – и укладывать улицы в серпантин на вчерашние оттиски, пусть восходят все выше – и из каждого окна выкрикивают благие вести. Но если забыть, что любая встреча готова срастись с финалом, с финитой, не прорвется ли в моей речи – незначительное, шушерное, или кичливость, лукавства? Разразись такое, ментор обязан жениться, по крайней мере, не смеет уехать, не предоставив мне новое рандеву, дабы выправиться – и, захлебываясь прощанием, проговорить – не сказанное в прошлом, и заодно – проглоченное в будущем! Но, увы, предотъездные хлопоты тоже не поощряют его всюду носить с собой обещанный мне апофеоз.
Можно объясниться на чужом языке, но, пожалуй – не до испарины, не до схватки, и раз никто не желает помнить, подмасливать – и не обмериться с собственным размахом, почему бы не столковаться – прямо? А если наш цивилькураж вызывает у вас сердечные боли, да послужат очищению и классической простоте!
Я репетирую такой разговор.
– В конце концов, всем известно, что вы вот-вот уедете, и мне, по-моему, не совсем прилично ни о чем не подозревать. Вы могли бы избавить меня от истовой невинности?
Мы сошлись на колеблющемся от зноя перекрестке августа, расслоившем горячей струей – даже слитное, отрешившем экседру от твердыни, и превращена – в неохватное древо с круговой скамьей, на которой украшены солнцем, негой и сплетением рук – люди лета.
Конфидент безмятежен. Наст на скулах его тоже плавит солнце.
– Так объявим наши неудобства – недоказанными или несостоятельными…
– Что, если вы предупредите меня о дате отъезда? – предлагаю я. – Чтобы мы распрощались велеречиво и без промашек, и я не посмела отложить наше противостояние – на потом… на два года и фанатично предаться шагам быстрым и легким, дивной моторике! Чтоб мои разговоры не были опрометчивы и не льстились – покаянием и заменой на обратные.
Два высотника качаются над нами в веревочных седлах и шпилят к башенной стене гигантшу-букву – А. Интересно, что сия призывает? Абрикотин? Auf Wiedersehen? Абсурд? Впрочем, посажена – в центр вертикали, так что возможна серединная А. Представляет – остаток слова, истомленное эхо? Или это – нос лодки и ее переднее сидение, судовая роль наблюдающих уточняется… А может, большие письменники наладились развернуть на стене всю причинно-следственную коллекцию – от альфы до я?
Наш разговор забавляет наставника.
– Найдете особенные слова?
Щебетун августа в венке безделиц – голубых и розовых васильков, маргариток – или в ленточке степи вокруг лба зычно запрашивает кого-то в верхах:
– Ау! Что вы делаете?
Запрошенные лениво роняют из высей:
– Ничего.
Конфидент весел. Из круга, в котором стоит, он сгоняет тростью не снесшие царского жара листы – или вспышки и угли, и отвергнутую чьей-то тетрадью, тоже из желтизны, страницу, в шорохах оправляющую строку: Классная работа…
– Мчусь навстречу, – объявляет он. – Таскать не перетаскать тяжелейшие глаголы! Произнесите наконец, – и примите свободу. Выпалите свой залп сейчас – и поболтаем о чем-нибудь традиционном…
Но что за экспромты – с кондачка, в полдень вымысла? Так, стоические спайки и выверки, фальшивый бонбон: ваше здешнее дело живет, пульсирует, и возможна победа… настал момент все переосмыслить… или сменить насильственным путем… Что за расставание – в городе недостоверных, в ареале лгущих, пред захламленными подзеркальниками, поле над которыми сделано непомерно резкой синей, серебристой, фиолетовой полосой – и не эти улицы свиты в пояс верности?
– Мы вступили в последние воды? – недовольно спрашиваю я.
– Все беседы и пересуды несут слова – в последний говорок, и не переполнится, и не обмелеют…
– Мне бы не хотелось остаться в вашей памяти – с лишней деловитостью…
Он машет рукой. Он произносит Экклесиаста:
– Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у идущих после… О чем мы?
На другом календаре клубится обещанье зимы, и нечеткие оры рассыпают фанты снега. Перекресток выведен в черно-белом стиле сгоревший дом. В мокрых тротуарах отражается бесцветная высь, и вместо дерева в семь объятий, сикомора вечнозеленого – выеденная пустотой стена, и круговая скамья тоже вогнута и сжата – ни седока… Мелькание, лоскутность и рябь, и потекшие пятна зонтов перебили верховья и фланги, существует – лишь то, что притерто вплотную, например – вчерашний автомобиль, на чьем заснеженном багажнике выведено перстом крупное имя: ПЁТР, – и заносится новой белизной.
– Пожалуйста, обещайте, что наша встреча не последняя!
– Вы приходите в кассу и требуете билет на такое-то число, а прожженный кассир решает спихнуть вам – другой день и час. Разве бронировать уж очень заблаговременно… – брови его вопросительно поднимаются.
– Именно.
Где-то позади нас проносят высокое и низкое препирательство:
– Значит, ты такой умный, что всегда догадаешься, куда пойти и что выпить? А отчего этот умница никогда потом не найдет, где живет?
– Да каждую секунду все может перемениться! Посчитай, сколько прошло, ты же любишь подсчитывать – до копеечки, до секундочки… А вдруг я живу уже в другом месте?
– Основной порок, отравивший часть жизни мне и окружающим… – никакого сожаления в голосе. – Я человек настроения и не запасаюсь вперед даже театральными билетами. А вдруг к назначенному часу я совершенно разочаруюсь в искусстве театра? Мне же выжгут душу пропавшие бархатные кресла и деньги – я обычно беру потери в двойном тарифе. Плюс вечные подозрения: на билетный день выпадет – что-нибудь беспримерное, чему мне стоит быть соглядатаем.
– Событием больше, им же меньше… Это, возможно, тем более обнаружит вздорность отъезда. А ведь я могла бы звонить и писать к вам смело…
– Хотите прослышать – ваши звоны и письма стоят свеч? – спрашивает он.
– И сопровождать на регулярные фотобьеннале и в Дом кино, и строить следующие походы… Ведь вся моя неприязнь к вам – единственно та, что вы подвесили меня на тарзанку… – говорю я. – Трепет, который всегда со мной: вас уже нет – или вы еще есть, и как бы не оконфузиться… От житейских неудобств – до дьявольской изворотливости, чтоб остаться с вашим исчезновением – при своих. Если нужно что-то сделать, чтоб вы остались, я готова.
Он смеется.
– С кем-то встретиться и просить обо мне? Изящно стряхнуться на колени? Оспорить – вписанное специальным каллиграфическим почерком, для паспортов и дипломов, в коих ничто не исправляют, лучше – подравнять саму жизнь.
– Вообще-то я не очень люблю просить, да еще у вельможных незнакомцев, где жди неизвестно что. Но если так необходимо…
– Ерунда, из нашей тесноты тоже есть выходы. Скажем, вообразите, что для вас меня уже нет. Или… – он морщится. – Иногда время показывает свою лучшую, чемпионскую скорость, летит рассекающим все президентским кортежем, и лучший его союзник – ветер! А то стоит, как пасодобль, который никто не танцует… как фриз весны, там сажают неспешные деревья в белых и розовых подвязках, и вместо побед в турнирах выбирают участие, а на часах – не стрелы, но вечное перемирие! И выведены на люди – так, полнить общий надзор. Мы с вами можем встречаться под этими часами.
Рядом колышется столп пряных и сдобных благоуханий, кто-то в румяной, незамерзающей будочке выхватывает из огня хорошенькие пирожки – названием «Стрескай меня и даже не думай, станешь выше или шире», но, конечно, вы имеете право прошмыгнуть мимо счастья и улетучиться… и возгоняют горячие поволоки несбывшейся трапезы, и пехтура запнулась, качнулась – на сторону блаженно жующих. Но сейчас, я знаю точно, приспеет тетя в шубке из белого каракуля, мелко подстриженного – в выбранный рис, в рисовую укладку. Сей сытой некогда подсунули черствое или вложили в начинку яд, не вполне ударный. И теперь не устоит, но бросит проклятия сладостям улиц и исторгнет надменный хохот – падким на жирное глупцам, ибо прислана исключительно для поддержки жанра – неуместное слово…
– Вы не находите, что наше знакомство нигде не отразилось и не повлекло никаких перемен в написаниях? – говорю я. – Некоторый золотисто-фиолетовый колорит. Оттенки.
Он спрашивает:
– А что, если вас обманули и я вовсе не собираюсь уезжать?
– Но мне сказали наверняка.
– Не сомневаюсь, эти приятельствующие с вами Наверняка ведают все. Да ведь и я говорю вам наверняка. Рискните предпочесть, кому из нас верить. Возможно, вас обманули сразу обе стороны, дабы вы, наконец, прочувствовали виртуозную прелесть обмана… Или сна? – он рассеянно смотрит на часы. – Но мой сон меня сторонится, едва я приближусь к лунному озеру Совершенства, к совершенной луне, уже настойчиво снится крик петуха и раздувают день… Кажется, я уже помянул это надувательство, говоря, что захочу быть свидетелем?
Ремарка: входит Святая Пастушка с вопросом или с книгой.
– Учтется ли, что мои соседи гуляли по книжному магазину и покупали убедительный фолиант? – спрашивает Пастушка. – И получили! Его меню… то есть его оглавление крайне злокозненно – и ни шорохом не выдает реального помещения глав, но запутывает чтущих и швыряет – то в одну, то в другую сторону, и куда бы вы ни попали, всюду получите не то, что запрошено! Взгляните, часть первую обещает страница двадцать один. А между тем на указанной очковой – кустится введение… должна заметить, это карликовая растительность. Тогда как чаемое золото партии позванивает – с тридцать второй страницы! Я хочу углубиться в главу под названием «Рим», который, как уверяет чертов перечень, пальцем в небо, разбит на странице минус семьсот пятьдесят три… отсутствующей по естественным причинам. Но я распахиваю середину – хоть что-то! – и натыкаюсь на постное подражание, захлопнувшее меня в рыхлое захолустье! – здесь Пастушка почти ликует. – Черные потоки строк, ничего кроме… Нет, я не обозналась! И никак не могу попасть в самое интересное место! По крайней мере, туда, куда хочется.
– Экономим кэш и переходим читать – в библиотеки! – возглашает Эрна.
– Важно ли, что вчера я посетила библиотеку и просила литературно-художественный журнал? – спрашивает Святая Пастушка. – И получила – увоженный, но очень качественно отреставрирован. Двадцать шестая аккуратно склеена – с триста пятой, а дальше врывается сто двадцать четвертая! За коей непрошенной я все же надеялась увидеть – такую же сто двадцать пятую страницу, а меня радушно встречала – скучняга восьмидесятая, и так продолжалось – до… В общем, никто и ничто не утруждает – порядок вещей.
– Мало ли, что бывало вчера? – отмахивается нежная дева. – Сегодня вся эта чушь не существует. Да и сегодняшняя уже свечерела… Экономим время на переходах и отдаемся – чтению в трамвае или в автобусе. Доим только чужое – и уже не сокрушаемся о попранной собственности.
– А финал вообще отсутствует! – выкрикивает Пастушка. – Вы не находите, что книга без финала – как одичалый дом без стола? Как блудный странник без пристанища!
– Одна и та же история, – вздыхает Эрна. – Ваш попутчик, пассажир, странник, ненадолго впустивший вас в свой временный том, вдруг захлопывает страницы, и дальнейшее – ноль…
забывчивость повторяющейся реки
Милейшая старая дама, передают мне, готова встретиться и прояснить для меня частности той ординарной и неотвязной, то есть вневременной коллизии: предательство или внезапная смена ориентиров, преображение, метаморфоза… в своем варианте можно выбрать любую тему, например, представить дело – исчезновением фигуранта, все равно в прежней прелести он больше не существует. Хотя, если кто-то не просматривает определенного лица, значит ли – что столь же слепы другие? Если я упустила след, пока пережевывала образ дитя, развлекая себя чувственными рядами, и с тех пор не встречала исчезнувшего (далее – Невидимого) ни в вереницах полустершихся комнат, уже вошедших одна в другую, как вымытые посуды, ни в книгах камней: хамелеонствующие александриты воздуха, опалы воды, ни даже в снах, так определенное лицо видела старая дама. И пусть она не в силах – по сложению не причин, но зазоров и казусов – сомкнуть сюжет с настоящим, зато – растянуть еще лет на двадцать… Правда, этот ход уже сквозил в одном моем сочинении, а все сочинения суть одно – скудная строка в руку щедрости: старой, как вымысел, дамы с оказией или с непрозрачным пакетом. Но уже – не к замеченному лишь автором персонажу (отраженная коллизия), а непосредственно ко мне, и не с морщинистой вещью, но – с магически плотной массой речи. Между делом затмив получателя – беспрецедентной свободой в его обстоятельствах. Вообще-то повторное обращение не входило в мои планы. Но законы драматургии – что скрадывает победительность драматургии – взыскуют завершенности: жертвоприношения слонов, то есть превратившихся – потерпевшим. Побудка, или воскрешение, прощение – что чванливее глупости не простить? – опаловая крошка, опальные объятия… Точнее – отозвание времени, оскверненного – врозь, половинчатостью или чьей-то светобоязнью, с проживанием заново – в традиции диалога. И если старая энтузиастка приветливо откроет, как кто-то, невидимый мне, был виден – всем, и весьма отчетливо, или – как видимый всеми был не замечен мной…
Ибо меня шокирует бесповоротность – поражение цели прямым попаданием и все, что нельзя корректировать, неустанно совершенствуя и преображая… кстати о преображении. Неосмотрительный лейтмотив: но что-то произошло – и… Здесь – уплотнение, невозможность – репродуцировать… Но в препозиции кое-кто намеривал себе волнующие поступки, а в постпозиции сделал непреднамеренное, и налицо вдруг – колошение трещин в доме судьбы вплоть до полного их размежевания, интервенция немотивированных тел и несистемных элементов… А я уже вдыхала любительскую сладость иной жизни! Дымки дичков или дички дымков в ее подвешенных садах… до слезы обратимы! Ведь распорядись имярек – как предполагал, как предписывало ему что-нибудь: правдолюбие – или оптимизм, мои надежды, парк транспортных средств… Но преломление, разводящее нас, меня и крылатую славу полуслучившегося, все более многоколенно и многолико. Разливая нас временами… пред чьей водой не предположить ли, что замысел приведен в исполнение, но – в другом материале… нецелевое использование средств… в другом масштабе или на невидимом фронте. Предшествовал – и пластично развоплотился, прошел… На межу человеков и птиц, смешавшись с богами… на линию заглядения – ясных шаровых красок и равновеликих полушарий лиц, на дикорастущую черту асимметрии… Но редкие аборигены из того золотящегося распадка событий лишь показывают фатальное вкрапление и нечистоты формулировок. Что, черт возьми, произошло и почему в моем варианте сего свирепствующего сюжета нельзя – ни ремарки…
Но разумеется. Не к запрету ли на правку собственных текстов – я пронесла через сорок оловянных и травяных царств и спасла от пересмотра мою художническую интуицию: никаких затемненных от подозрений, прельщающих мест, где бы он – по инерции, по ассоциации… словом, превзойдя мои пределы, многократно остался. Пока не сообщение о доброхотке, все это время буднично наблюдавшей – Невидимого…
Впрочем, невзирая на оглашенную непреложность и прочерк в планах, я еще собираюсь просить о Невидимом… Рассыпанные до перепада в яблоки облака – или переходящие знамена осени… Улицу Розы, в чьем передержанном и излишне плотном сердце хранятся наши встречи – и на заставках дверей и окон этюдно представлены все, кто мной обожаем. Но сквозь эти жизнеутверждения и невзвешенные пассажи негоциантских особняков все навязчивей проступают дамское ателье, и новый конфекцион, и магазинчик с охотницким снаряжением… что за проводимость! Святой же двор столь необъятен, что, подавив его неритмичное присутствие – в рожденных из бедра дерева козлобратах по колено в опилках, и в голубином оперенье поленниц, и в призраках роз, – процветают позднейшие наваждения: проникнутая английским абрисом крепость и два консульства под крестами и звездами, и выставлены сверкать «мерседесы» или «тойоты»… Тиранить просьбами город полночи, которым я приближаюсь к какой-нибудь определенности, наблюдая из вязких па движения, как летят напиться лилового сидра луны – острова астр, как сошедшиеся с мраком обнаруживают себя – и негасимый страх – пылающими щитами окон… как атланты-деревья, превозмогая молниеносность штрихов, сливают свои громокипящие души – в горловину звездного большака… как пересыпается складчатое одиночество снега… И в случайном повторе тьмы возможен дом, перехваченный радиоголосами и чужими музами, ergo – мой…
Он получил анонс обо мне – с вечерней почтой. Надеюсь, он не смутился собственной щедростью и помнил, что дарованная им жизнь – преходящее. Рассрочка между случившимся (мной) – и описанием, включающим укрупнение, говорит в его пользу – он ждал. Чтоб устроить в моей жизни великолепный, сферический сквозняк – означить место, где недавно был.
Похоже, в последний раз мы виделись в День дарения велосипеда – на трехлетие моего участия в мире, хотя между миром и засеянной в сердцевине, в геенне века войной наши несколько бессердечных предстояний прибиты – почти к самой войне… к сорокадавним провинциям, под призор огня. Возможно, мы встречались и несколько ближе – в День дарения ложки на все времена… Псевдоострый коллаж в стиле пятидесятых: прессшпан, ультрамарин, сталь. На плоском от солнца сегменте улицы он вручил мне узкую голубую картонку с нержавеющими сокровищами: нож, трезубец и десертная ложка. Каковые приобрел для меня – между шагом, не подольщаясь к спесивой двери горы. Но в отличие от дара – опять остался невидим. Лишь жест – длань, похищающая с высот. По широте и небрежности хватившая в воспоминание – сразу два или пять перекрестков, где свершалось: на углу проспекта Парадов и улицы Борца Карла, там стоял полный сладкой музыкой театр и ловил проходящих… в позднейшем – непринужденно перелетевший, вобрав в себя уловленных… и на Неисходимой улице – накануне или на месте побега Розы. На углу реального мира – и более стойкого. Возможно, второй пучок инструмента – и остальные – вручались согласно прецеденту, но все совершенствуясь – смещаясь к более символичным ландшафтам, к помещению лезвия в златые колосья, на поздних перекрестках – секира и меч. Но несомненно – благословляющее нас скрещение улиц.
Детский нож от первого перекрестка был наигран, не продуцируя смыслы – острое, опасное недосчетом… не желая купировать целое и множить ничтожное, но имея – оледеневший лоскут зимних сумерек. Трезубец что-то пронзал и втянулся… Но как только Невидимый воскреснет, я осыплю его благодарностями за ложку – хитроумная плывет за мной сорок лет, из дома в дом – и кормит меня до сих пор. Правда, ее отнесло от таких максим, как – ежеполуденно воскресающий суп, возможно мелькнувший дарителю, зато она безмерна – с растворившимся кофе и с воскресной солью в какую-нибудь картофельную кастрюлю, а некогда – и с мукой, но эта композиция не удержалась. Воистину – ложка на все времена! Хотя не на все яства. Но в целом всегда находит, что зачерпнуть.
И если мне помнится такой преизбыток благословения – столь множественные перекрестки, мы, несомненно, путешествовали – я и Невидимый, то есть видимый всем, кроме… надеюсь, мне достало приличия не разглядывать путеводные звезды улиц или архитектурный облом – сквозь него. Мы бродили по перекресткам мира, с пятого на десятый, и выбирали историческое место дарения. И паломничая по святым местам – и в каноническом образе, и в том, что на этой улице – и на той, что ее пересекает… И узнать ли, кто был со мной – в том апоплексическом миге? Лицеприятный юноша-воин, что сорвал снисхождение богини и безнаказанно перешел долину ада или плантации войны… минутной раздражительностью Бессмертной лишь рассыпав в пути все зубы – усеяв ими случайное поле… и пока единственный, что взошел – я. Или тот, кто летел долиной войны, услужая ревущей авиации? Подскажите, зрячеслышащие, кто – мой невидимый и крылатый сопровождающий? Возможно, и от меня скрытый – той же эгидой: и во мне его охочая и неутолившаяся долина… и ад следовал за ним. Шутник – с новообретенной улыбкой, полузолотой, полуненадежной – опак, каолин, лед? Или припозднившийся из долины студент моей мамы, ее премьерного курса? И отослан с науками – в новые чуждые земли. Перстом несвободы или великодушной независимостью – от рассыпанных будущим впопыхах промахов… Но отныне статус его – Вечный Гость, чья площадка для возрождений – костры солнц в распахнувшейся двери, обычно украшенной однополым вьющимся ожиданием и аппликациями эпизодов с зреющим счастьем, почти заглушившими разъем в стене. И ненадежен весь: он – мгновения, и неизменно – в полный рост, в вертикальной раме, очертившей – иные фактуры. И за те и эти ксении склонен одарить свою дочь, нанизать ей в наследство драгоценные двери – книжным томом, страстью – к залистыванию… к бессовестным образам гостя, съевшим – все мои страницы, или устойчивой тягой к неверным. Прогулять – по перекресткам, прерывистым, как он сам, и подсунуть на дальнюю дорогу – нож (обоюдоскучный меч) и уличную ложку… каковая протяжная дорога превосходит уеденную раму – здесь уже дорога съедает гостя, а посему… феерия самоуничтожения, изящная монохромная нюансировка…
И шепните мне, зрящие не здесь, но – в тридесятую ночь, кто с ним – сейчас? Его случайное чадо нескольких лет, наряженное – в банты, в белое с бутоньеркой в три зеленых мазка – для священных минут бытия? Не подозревающее, что счастье не вечно, полагая: если сбалтывается в счастье лишь по исчезновении, почему – не вечно? Простыв тоской, принимая подношение в нержавстали, когда в доме и ложки, и ножи, и прочие вспоможения – серебро, фамильные вензеля, и не удостаивая дарителя – прозрением… Или enfant terrible, дитя-дикарь, всякий раз с новой силой уносящее себя через горы и топи – от врачебных шпателей, влагающих в горло немоту, от кривошипно-шатунного ада паровозов – вращаемых по боку алых «О»: окровавленный четырежды рев – и от рушащейся на головы черной лепнины дыма… Или по персоналиям: от продавцов и капельдинеров, сброшюровавших мои пришествия и торгующих прогнозом… от спорадичности боковых обводов, разящих – несобранностью… от оград весны и осени, чьи прутья запрудил учащенный лом кустов… Далее – везде, слаженно и оперативно унося себя по частям – в авоське из рвущихся капилляров… роняя фрагменты: детство, отрочество – на подстеленные страницы… швыряя за собой зеркала и расчески: непролазное. Или автор мемуара: тайны – в картинках… пусть скрытность переживают субмарины. И какое сейчас – на перекрестке? Время объявленное – или известное узким лицам, и что заслуживает продолжения? Вечер конца столетия, что разверст меж человеками преткновения – и порывами южного счастья, и насыщенность стен – новой огненной буквой… Большегрузные горизонтали песнопений и пурпура, поднимаясь все выше, засмолив швы прагорода и проголубизны… Или – этот дунаевский дымок от папиросы взвивается и тает… лето благоуханных, взопревших в ампире пятидесятых, в золотом крапе жуков и румбов – с липучек-галстуков растворенных в высях вождей, в полосатых маркизах, волнующих газированные лотки на велосипедных колесах… Цветущие густым марсом дубравы вещей, ввиду моей преуменьшенности – набранных врастяжку… Дубовый буфет, поднимающий плесами полдня – на бечеве или расплетающемся луче – хлебово яликов, ящиков и блещущих пронырливостью ленточных дверей… Диваны-триптихи: царственное центральное тело и две проекции – в голодные годы, деклассированные и мутирующие в этажерки – предлагая спички и сад фарфоровых зверей или приключения седоков: фотокомиксы, оркестрованные зубчатыми раструбами улыбок… Сияние Фавора или Москвы – в версиях флакон и открытая почтовая радость… Диваны-колесницы, запряженные отрезанными от отступления львиными головами, угрызающими – бронзовые круги своя, переигрывая не мускулами, но бликами – с голландкой-печью. Продажный маятник – вихрь деревянно-веревочного седла в портале меж комнат, сдавая комнату за комнатой… Вороньи тарелки с карканьем политбюро и персональные горшки – от крупных нержавеющих форм до фаянсовых миниатюр, к этим – букварь от соседских наследников… А также: равнины письменного стола – горящие вдали плошки чернильниц, опушенное оборванными письменами и укачивающее пресс-папье. Обметанное тронным снежным вечером кресло с дымком голубоватым, дымком от папиросы… И от нижних до верхних створов воздухов, покрывая друг друга рябью, – мухи-цокотухи, пауки, тараканы, мыши, мурластые птицы и муравленные юностью фавориты военных тайн и их команды, похваляясь усами, хвостами, рогами, золотыми руками, золотыми фаллосами… летчики-пилоты, бомбы-самолеты, вот и улетели вы в дальний путь. Вы когда вернетесь, я не знаю, скоро ли, только возвращайтесь хоть когда-нибудь… Эта прекрасная роспись на потолке: прекрасные избиения отроков, белила непорочности, упорство, пузырясь под штыком дождя… регулярно проливаемые лужи зари… И прочие книгоноши.
Но ничто так не сулит мне пятидесятые, как фарфоровые флора и фауна зимних сумерек, сходящиеся по стланику вырванных с корнем дымов – к дымящей реке ностальгии, моющей свою золотую бузу – в черных жилах, в отяжелевших до низости решетках крон. И по теченью перешнурованы в длинношеих стерхов метелей – плещущие надорвавшимся корсетным шнуром березы, и ввинчены в стеклярус инея лиственницы, тающим движеньем – сея головокруженье, и чахоточные рябины в кровавом кашле… И бденья, и рденья в разломах сумрака: кровавая требуха охоты, снежные перья, хрусткая падаль теней… возможны – забранные в козлищ кусты, обхватив костлявыми пальцами головы в сальных кубанках и раскачиваясь… Проталины зари – или фрагменты почти светоликих отроков из той росписи… Величие и зажиточность сумрака, заигравшего, точнее – перекусившего реку… имперские липы и тополя, что восходят сквозь грузные железа арочных сводов – к торжественным подземельным сводам метро, и к низким звездам – рубиновым, каменным.