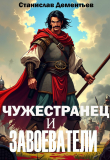Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Юлия Кокошко
ШЕСТВОВАТЬ. ПРИХВАТИТЬ РОГ…
«Разгадка текстов Юлии Кокошко, на мой взгляд, заключается в том, что их не надо расшифровывать. Несмотря на то что ее произведения насыщены отсылами, непрямым цитированием, они не являются интеллектуальными упражнениями, проверкой читателя на начитанность. Не держать экзамен, а просто пить этот терпкий сок, что исходит из текста».
Ольга Славникова, «Новый мир»
«Вряд ли много на свете писателей, о которых можно сказать „его невозможно читать“, и добавить – „это прекрасно“. В моем Списке Ста такая писатель один – Юлия Кокошко. Это ни на что не похоже. Ты попадаешь в зону, где слова интересуются только друг другом, откликаясь на созвучия, на шевеление ложноножек у букв, на… Бог знает на что: людям этого не понять: попробуй объясни тем же буквам, как один человек способен отозваться на россыпь черных точечек в зрачке другого: и из-за подобной ерунды земля начинает выгибаться под ногами: как кошка спиной… Исчезающая, ускользающая, ветхая красота, журчание чего-то серебряного, слово „одиночество“ под языком и подушкой».
Вячеслав Курицын
«Иногда, ощущая в чтении работ Юлии Кокошко размокший вкус почти газетной бумаги сказок Андерсена, чувствуя папиросную дрожь полуслепого Платонова, клюквенный грохот кровельной жести ОБЕРИУтских пиров, угадывая несомненное письмо (одно-единственное в собственном от его отречении тому, кого любовь находит раньше, чем тело), я прихожу к заключению, что Юлия Кокошко получает сегодня знаки своего преимущества за неизъяснимо опасные и столь великолепные качества, которые отметил в начале уходящего века один писатель и без которых пишущий ничто: – за „хитроумие, молчание, изгнание“».
Аркадий Драгомощенко
«Философский реализм Юлии Кокошко… явление почти исключительное в современной прозе, ориентированной по преимуществу на реализм бытописательный, где поэтика заменена документалистикой… Ее проза возвращает литературе роль „совершенного лжесвидетельства“. Это изящный вымысел, глубокая неправда. Слово, далекое от очевидной реальности, не порабощенное необходимостью ученически копировать действительность, само диктует условия и выстраивает художественное повествование».
Валерия Пустовая, «Дружба народов»
«Юлия Кокошко пишет особенную прозу. У этой прозы сегодня аналогов нет, Кокошко занимает в русской литературе место, на которое никто не претендует, и претендовать не может. Ее проза – на той грани, за которой проза исчезает, и начинается высокая поэзия. Высокую поэзию читать непросто… Но читателя, который, сделав глубокий вдох, нырнет в это море, укачает, опьянит, и он утонет в нем, растворится и, возможно, умрет на полчаса. И ничуть об этом не пожалеет. Ибо проза Кокошко прекрасна».
Аркадий Бурштейн, «Уральская новь»
дорога, подписанные шаги и голоса
В подарок Аркадию Бурштейну
I
Дорога из пункта А в пункт Б должна быть убедительна, как легенда, для того, кто скрыл свое буднее я, а имена улиц и здания символичны – лишь в этом плане удастся дочертить ее до назначенной. Затеять исход и вдруг скостить впечатление, что город взят – меж пересекающихся дорог, и не мир – но вольные почты мгновений… А поскольку направление не имеет иного значения – кроме символического, дорога произвольна. Уточнять ли, что сочинитель тернистого пути из А в ускользающее Б – до последней препоны протянул от стойки, которую сделал сам?
Чтобы не затемнять условия, можно вычесть противоположную сторону, сгладив ее – муниципальными лошадиными силами, надсадными моторами… Минус регулярные площадки поклонников, пиковые батальные сцены, и кто-то исконный – издалека, налетая, сгущая, сворачивая каблук и отсыпая часть добычи – на волю, чтоб в итоге поспеть – к сомкнувшейся двери и черной кислоте из-под умаляющейся кормы… Минус боковые организации безобразий: отклонение от листа или безотрадного расположения внешних форм, где случайное ускоряется в путеводное…
Итого: дорога бурлит, и попятная полоса – почти туман. Та, что празднует возвращение, и заодно – очередное доказательство, что пути назад не существует.
Конечно, пункт Б был заявлен не совсем однозначно. Посему дорога, будучи полноходна и калорийна указателями, отнюдь не всегда приводит в Б. Что, возможно, не погрешность ее, но – достоинство: к чему натыкаться все на тот же истерзанный предел? Или сеять подозрение, что кто-то не в силах найти давно найденное и уже заскучавшее?
Как, например, я – в комическом эпизоде названием «Важнейшая встреча жизни», когда на полчаса меня забыли трамваи. Я, несомненно, могла поправить им память – перебросив себя на двести метров и посвятив автобусу, зная наверняка, что на сданной позиции трамвай сразу спохватится о мне, тогда как веру мою начнет укалывать автобус. Но я не бежала из пустыни, ежеутреннего полигона, ибо к каждому трамвай приходит – по вере его. Правда, едва болтливые вагонетки наконец прибыли и подобрали опаздывающих, через две остановки движение вновь упало, поскольку там починяли дорогу, и самосвал густо опорожнился щебенкой – на рельсы, пусть исцеляли автомобильную трассу… кстати о переброске в автобус или в такси. А когда оранжевые жилеты стали неспешно корчевать рельсы из груды камней, то отчего-то раньше взялись спасти бесполезную обратную колею… Встреча разъехалась, и жизнь сложилась самостийно. Ergo: действительное название эпизода – «Сошествие с ложного пути», и пункт Б помещался гораздо ближе моих предположений, и задача была блестяще мной решена.
И разве дорога – не риторический вопрос с оплаченным закатом? Пусть даже слагаемые умышленно перепутаны, кое-что заблокировано жанровой уличной сценой, ошибками молодости, перелетом бумажных журавлей или распродажей костюмов в агрессивном стиле, указующем медленно взять себя на плечо… однако все места – налицо.
Университетский корпус, факультеты математики и истории: завалив классическую колоннаду, еще шесть молодцеватых уровней, окна тождественны – не по любви, но по расчету.
Выше по улице – некоторые жилые домы. Один разведен стилем конструктивизм – меж половинами здания длятся препирательства в пять и в семь этажей… Великий другой – тиран-самодур: эксплуатация каменных излишеств – уточнения сбиваются в шайки диптихов и триптихов, балконы-трапеции в суперобложках – решетки для фигурного сбора горшков, постановка шпилей…
Дальше – проницаемый оку этаж с планетарным фронтом гастрономии: массив услад, несовместный с жизнью.
Редакции и издательства, встающие друг на друга до самой крыши.
Аптека с поплевывающей яды элегантной змеей.
Уличный рынок, отзывающий Флору из снов о дороге, чтоб дарить ей свою любовь – на прицепах, лотках, столах, бочках, и в погребах, и в тайных ходах беспозвоночных и мифах…
Взятие поверхностного, но бурного перекрестка, чьи светофоры изменяют доверившимся – посреди мостовой, так что переброситься в следующий квартал – с провинциальной простотой, чуть явившись, нелепо.
Привознесенное над улицей дневное кафе, но чем выше день, тем прочнее заходит – в ночной клуб, оба названы в честь чего-то, отложившегося от мира – толщей вод: «Титаник», «Атлантида», «У Ихтиандра»…
Осаженная боярышником или шиповником площадь – и в изголовье трехэтажный собор и проглотившая птицу над деревом колокольня с полной гула головой. Идущие к своему Создателю через площадь еще издали начинают кланяться ему и креститься.
Вереница авто, притертых к боковому приделу собора, родня служителей.
Арка пионерского сада или парка – заужена на незнатных телом: долгоиграющих детей – или взрослых, чья плоть выдохнула удовольствия. Вступление с распущенным зонтом заказано, но с дождем – пожалуйста. Словом, ворота, в которые вынуждены входить – по одному. Пред садом – обязательный страж: нищий с гулливым оком, не пройдя ворота – в гурьбе поднятых ветром лохмотьев, а при истертых сандалиях – пластмассовая бутылка с отстриженным горлом, уже вазон – не для капельных, но размашистых жертвований от идущих. По определению – мимо.
И уже с горы – аллея, пионерски алея сквозь бывший сад, дальше – парк, или наоборот. Мелькающие в деревьях дети в позах продленных бегунов, изогнутых лучников и музыкантов. Окривевший фрагмент пути – вдоль игрушечного пруда, где ротонда в белом гоняет по маковке мутных вод – десять колонн, но мостик на остров то ли улетел, то ли строили с воздуха или с воды – те, кому не обязательно топтаться на твердом и подозревать, что ротонда не имеет к себе подходов… Впрочем, в отдельные погоды волна тверда и потворствует рвущимся.
Все описанные конструкции и объемы условно – одна сторона дороги, которой из пункта А в пункт Б вышел путник. По крайней мере, оставлена в памяти – сочинившего и связавшего кое-какие участки, что наблюдаются порознь, но любят служить друг другу – отражением процветания: в А что-нибудь нудится в прожекте, а в Б – уже пышная плоть. Не исключено, что беспамятный, большой весельчак, старался не опростить задачу, но смутился вообразить нескромно – и встроил картины возвращения в просветы устремленности к цели, консервативно помещаемой впереди. Возможно, в пункте Б отразились постройки и концепции пункта А в неизменном виде, но поскольку сложились – в зеркале… ну и так далее.
Однажды сестра позвонила брату на университетскую кафедру и просила его – быть из пункта А в пункт Б, то есть – к ней, дом немедленно по скончании парка, и чрезвычайный разговор – сразу над дорогой… И между прочим, Сильвестр, сказала сестра, и голос вошел в таинственные значения, будет кто-то, о ком ты и думать забыл… а может, ты только и думал об этом, поворовывая у речи все более влиятельные слова и навязчиво перестраивая порядок…
Брат своей сестры Сильвестр принял опытный зов в середине жизни, и с ним – лес сумрачных колонн в окне, и с ними – студента, почти потерянного на гуляющей стороне: не то в чреде скитальцев и привидений, не то в паре универсальной обуви – на любой ход сюжета, и успел отнести к нему два неурожайных вопроса. Счастье легко, авторитетно объявил Сильвестр – сплющенному скоростью собеседнику, если я не всегда могу наблюдать – вас, то часто вижу тот нечернозем, на котором вы выросли, и развязным росчерком зачел его – в развязных счастливцах. Кто спорит, вы еще безнадежно возрыдаете, что мои семинары не стали для вас вторым домом и уже снесены с орбиты. Вот кровавая месть – не местечкового ученого, но судьбы… ее рабочий момент, так напутствовал Сильвестр – опять нисходящего и посмотрел свои очки на свет и нашел в них много света. Но сестра настаивает, продолжил он – собственным очкам, и разговор и исполнители – исключительны, а я как раз из них. Или очков у меня – кот наплакал?
Исключительный брат Сильвестр, он же – простой строитель дороги, летописец ея – или сочинитель – застал свое построение в голубейшей трети запоздалой весны, сразу по торжественном оглашении Старой Победы, чьи улицы пересыпаны серебрянкой, бельмом, нафталином и детали заверчены в папиросной бумаге, хотя иные прикрыты условиями задачи. Ведущий уличный след – подковка: сережки от тополя, окрас багрянец, хруст и клей под ногами, и подковки берез – детская зелень, и прочие сверху – рожок, коготок, янтарный мундштук. А деревья не так в одеждах ночи – в стигматах и шрамах, как уже – в орденских шнурках и звездах, точнее – в мошкаре запонок, медных кнопок и пуговиц, хотя натощак, животы под ребра. Пудры, гримы горящего антре, и резкость – на вербном помазке, на фитилях, пуховках и корпии, перебрасывание от скулы к скуле, а все неотвердевшее – ментол и голубизна. Каковая пиромания и нечистота и частота ее крыл подпускали Сильвестра – и к сожжению старых разговорных линий, и к возможности – подмахнуть.
Когда брат Сильвестр покидал университет, дневные занятия истекли, и фронда, глухота и быстротечение сошли в колоннаду – освобожденные студенты в лохматой оснастке: бутоны наушников на кудрявом стебле, а к ним три серьги в одном ухе и очки с розовым и с синим солнцестоянием – то взлетев на лоб, то присев на цепочке на грудь, и по корпусу – рюкзачки и плееры, и подвешенные за мышиный хвост телефоны, а у голодных – пейджеры. Длинные дымы сигарет и такие же всплески назначенных ветру волос, крашены в огонь и в горный серпантин. Объятия и почти танцы, и посев на корточки и на прямое обживание камня в подножье колонн.
Молодая толпа посвящалась бесчестью между обороной и нападением, а также многосторонним флиртам и обзору чужих козней: звукоподражание Опыту, а гремящую по кассетам музыку – стиль подвижки в груде металлолома – вдруг сбивали классические цитаты: пущены из телефонной стаи, наэлектризованы и исковерканы… На вздохи ложилась проклятая курсовая, увеличена – лишь названием… Где бы мне зажечься для научной работы? В стриптиз-баре?.. Странное послушание: переписывать чужую книгу, уже изданную и трижды проданную… А монахи в скрипториях?.. Нельзя быть монахом меньше, чем я… Знаешь, каков у меня остаток от бесед с наставницей? Будто я пытаюсь сдвинуть шкаф многодетной семьи, забегаю с той и с этой стороны, упираюсь головой и всеми конечностями. Но в лучшем случае удастся подскрести угол! Шкаф – весом в ее лета… в ее склероз. Говорят, ректор лепил ей на юбилее: о возрасте женщин вспоминать не принято, достаточно сказать, что ее разработками восхищались еще наши деды и прадеды…
Молодая толпа философствовала: ведает ли художник о природе творчества и конечном продукте? Я решил взять конкурс плакатов против наркотиков – и намалевал им лестницу ангелов, а мне вменили грязный подъезд в окурках, шприцах и дурных надписях… Кто-то кричал в телефон: ну, мама, я же уже в автобусе – на подъезде домой… и свободной рукой перекладывал из своей поглощенной заклепками куртки – в общее пиво. И еще на вздохах: где срочно заколотить две тысячи? Не хватает на расширение границ. Хочу, чтоб моя юность мелькнула в достатке… Ты слышал, староста сорвал стипендию от какого-то олигарха?.. Написать анонимку богатому придурку – что вкладывает не в то тело?..
А рядом, прикусив колесами нижнюю ступень и сам себя очерняя, притулился горбун-катафалк – транспорт безнадежности. Одинокий пассажир его держался задачи-минимум: молчать на самой нескромной планерке жизни – и задачи-максимум: скрыть себя из глаз богов и героев, ибо вряд ли был герой – но скромнейший вкладчик в общее дело, наша умеренная гордость, потому что не подняли в актовый зал, ни даже в нижний холл – всякому по мелочи его: этому – на вершок из кузова, и лишь четверка древних женщин встала пред узким красным фаэтоном в черной оборке, где оцепенел напряженным молчанием к улице – калика перехожий с разбираемой сквозняком седой шевелюрой и серебряным лбом. И зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы…
Дочь смежной науки Большая Мара нашлась пред Сильвестром – телом сверхурочна, абрис колеблется, голова продрогла в циничной стрижке «мы из тифа», а крашеные ресницы сострижены с черной оборки на фаэтоне.
Кто, кто это умер? – спрашивала Большая Мара. Вы его знаете? Я никогда не видела… И заслушав извлечения из молодых текстов, говорила: неужели в их годы я была столь же корноухой и аукалась с пошлостями, чтоб насандалить сленг? Отчего-то нехорошо видна ваша завкафедрища?
Погубила на защите чужую аспирантку, – отвечал брат Сильвестр, а после узнала: родитель несчастной – магистр черной магии, и почуяла: в природе против нее что-то сбивается, надо таиться…
Молодая толпа веселилась: наш декан подарил мне во сне билет на Голливуд всех времен и народов!.. В его сне или в твоем?.. Важная разница? Сидим в кино на разных концах ряда, и на экран ему смотреть некогда – все оглядывается, нет ли где жены, или родственников жены, или соседей… Видит, вроде на лицах ни одной знакомой черты. И давай занудно меняться с каждым местами – подбираться ко мне. Наконец пересадил весь ряд – перегрохотал всеми креслами, и тут мы бросаемся друг к другу в объятия, начинаем целоваться – и нам тем более наплевать на кино всех времен… Он хватает портфель, выбегаем из зала – и на выходе сталкиваемся с его опоздавшей женой…
Сзади говорили: а на третьей паре курения я подслушал жирный анекдот. Помер какой-то литпердун, рифмовал советские лозунги, а вдова гонит, что муж – гений, столп мировой поэзии. И теперь подбирает каждую салфетку и каждый памперс, где великий забыл запятые, полный отстой… Ну пусть старушка развлекается… А если завернуть к тетке и за недурную сумму накропать биографию гения? Вот тебе и реализация грезы!..
Погребальная колесница, не притертая к близости молодого смеха, слушала – и отзывалась собачьим подвыванием и брюзжанием темных стекол, всхрапом углов и зубной болью шурупов, молодые лица перелетало любопытство к чужому и дальнему сюжету – город, уже присутствующий в бинокле, но еще не настал въяве… И бежали притчи дня, и сладок был остров здешней весны.
– Меня мутит от их дезориентации, – бормотала Большая Мара, и обмахивала ствол носа розовой пылью и бросала пудреницу в сумку. – Он, наверное, кто-нибудь – из хозяйственных частей?
Древние плакальщицы уже входили в тополя – и растрясали пожелтевшие от старости, почти яичные слезки, а может, превращались в созвездие, и только крайняя – высокая и уже плоская плакальщица в черном газовом шарфе поверх бесцветных волос – иногда протягивала дрожащую руку, гладила серебряное чело ново-пилигрима и бормотала: почему, почему это слепое весеннее солнце не может в последний раз согреть ему лоб?..
Мара доставала сигарету из пещер вязаного жакета, желт и ядовит, и говорила Сильвестру:
– А товарищем дьявола на моем пути опять будет дым. Ведь я могу вас уведомить, что отправляюсь домой?
– Блаженствую с вами, – отвечал Сильвестр. – Много дыма из ничего.
– Мое сообщение разумней, чем вы отнесли. Сейчас кафедрально ликовали по новому явлению профессора. Как ни весна, нипочем не забудет переродиться. Чтенье на разные голоса телеграмм, адресов, тосты с лицемерными образными сравнениями и графоманские рифмовки. А к ним алкоголь и приторные калории, проводники диабета. Наконец перешли к черному напитку. И, видя, что стол – большая уже зализанная рана, всякий в едунах между делом звонил домой или кому еще – анонсировал радость своего скорого прибытия. И только мне некому было телефонировать и сделать счастливым.
– Ничего невозможного, – сказал Сильвестр. – Со следующего триумфа можете звякнуть мне и обрадуйте, что вы не заявитесь – ни сейчас, ни когда-либо вообще.
– Вчера радио и телевидение любезно оповестили, что центром празднества Победы была Москва, – сказала Большая Мара. – Мы, правда, тоже силились поднять наше кое-что – до высокой драмы. Но нам не удалось вырваться в жизнь. Бытие – дымное шоу. Родина – суррогатная мать.
– Возможно, у нас настоящая смерть, – заметил брат Сильвестр.
Пока Большая Мара обмеряла взором погасший катафалк, ее сигарета тоже гасла – и товарищ дороги бежал от нее. Вокруг меня сгущается бесконтрольное зло, – бормотала Большая Мара, – ворует газеты, даже мусорные рекламные, сковырнуло дверной звонок и выцарапало глазок, теперь ни зги, все замки барахлят, а краны бьют хвостом… И вновь бодро высекала огонь и возвращала спутника.
– В первой молодости я, как вы помните, училась во вполне элитарном заведении в самой красной зоне планеты. Хотя зачем вам помнить… – говорила Большая Мара. – У нашей группы был выдающийся куратор, жаль, завершенный геронт. Некоторые вехи его судьбы шли в затемнении, что заставляло подозревать его в крупных неблаговидных деяниях…
– Почему в крупных? – спросил Сильвестр.
– Соразмерно его личности и моим фантазиям, – сказала Большая Мара. – До тех пор мне не встречались столь блестящие собеседники. Я положила навсегда запасть ему в душу. И старик в самом деле считал меня лучшей в учениках. Мне нравится думать за него так. И жаловал мне больше себя, чем остальным прилипалам, и провидел в сильных эпизодах. Наконец годы штудий позади, я сдаю мастеру все посты моей души, как Корея – Ким Ир Сену, и съезжаю в провинцию… сюда, где ни вы, ни мы не видны жизни. Сокурсники сидят на передовой, совершают прорывы, а талантливая я иду по судьбе автостопом и коплю мелкие отрезки. Бывая в столице, я никогда не звоню старику, как ни тянет поклониться. Не время, не время, говорю я, мастер может во мне разочароваться, и я уже не успею поправить образ. Из года в год я собираюсь нанизать подвиги и лишь там ладить связь со стариком, а мягкие ткани моего лица пока опускаются… И однажды подлое зеркало намекает мне, что старику – уже хорошо за сто.
– Желтый цвет безнадежности… – произнес брат Сильвестр и заботливо ровнял на Большой Маре ядовитый ворот, сгоняя тень.
– Ни больше, ни глубже? А мадам в черном пальто, перешедшая Тверскую в компании желтых цветов и читательских миллионов?
– В двадцать лет я был подвинут на край отчаянья… Конец света в отдельно взятой персоне. И в памяти – последний миг: февраль, только что почти весна, но вдруг – метель, и такой крупный, снотворный снег, будто полчища птиц от хищника-Хичкока…
– В небе этого города торчат только черные и серые птицы на паре имен. Но тут вы видите – снежно-белую, и это уже нервирует… – сказала Большая Мара.
– Я сижу на полу пред окном в метель и курю. Шторы все связали в свою желтизну – старую «Спидолу» у меня на коленях и покрывшую ее пыль, где выведено пальцем – завещание. И выперший из передатчика длинный, тоскливый саксофон… такой желтый. А в воздухе – висячие ржавые сады дыма… Хотя не исключаю, что Элла Фитцджеральд дарила мне тогда «Ночь в Тунисе»…
– А завещание, конечно, – полная компиляция, – говорила Большая Мара. – На ваш отчаянный зов никто не отзывается из глубин дома – вы в герметичном одиночестве… Из глубин – читай: из непристойно пожелтелого фильма… читай безнадежно: из кухни. Ни свежего запаха кофе, ни тонкого аромата ветчины. Кстати, всегда с вами – нимфа Эхо.
– Но вдруг много лет спустя вам звонят и обещают, что стоит преодолеть жидкий сноп кварталов – и… И абсолютное страдание обезводится…
Возле дома из двух половин, ведущих свой интерес – в пять и семь этажей, брат Сильвестр равнялся с крупным котом: масть – ночные оргии, глаз сценично заклеен слипшейся шерстью, ухо скошено, а на шее – белая вспышка или сорванная удушьем бабочка. Кот не глотал дорогу, но маневрировал и брезгливо выбирал в тополиной и березовой стружке, где выставить лапу, и Сильвестр восхищался отважнейшим, смело сделавшим ход вдоль улицы, полагая до встреченного артиста ночи, что кошачьи продвигаются – поперек и у ветреного семейства не бывает длинных городских планов… А может, сам Князь Тьмы разрешил Сильвестру догнать себя.
Два учащихся средней ступени, один румян и упруг, второй – суставчат и удлинен, меняли науки на труд и гуляли под стеной продуктовых композиций, пронося на себе рыцарский доспех не с гербом, но с манящим посулом: «Мгновенное фото – на любой паспорт». И в рабочей скуке – от коляски с кока-колами, жвачками и шоколадом до павильона с наросшим на стену факелом – не гриб-паразит, но рожок крем-брюле – сталкивались и бодрили друг друга тумаком.
Двое иных, давно живущих, длили посреди улицы или посреди Старой Победы непереходный спор. Один был – воин-победитель, хотя тщедушен и в соломенной шляпе, подсидевшей и желтизну, и солому, зато не спешил отпустить вчерашний пиджак: ни подпоротых рукавов, ни впалого нотного стана Победы, где спеклись в коричневый аккорд звезда и медали и шестнадцатые знаки других геройств, и упирался в тряскую палку, она же – лыжная, с серым наручником по запястью воинственного, чтоб не бежал. Вторая победительница несла в себе зычное горло Фабричный Гудок – и стоячие, как графины в парткомах, глаза тридцатых, и жесткие кожи – в складки не гнутся, но сразу ломаются на сгибах. Белые космы пролетарки равнялись горшку, гребни на затылке скруглены в рукояти, и согбенная спина слиплась в несколько кофт – и в дух кислых баулов и закоулков, переложенных лоскутками с пуговицей от давно сношенных одежд…
– Только вам поблажки! – кричала Вторая, и большие деревянные бусы вспоминали у нее на шее тюремный перестук. – Только вы плати за квартиру – горсть песка, который из вас же и сыплется! А нам ни пузо набить не надо, ни одежкой прикрыться, ни внучке карамельку, все отдай родине за протекшие хоромы и за то, что штукатурка с потолка валит мимо, а не на голову, как из голубя мира. А других палат не выпросишь, сколь ни живи!
– Мы фронтовики! – гордо бросал свой задолбленный текст полустертый Один, и глаза его силились всплыть из топившей веко голубой слякоти. – А вы в тылу гуляли, никаких вам геройских наград не положено! И пускай к пионерам вас не зовут, а то им еще наплетете с три короба!
– Гуляли?! По шестнадцать часов у станка гуляли, он тебе кавалер, он тебе и насильник. Да без выходных! А попробуй опоздай к кавалеру хоть на минуту – засудят… – выкрикивала Вторая собственный многолетний текст. – Начинай в семь утра и труби до трех, полчаса свободы – и дальше, пока не стемнеет в глазах – в твоих или в глазах у небушка. Заучил: «не положено»!
– На передовой – всю войну! До Берлина! – не отступал полустертый Один, и голос его качался, и лыжная палка в руке натрясала почти походную дробь. – А в вас что, стреляли? Убивали вас? Руки-ноги отрывали? Я смотрю, у тебя и эта ножища на месте, и эта балетная где надо…
– Вся жизнь враскосяк, ни учения, ни другой земли, и зубы не покажи… Потому как и нет уже зубов! – выкрикивала подкисшая Вторая. – А ты сколько лет живешь, а все ни черта не понимаешь! Какие тебе сейчас пионеры? Откуда?
Чье-то окно раскрылось в раздольный пробег весны. Там тоже еще ублажали победителей, и ящичное радио проливало свидетельскую песнь, что по берлинской мостовой кони шли на водопой… Рамы перелицовывало на сторону, где дорожились пыльным шиком вышитых накидок и стульями с гнутой кошачьей спиной, чехлами и нарукавниками диванов, потрескиваньем цветов иммортелей, толстозадыми масленками… И брат Сильвестр вдруг вспомнил, как на давнишней двухъярусной улице, теперь поднявшейся в паузы и подобия, за ним всегда гналось видение комнаты на весенних сумерках – полукруг медленно отходящего мраку стола, чета нагретых лиловым воздухом чашек и блюдце в звоне печенья, и тесный поднос с высокими металлическими ручками, с растрескавшимся стеклом, а ветер уносил в трещины и лепестки желто-синих цветков, и захлесты летящего над ними черного стебля… Рядом подстывала в продымленном орнаменте совсем темная шкатулка для ниток и пуговиц, с картинкой на крышке: женщина с узким трагическим лицом прижимала к себе золотоволосых детей – малыша в пышной блузе и гимназиста, сохранившего за столько времен – железную пуговицу грудного кармана. За плечами троицы шли старинная овальная ночь и не город, но дальний лес.
Царственный синий бык – автомобиль «Мерседес» – выбросился к берегу и сверкал племенным крупом. На заднем стекле загорала табличка: «Состояние идеальное. Обменяю на дензнаки». Дивная Европа сошла с быка, и пустила ему надземный поцелуй, и, выпрямляясь, сверкала свежим тропическим загаром, и качала кинжальную линию и бедро. Дивная кипела энергией: плечи назад, талия защелкнута в солдатский пояс и в серебристую надпись: «Don’t touch!» – не прикасаться, шаг широк и высокие каблуки вонзает с визгом. Но подчеркивала в жизни брата Сильвестра краткость сущего – и пересекала тротуар, чтобы скрыться под аркой, оставив на две понюшки – сладких эфирных токов и беспокойство о запертом ареале ее поцелуев и общее недомогание. Арка во двор была атлетичная птица гриф и существовала в широком плане – до третьего этажа, и дом тоже проявлял себя под грифом запретного: строй телохранителей, в дальнейшем пилястры, над ними стеклянные ниши подъездов – ссыпая колодцем ледяной рой облаков и гнушаясь снизойти до земли, а по карнизу третьего этажа катались пушечные шары. Двор откладывал художества на безобидное расстояние – суховатость озимей-цветников в автомобильных покрышках, утеряны инопланетными транспортными гигантами, педантично-ступенчатое счисление турников и качелей и футбольные поля золотых песков, входящих – в глотающие детей дюны.
Вступив в следующий квартал, брат Сильвестр отмечал, что этот утвержден на местности крайне непрочно: полуприжат баллонами с летучим – и торгующими и торгующимися, полуподвешен – на слепые лесы, на шары, стартующие в кусте и в монофигуре большое продажное сердце, так что над головами прохожих парили их потрошки, на которых парились пикантные надписи – также из внутреннего, бесцензурного мира. Фигура должна располагать, замечал пеший – в обходивших Сильвестра с кофрами и бочонками объективов от редакций, растущих друг на друге. Но крайний шар был – божья коровка на черном брюхе, выгнавшая паучьи кущи усов и лап, эта полнила – танец живота. Увеличился спрос на усы и лапы, говорил пеший в черном вязаном колпаке и в наряде полузамкнутом или недоразоблачающем, возможно, пуговицы его как крайняя плоть одежд прошли обрезание, чтоб колпачный до последней изнанки посвятился улице. Кстати о большой лапе, толстяк. Сосед решил отвести от работы струйку гелия и надуть своим грудникам шар-гигант. Гелий мирволит коричневой таре, а мой хитроумный понес – в синей, чтоб не уязвить стражника. Месяц обдумывал, чертил план, запутывал цвета, крался, наконец, представил в дом, надул – и в ту же секунду шар лопнул… Пеший слушающий, объемов мучительных, был колышим влажным хохотом, и ворот у него на плечах глянцевел – наполирован отложными щеками. Добавь к сюжету, пыхтел он, что страж был дальтоник – и не видел концептуальной разницы между коричневым и синим.
Над дальними крышами уже восходил купол собора, или голова громадный золотой рыбы, заглотившей наживку – крест, или новый воздушный шар – и рос на солнце, слепя глаз, и мерцал в раскачавшейся дымке, и тоже почти летел.
Брат Сильвестр отводил взор долу и тут же провидел, как формируется эпизод трагедийный и даже аллегорический. Избегая кучной инфантерии и скрещенных корней весны, человек-возница с багровыми скулами, почти рикша, избирал колею на скате с мостовой в бахромы тротуара, и вез лицом к себе инвалидную коляску и в ней женщину, утаившую мертвые колени – под штормовой спецовкой. Преклонная калека не сводила с везущего расплывчатых глаз и улыбалась, показывая металлический зуб, оба странствовали вприглядку со сросшейся любовью и столь же былым доверием, а колесо, при хорошем развороте мелкое заднее, теперь – передовое, укрывшись от толкача и сиделицы, шалило на сторону, рассвобождалось на кривые окружности – и все ближе откатывало от коляски к крушению, о котором никто в компании не подозревал.