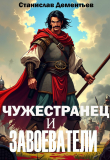Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 21 страниц)
В третьем же окне – вертикаль желта, ночь нежна, узость тропы: лунатик, забирающий гору, и по мере подъема человека-осла – и взирающего на него свысока и все выше взгляда – сливаются в целое: шестиконечный кентавр с общей дынной головой-луной и… что еще не забудут в номинации осел? Правильно, лиходейские призраки слуха: затяжные и добросовестно глухи.
И последняя фраза из потерянного отрока, окрыленная новой прелестью и лестью: как быстро утешилась вдова… И если та, о ком столь пышнословен брат дымящейся собаки и убывающего в полынь и олово квартала, он же – друг староиспанской или скороуличной пьесы… например, жизнь есть сон с неуместной цитатой о третьестепенном: Клотальдо умрет от раны… даже если воспетая прогульщиком Почти Победительница не победится его вдохновением – и никто и ничто, рохлец-сочинитель просочится сквозь червоточины стен – к железным помощникам, печатным затейникам, и удлинит свои неурожайные вести – и щедро бросит в чужие, и без него брюхатые почтовые ящики. И пусть мученичество и иные знамения утекли из нашей среды, и среда не бывает всегда или дольше среды, и совсем не та дверь тяготеет к самораскрытию… да поглотят нас неунывающие процессии, слияния с близкими формами – камни, земноводные буквы, и осыплет нас сладостью или дикостью яблочко-ранет.
– Назначенная к превосходству степеней зима…
Я возвращаюсь в кружение веселой желтоперой газеты – при летнем западе неба и зимней его слепоте, когда предшествующие редакции этажи бесповоротны, выкипев – дочерна, под нами выложена пропасть, и снизу поднимается забвение. Лишь в раешнике, милостиво приближенном к луне, сохраненное в цвете и какофонии – дело о скоротечном спасении дня, удержание вырванных адресов – размноженным оттиском или раздвоенным следом. Успешны тарарам и тамбурин. Прибитые друг к другу компьютеры – в сужающемся на штурме тройном кольце барабанщиков, стрельба с бедра… Инсектарий звона – всеугольные телефоны и выползшие из жуков пейджеры, вдруг оживляясь – в фортелях одежд и на выбросе, сея свисты, жужжания, трель. Вьющийся из ушей сорняк проводов: наконец раскручивают – собеседников полдня, догнав – до нитки, до канвы голоса, заодно низводя до пантомимы – вечерних… здесь – замарашки-глаза и приставшие к ним нечистые беспокойства: о правдах, о догмах, сильнодействующее вещество доброжелательства… И, не выполов из уха сорняк, меняются мнением кричаще и вопиюще – сквозь чье-то сбегающее с бегущих кругов диктофона или… в общем, в круг пыли, но корневое: я веду напряженную мыслительную деятельность… так сбегает глория мира… над захватывающим отчетом: после утопления трое были оживлены… а с параллельных кругов с грохотом упадает железная петля рок-н-ролла. Идущий локомотивом со стен – рекламный альпийский снег, и из тех же глубин скачут кузнечики желтых пустошей, растрата полукружий, астмы… Курчавые преувеличения интересных фотографий… Я не расписываю шум от третьего по двадцатого молодых веселящихся – непреходящее вопрошание: кого сегодня прессуем? Пора толкнуть ситуацию от сложной – к резкой, сделать народное волнение… Какие наши связи – с шефом связи? Налететь – или пусть мафиозничает?.. Выскобли из него планиду. Пожуй его последний вздох, почувствуй его… Как чинопочитается старый и потный жиран, который дал прессуху в «Гранд-Отеле»? Который целый час заговаривался? Я хожу в «Гранд-Отель» на все их капустники, там ломовые закуски… Дежурный редактор вызревает из вчерашней игры, прогоняет ее наизволок, с гончарным гулом, с глинами тычков, и обмочившая око моченая фиалка… Кто был на массовке коммунистов? Наторговали хоть тридцать три головы? Хватит о замогильном пятьсот знаков, пихни их на заднюю полосу … в расплавленное стекло… Этого алюминщика уже исключают из письма и оборота, можно гасить и давить… И попутное: что на тебе за платье?.. Я бедна – вот прикрылась, насколько хватило. Если – совсем никак, пересмотрите гонорары… И трясут муз: ау, синоним к слову продажный!.. Заветное – в распев, через всю редакцию: сколько тебе втерли в лапу за этот материал?.. Или: гляньте, построился у телефона, информацию сливает!.. Вопль отчаяния: положите кто-нибудь трубку, дайте мне набрать родину!.. И еще пурга производственного… Воссевший на новости – или привязанный к трем стволам расходящихся полос, разрывающий себя на густые столбцы, черные и желтые, портерные и имбирные, вносит в общее дело мысли вслух: последняя гражданская жена министра хочет первую премию в танце… Мэрия ворует на полную грудь… Повесьте на первой колонке главного энергетика!.. Фирменный ужин: застрочившая монитор лапша, она же – скороспеющая в посуде не то для чая, не то для розы… Другие трескучие пальцы врываются в сладостные хлопья, запятые, кукурузные гусеницы – и снова скачут ливнем по бутылочным горлам и лотошным бочонкам азбуки, по крупам золотых и сургучных пони с бутылочными глазами и пенной душой – всюду вита. Дежурный редактор оставляет тут и там – рассекающих путь его: ареопаг лошаков, вскипающий абрис, и запеченную в отребье пуха и желтухи, иглы, контузии – шарманку вечера, и разнеженную линию шалости и лжи, и розовоперых голубок… и, промедляя борт на Киферу, приближен к взрыву, вздувшиеся линзы – в консервных банках очков: бомбаж… Алло, я хотел, чтоб ты выписался в девять, а уже полдесятого… А уже – круглое десять… Одиннадцать, ножи! – и зрачок через линзу поджигает пишущего – от прогоркшей между звездой и вороной макушки, по отрогу рукава и ложбинам – пунцоволистой ветвью. Теперь сойди с нагретого, я набью однословное резюме – или это писание умрет… Но вызов художника, уже клейменого и зазубренного: чем резать мою руладу – твоим общественным мнением!.. Пауза… вдруг поднявшийся шелест облетающих стену часов с настойчивостью песочной горсти – в стекло. Собственно, мне ведь близки твои позиции…
И хотя извилистое движение дает крен – к иным ночным финалам, но вода звона и крика, натекшая в канавки пройденного, в развязавшиеся оправы и за краги углов, и в жерла зевоты и прочие водоносы – уже новое вино…
Этот оставленный солнцем этаж, где разбивают сердца и по мелочи расплетают иные сосуды, или квартал, брошенный Имяреком – на господствующих высотах ночи. Раешник – над титульными повозками бурных фасадов и посадами заложников, над каменеющими в спиралях рысями переулков… и подмявший рысь тяжелый, лоснящийся скот Желание… и над слабогрудыми зеркалами, закрученными впопятную и накрытыми – стеклянной недостроенной башней…
За столом, до меня уже избранным – крупнейшими: круговоротом комедии, праведностью, мелькнувшим входом в Аид и линейными постановками Художник и Власть, достигающими в размахе – ста разверстых ртов глубиною в гром, и полдневным метеорным дождем тенниса… за серединным столонаследием меня обстояли – вздорные формы луны. Хотя очевидные, веерные – бердыши, алебарды, туз, наконец – Голем, сникая в жеваную записку, в ночную спиртовку … все ежемесячные тридцать сребреников луны, выставленные мне за угождение злу, – несомненно, были мед и амброзия… если не были пресны, и слишком дырявы и кислы – от местечковости. Если не походили на лихорадку искр, на искры звезд над Мелеагровым поленом брошенного квартала…
Но – к более зимостойким формам: луна – как возвышенный монолог о потерянной зиме и мертвенность – потерявшего, и зима, нервно скомканная… Луна – как ведущий к спасенью в ту зиму пожарный зимник – над моей полосой охоты. Небольшой выход из себя – в высь и…
– Над газетной корректурой, полосой верстки, на которых вы из вечера в ночь… как тот мелькнувший гомункулус, злобный болван, с механическим метром жующий разнузданный текст, конечно, он не случаен. Однако вам угодно украсить вашу застольную песнь – гранатовыми зернами стыда и жемчужным рисом лжи…
– Неужели вы еще здесь?
– Возможно, какое-то время меня не было, а за неким сроком не будет вовсе. Оставайтесь монологичны, как луна, – в надежде, что ее ежеминутно читают…
– В самом деле, против меня стояло стеной – многоочитое стекло, в нем город терял высоту, упадая – в раскатистый оркестровый ров, где металась в агонии и стихала музыка жизни, и крыши возвращались за рампы фонарей – повторяющимся в фиксатуаре крылом рояля, и упорствующим в ощипе – крылом арфы, и грифами тьмы, и какие-нибудь арапники, приструняя створки скрипок, твердо взмывали на звезду, да, не в пример… если не счесть звезду – бельмом, и небо – гомерическим слепцом. Но – продолжение падения: вхождение оркестрового рва – в кладбищенский, в разметки его трапезы – стопки окон, наполненные мертвым сном и накрытые черствым карнизом, и выклеванные буханки-чердаки, и облупленные яйца лунного света…
Подробности стены, разделившей караулами стекол мои охоты и дарившей мне в прямую трансляцию – непрерываемое шествие времени. Меж суходолом рам – воздушные переходы нежных минут, или погорельцы в душегрейках облаков, унося из лоскутной флоры дыма – последние поджилки и пожитки: надтреснутую чашку и цветок – лазурь и розу … И тянулись гуськом в ручьи разора – сегодняшние масло и вино… Катился пробный шар луны, точнее – пробное сито зимы с мотыльками сахара, с сахаром мотыльков. И за ними спешила и уже облачалась на ходу в траур ночи – моя почти победительная жизнь… Словом, процессия золотых малюток, несущих все самое ужасное и неприглядное, что известно им обо мне, – постыднейшее ничего, продуцирующее – мрак. Посему быстролетность пространства садилась, дальнейшие надо рвом коньки, они же грифы, недомогали, коптили… и все обретало широкий цвет смертной тоски – и было сокрушено.
Мне открывалось – выжимать из глаз остывшую жадность и сносить побивание громами, чтоб чтить – другие бессонные ассонансы, кроме шествия времени – и моей охотной версты, сверстанной между прочим – между экономией и цейтнотом – черной, без канители отстояний – просчетов, разлук, так что все по обочинам охоты стиралось.
Как преследуемый мной город, чьи детали укрыты в дьяволе, представая мне – либо в тот же час, но уже разграбленными, либо – в том же средоточии, но уже – обойдя меня… хоть открыты глаза мои, а не видят. Сплетать минуты в венки… Свивать малюток – в поход за правдой… Похоже, я только и повторяюсь?
– Чрезвычайно похоже.
– Помнится, время уходит, пока длится время… или наоборот: пока длится время, оно… В общем, моя жизнь покидала меня из семи углов земли, смешавшись с населением, как лесные братья, или смешавшись с временем, посему начинала свою глиссаду – в каждый миг заново.
Мои фланерства по брошенному этажу, вдоль нищеты и бесправия – встречать лестницу, которая возвращается из всякого сожженного города, отпущенного – троянскими коньками или троллейбусами, считать выплывающие de profundis – ее галеры на веслах балясин, и плоты неисследимых ступеней. Дуть в бумажный фитиль – у русла несущей лестницу краеугольной стены, прозрачной – или правдивой – от парадиза до корней улиц, вросших в ад, от воздаяния до преступления, меж коими отразила – столько минутных правд, что утеряла неотвратимость и нашла невинность. Потеряна поступательность между зачатием и смертью…
Там же – двойничество неисцелимого тополя, кто во втором пришествии стекла и камня, во втором уложении – открылся единым в двух столпах, первый – язычник, другой – злоязычник, но брат стережет брата, чтобы прилюдно и призрачно наслаждаться скорбью о прошлом и безжизненном будущем – и вожделеть к невозможному … И во все щели, во все прорывы тополя ввернуты сердечком записки с желаниями, перлюстрируемые ветром или тяготеющие – к творчеству молодых: к желтизне и полету. Возможно, сей выдолбленный из тополя катамаран, торжественно длящий себя – в фаворитах гонки, расходован на сновиденный прожект – и посильный: одеревенелый сонливец, посадивший на шею – гугнивое гнездо… Первый ствол – дивный отрок, а второй – подхвативший его поток, и чем глубже один повержен своим отражением, тем больше другой – мастерством стилизации или отчужденностью всякой формы.
И, упорствуя в щипаных метафорах, следить подольстившийся к проспектному – переулочный ров, его двусторонний список плоскодонок, тускнеющих на слете с пюпитра – под стан проводов, и как отходят одна за другой… как внизу, в витражах бара, электрические деревья подманивают жгущим плодом и, не дождавшись жрецов, кончают самосожжением… Как полустертый и смятый переулок, разыгранный по тлеющей на углах зданий аппликатуре… если сии адресные цифры – не промотавшие округ часы… И большой проспект, на который пошел огромный объем материи: толпы, железо – уже барханы в бесчисленных блуждающих огнях. Смешавших и завертевших – золотой свет, что водил меня по непрозрачным улицам, а кого-то – по верхним стенам… И отринут нами предел, но свобода преступить его смешалась – с несвободой. Жаль, что запрет, нарушить который – по крайней мере, сегодня – уже невозможно, столь же невозможно нарушить – и завтра.
– Обещаю вам, что мое безжизненное говорение еще выправится – в тот болеутоляющий снег… Как только мои вечерние засады на посыпанной иглами полосе и на другой удалой, где у круглых букв выколоты глаза, сойдутся – с охотой на аркадского оленя… Ибо то шли – пристрелки, гон на месте, но моя мечта была – успеть за священным животным, посвященным – всем вожделениям, именем же – автобус одиннадцатого часа. Однако стрела пути, посланная – через головы, исправно сбивалась, и моя судьба почитала опираться – не на меня, чьи принципы не стойки, и обстоятельства расхлябанны и кружат, но – на фундаментальный проект. На жертвованные мной большинству – стандарты: долги, обязанности и прочее предсказуемое. Последняя верстка расстилалась передо мной – значительно позже моих надежд. И поскольку машины ниже автобуса угнетали меня – некоторой зауженностью в средствах, особенно – в слове, приходилось довольствоваться – лишь смутными транспортами из половины двенадцатого и еще менее хлебосольной тьмы.
Да, вот что предшествовало – высокому пламени, которое нисходило ко мне в иные полночи той зимы. Город, чей пик – луна, а основание – снег: основан – скребущим сердце и всю задушевную кладь когтем льва. Постнейшее ожидание – продолжения пути или, напротив, – вторжения большего, чем я, Зла. Балансирование между крайней стойкостью луны и снегом неверия, между временем: на ледяной филенке улицы, разломившей город на вчерашний и завтрашний – между моих подошв… Взгляд пристыл к жерлу дороги, к неустанному собирательству из отнесенных в завтра огней – иероглифа автобуса, без конца расползающегося… Облаченные в островерхую белизну улицы – ряды ку-клукс-клана, несущего пламенный крест единой дороги, пошедший на рой огненной твари… По счастью, то была – не самая вещественная зима, кое-какие числа отбеливали и прохлаждали ее формы – до несуществования. И любая неполнота – несомненная отсылка к той зиме. Очищение храма – от любострастных менял и пачкунов-голубятников… о, сколько я соперничала с гулявшим бичом поземки – в алчбе, и в гадливости, и в бессрочности рук, отталкивающей братьев, рассыпая побежки – за выменянным в храме или в калашных лавках и покатившимся сквозь пальцы… И была подобострастна и изобретательна, как ночной светофор, имеющий под луной – одно око: желтое. Так надеясь спасти уже отлученное – рассыпанные по селитьбе приметы, воробьиные позывные, из которых слагаются – те минуты, в которых мне стоял огонь небесного города.
АВТОБУСЫ «ПОСЛЕДНЕЕ ТЕРПЕНИЕ» И «ПРИЮТ МРАКА»
Вот, наконец, – обмороженные и полупустые
транспорты, чтоб захлопнуть
докучающих одиночеству странников.
Вот цикличные окна, что хранили
набор нескольких черепашьих улиц —
код моего возвращения к началу пути,
и вот мое ужасное открытие:
их затухающий текст настолько слеп,
что практически утрачен,
и мое возвращение отнесено —
в область гадательного.
Эти заезженные зеркала занавешены —
рентгеновскими снимками зимнего дня,
умиравшего в разных проекциях
и в разных мгновениях, уложениях вечности,
ни в одном из которых я не читала
над этим чудным днем молитвы или
старослужащие стихи, чьи рифмы
отнесены ветром к началу строк
и складывают – утро прощания.
Линии его похождений талантливы и самозабвенны —
ни одна не приходит к какой-нибудь цели.
День сей был – вертопрах и, похоже,
эротоман: он беззастенчиво следовал
за харитами, только и повторяются
изгибы, холмы, опять изгибы,
и в конце концов они усыпительны —
ни там ни тут я не существую.
Жаль, что он выбрал погоню за несбыточным,
а не главный наказ: плодитесь и размножайтесь —
и больше никогда не повторится.
Но обмороженные и полупустые транспорты
все терпят и терпят свой путь.
Их редкие пассажиры всегда подозрительны
и разобщены. Одни, как я,
идут от преследования догоняющих их
где ни попадя радений о чепухах…
Суть не в фактах труда,
кричит им вдогонку неотступный труд,
но в интерпретации фактов!..
Другие отлепили себя от Вакха,
с которым работали воздушный полет,
и погружены в глубину
философского осмысления материала,
но срываются в мелодекламацию и теряются
в своем недоприземлившемся организме…
Третьи внесли в сей побочный город себя
и укупоренный обломок родового гнезда —
едва сейчас или едва внесли: автобус
вызван из тьмы в воспаленном круге вокзала
и стал его странноприимной метафорой.
Четвертые плохо отопленные тела,
чьи посиневшие кисти помечены инициалами,
а капельные веки и нос посвящены
соли земли, тоже неукорененные – оборванцы
в кухлянках из оленей снега, в лунных рогах.
Наши организмы усваивают только оленя,
а яблоки и прочая дребедень нам без пользы.
Они усваивают – только снег: изнанку счастья…
Эти ничего не умеют приращивать —
кроме дороги вдоль завороженного ими холода.
Им некуда торопиться, но, не в силах преодолеть
порочной склонности к излишествам,
они крадут недолгий автобус.
Выстуженный притон полон для них
развратного тепла, хотя
сравнить ли сладкоречивый ветер —
со скверноклювом-кондуктором?
Крадут – спасительный перешеек,
заведение, всем дающее на последний грош —
короткое счастье.
Как-то в наш транспорт вошел человек
с зимними звездами на скулах
и с горкой звезд на плечах.
Его язык замерз от длинного молчания
и грассировал, когда он справлялся
о назначении пути.
И я догадалась, что зима случается
лишь затем, чтобы догнать его звезды.
И что вьюга – лишь подражание
расстроенной струне его Р.
– В одном принявшем меня транспорте древовидное от заноса в складки и прогоркшее гарью существо вдруг отряхнуло шершавый сон и строго вопрошало меня, какой нынче день? Голос был не труба и не гусли, но определенно – скрип затворяемой темницы. Впрочем, день уже умер, и я, ощутив себя провозвестником, объявила – завтрашний день. Существо застыло в складках древа и вновь ожило и вопрошало: – А какое число?.. – не замедлив бормотать: я весьма надеюсь, время кончилось… Что-то смущало меня в микрофлоре конвульсирующего железного павильона.
Фланговый, на сидении у входа, был гривистый карлик при острой, как меч, трости, физиономией дерзок и беспощаден. Его освобожденную от покрова голову прокалил – чудовищный рыжий, кропотливо прожевавший все фитили волос. Рядом с ним поместился некто мрачнейший, несущий на спине горб – не то припрятанную пшеницу, не то камни, облачен же был в надруганную шкуру черной овцы. Ношу сию или шкуру караулила низовая собака – фактурой космата и дымовита – и пускала из пасти серу, и поганила покой духом зверя. Впереди воплотился нечеткий младенец и держал дремучий вопль всех мучеников ада. Послушный некоему ритму, то и дело выпрастывался он из пелен и над плечом сжимавшей его недвижной, хохлившейся горой бледной фигуры обращал к публике – заячью губу, еще не заштопанную… или – уже расщепленную: кратер, извергающий из его лица – алое мясо крика.
Но как случайно мне послали борт истинных монстров?
– И последнее испытание: переход забранных во фрустрацию этой и близлежащей ночи, посему безжизненных, проходных дворов – под уплощившимися и слившимися многими стенами, лишь единожды и трижды усмотренными вверху – вспышкой и метеором, по опасным и слепорожденным местам чьих-то снов. И неистовые обитатели сих пределов – тысячи страхов выпрастывались на-гора, устроив сходку на узкой заимке моей души, когда душа проносила меня – именно здесь, и грубили, не зная послабления своей чащи. Изъяснением же имели – выпрядаемые из метели вой и всхлип и длиннейше разрезаемое стекло – и все, что тянется, а телом – спираль над коростами снега и смерч и хаос. И подзуживали – громаду чужих шагов у меня за спиной и захлест моей крадущейся по костяному насту тени – превышающими ее Эриниями, выгоняли на снег – розы, сглазившие кровавый лабиринт и разворошенные до гортани… перетаскивали через нескончаемый шорох – тучные рулоны могил… И тушили новые окна – из пожарной кишки собственной аорты.
Избавление от певчих черной службы – не всегда, но всегда – внезапно, и оно – благодать середины пути, да не упустится бросить на снег – эту тающую середину, но дорога ночи за ней – вдруг чиста и отвесна.
И вставали – протяжный, как выдох, холм, уже сдувший с себя все следы, и на холме – лицей или гимнасий, нанизав на масляный накал пустыни – классы и студии, окружив полупризрачные стены свои – не рвом, но равновеликими и светлее сна – полянами… Здесь, на возвышенности и дальше, в торжественном сиянии… Представьте за лицеическим корпусом, над подмятыми ночным дымом дворами, в сердечной чаше холма или в улье – пчелы капель, и премногие воды, проведенные алхимиком в серебро и в рождественское, восковое и медовое яблоко, и в алмазный купол льда, и вяжут повторяющимися кругами и гранями – виноградники низких, свежих звезд. И иногда на покатом круге – несколько детей на коньках, стесняя тишину почти неразбавленными от звона голосами. Принявшие образ отроков-пастухов – за отдыхом, за сбором растущих в ночи зубчатых, колючих ягод. Кто эти летучие, нежные пастухи и почему – в такой неправдоподобный час, вырезая при горних факелах ветвистые силовые линии – картографию надстоящих садов? Какие предстатели и попечители могли пустить детей на каток – в полночь? А если команда юниоров – беспризорна на земле, дети воздухов, не ведающие земных родных, откуда у них коньки? Право, не споткнется язык мой, сказавший: не знаю, кто сии – юные, пожинающие серпами коньков своих и несущие мне высокую весть.
– Но все имена, подаренные вами конькобежцам, конечно, случайны…
– Возможно, и я на том холме и дальше – уже не я, но – сырая форма, то и дело меняющаяся. Некто, вообразивший себя – соглядатаем – и, естественно, доносителем и лжесвидетелем – и больше никем, посему, ища всеохватности, смиренно принявший – и свою андрогинность, и полнейшее развоплощение – неучастие в событиях мира сего – ради… да, да, все того же, ничего не стоящего ни по гамбургскому счету, ни по прочим другим… Но в те полночи, что я видела на холме – юных, шествующих по твердым в серебре своем водам, мне становилось ясно: ночи не будет. И когда я пройду до середины – темной зимней дорогой, а дальше – вдруг осиянной, и проникну в мою болящую слоновостью башню, приблизительный донжон, я увижу …
Возможно, Представший – из той третьей или бессчетной истории, где по городу бродила процессия злых детей, а за ними настилали пути свои и крикливо предавались раскаянию – переросшие их мужи и жены… или – из той десятой бессчетной… где стройно шествовало прочь выхолощенное и невозвратимое время… И в какой-то он был повержен, а в последней был – победитель. Во всяком случае, Представший был – из глубины, и в нем пресуществился – весь мелькнувший и недооформленный здесь сюжет, ибо он, несомненно, представительствовал – за основных фигурантов… собственно, один – в трех лицах. И хотя между тем, кто предстал мне, и мной стояло – несчастье, и хотя начало истории мне в самом деле казалось кошмаром, последний сон был – о блаженстве.
С первого слова и навсегда мне не дозволялось – умалять предстояние, но чтить – неумолимый, анахроничный припек, проход между нами выпитой реки, сам воздух, внезапно ставший прозрачным и разрешивший мне – видеть… Да и к чему налаживать линейную связь? Кстати о главном моем прохлаждении – несклонности осязать стеснившуюся утварь мира, о неприятии и химерически выпуклого, и не менее вогнутого, не говоря уже – о безучастном ровном… что за излишество, все равно мои пальцы не чувствуют, пропуская лишь подледное электричество и ужас – мой, или прикосновенного, или – свидетельствующего оцепления, и, начиная с сего десятикратно повторенного перста, я могу превратиться – в камень. Но смотреть, смотреть – проецировать? – ангельскую красоту его! Поскольку и солнце и луна возобновляют паломничества свои – там, где я смотрю рыбацкую сеть темных волос его, веселую грозовую тучу, нисходящую на плечо или на крыло храма… где жадно смотрю в снегири глаз его – и обожаю надменное русло губ, готовых карать или так ослепительно – одарить… И вдруг замечаю – полное исчезновение тени от высокой, сухой фигуры, чей тайный остов – возросший надо мной куст с дождем стволов, куст флейт, и бегут, обгоняя друг друга и перехватывая – шатровый купол листвы… или бегущие шпили, перехватывая – надземный град. И гуляет запах снега и мирры из рассеченных звезд… И пока эфир посыпает золотым мотыльком каждое его движение, пока у меня есть не один лишь узкий проход времени, но пространство, где я могу обожать крупные, кустарные пятиконечные звезды рук его, мне снится – я прошу пришедшего прикоснуться к пустым листам на моем столе.
И потом, после, когда уже – никого, и я одна и думаю о чуде присутствия сего, и жадно вдыхаю и слизываю рассыпанный всюду свет и мирру, витая бог знает где, возможно, в вымыслах, я вижу: после того прикосновения на листах горит звезда… и едва ли решусь осквернить их – своей рукой. А впрочем, в других моих снах…
Вероятно, здесь можно прерваться – кто-то из собеседников вдруг, естественно, обнаружит, что он – один, а другого и след простыл.
Не подозревая время в линейности, я не помню, что чему предшествует и как должно – и должно ли – завершиться. Какие отроки прежде – шествующие по водам или по тверди, и какая их почта была первой, а какая всегда свежей – весенней… впрочем, обе были – известны заранее. И кто из героев был отмечен – той прохватывающей красотой… Остается вторить и повторять – упавшую на лист звездой тень его… и чертить на земле – его путь, вести по этому плану улицы, повторять золотую полосу на верхних стенах и впустить целую зиму, чтоб найти в несметных звездах – подобные тем, что… et cetera.
Это бывает – просто так… беспричинно, незаслуженно, неизвестно почему. И уходит столь же безжалостно. И мешает увидеть что-то еще. Dixi.
– Это произошло в какой-то из дней?
– Просто зима. Ночь. Это происходит всегда. Это было чудо.